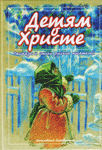Вступление
Русская классическая литература в своих лучших образцах всегда была пронизана светом Христовым. Рассказы и стихи прозаиков и поэтов XIX–XX веков, посвященные Пасхе и Рождеству, молитве к Богу и милосердию к ближнему – это не только совершенные художественные произведения. Это еще и – настоящая христианская проповедь, которая лучше всяких слов свидетельствует о духовной основе всякого подлинного творчества.
Фрагменты
Зверь — Н.С. Лесков
(из цикла «Святочные рассказы»)
Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.
Матушка моя тогда была еще очень молода, а я – маленький мальчик.
При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, – мне было всего только пять лет.
Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.
Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.
Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.
Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.
В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.
В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.
Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.
Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.
Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий.
Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.
За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.
Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».
Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.
Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.
Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.
Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.
Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по бревну) на поляну, и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.
Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером [1], и, прицелясь «с сошки» [2], посылал медведю смертельную пулю.
Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.
Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи, или медвежьей казни, не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона [3] или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиньим пером или с соломенным пучком вроде султана.
Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.
Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки [4] он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.
Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – на казнь…
Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:
– Пойдем, зверь, со мною.
Медведь встал и пошел, да еще что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.
Они таки и были друзья.
Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.
Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.
В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.
Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастие, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.
Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.
– Слава Богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.
Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.
Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.
Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.
Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.
Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.
Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокаивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.
Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь – тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге [5].
Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божии создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.
Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.
Когда вошел дядя, причт запел «Христос раждается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.
Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиха.
Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами [6] и паперсями [7], убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.
У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.
Тайников этих не было видно, и на некоторые указывали только едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.
Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников [8], у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские штрабусы, немецкие моргенраты, английские мортимеры и варшавские колеты [9].
Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака [10] на вальтрап [11] белый платок.
Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.
Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!
Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»
Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделились человек десять и пошли вперед через поле.
Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.
Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.
Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.
Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.
Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел.
Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.
Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.
Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке [12] для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.
Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.
Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но… медведь опять-таки не показывался.
До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».
Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад… Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.
Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.
Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю…
И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму…
Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.
Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.
– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.
Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.
Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.
Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель… Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и… теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из подмышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку…
Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.
Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре [13] к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.
Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенные из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.
Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой… Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.
Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль Бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.
Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.
В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.
Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.
Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.
Меткая пуля все могла кончить смело и верно.
Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.
В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и… как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.
Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замёт [14], за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки…
Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и… медведь убежал в лес, а Храпошка… упал без чувств.
Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.
Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены…
При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.
Тем не менее – Сганарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.
Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ – завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.
Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.
Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.
Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.
Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.
Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Ферапонта.
На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.
– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.
Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:
– Молитесь рожденному Христу.
С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.
Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.
Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.
Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.
Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.
Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.
Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос раждается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «срящите» [15] и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного Отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности [16]. Дар наш – наше сердце, исправленное по Его учению [17]. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»… И думается мне, что слово его в тот час было убедительно… Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы…
Вдруг что-то упало… Это была дядина палка… Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки… Но вот он уронил и ее, и… ее никто не спешил поднимать.
Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал!
Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.
Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:
– Спасибо.
В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.
Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.
– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер.
Храпошка подошел и упал на колени.
– Встань… поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю.
Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:
– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии.
Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.
– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.
– Что?
– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.
– Чего же ты хочешь?
– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.
Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и… все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза… Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава Вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.
Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:
– У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.
Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.
Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.
Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укротитель зверя».
Елка Митрича — Н.Д. Телешов
Был канун Рождества…
Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:
– Ну баба, какую я штуку надумал!
Аграфене было некогда; с засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.
– Слышь, баба, – повторил Митрич. – Говорю, какую я штуку надумал!
– Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! – ответила жена, указывая на углы. – Вишь, пауков развели. Пошел бы да смел!
Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:
– Паутина не уйдет; смету… А ты, слышь-ка, баба, что я надумал-то!
– Ну?
– Вот те и ну! Ты слушай.
Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.
– Я говорю, баба, вот что, – начал он бойко, но сейчас же запнулся. – Я говорю, праздник подходит… И для всех он праздник, все ему радуются… Правильно, баба?
– Ну?
– Ну вот я и говорю, все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут… У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет, – правильно?
– Так что ж? – равнодушно сказала старуха.
– А то, – вздохнул снова Митрич, – что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника… Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого… Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты… ни матери, ни отца, ни родных… Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое – всякому человеку радость, а сироте – ничего!
– Тебя, видно, не переслушаешь, – махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.
Но Митрич не умолкал.
– Надумал я, баба, вот что, – говорил он, улыбаясь, – надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал… И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко… срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?
Митрич весело подмигнул и чмокнул губами.
– Каков я-то?
Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.
– Нет, каков, баба, умысел, а?
– А ну те с твоим умыслом! – крикнула она на мужа. – Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!
Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.
– Ладно, баба! – проговорил он загадочно. – Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю – и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..
– Видно, делать-то тебе нечего.
– Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою – и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!
И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.
По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы… С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их было так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.
– Вот уж непорядок, так непорядок! – рассуждал Митрич, пожимая плечами. – Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?
Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.
– Ты чей такой?
Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.
– Как тебя звать?
– Фомка.
– Откуда? Как деревню твою называют?
Ребенок не знал.
– Ну, отца как зовут?
– Тятька.
– Знаю, что тятька… А имя-то у него есть? Ну, к примеру, Петров или Сидоров, или, там, Голубев, Касаткин? Как звать-то его?
– Тятька.
Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.
– Родителей-то, знать, потерял, дурачок? – говорил он, гладя ребенка по голове. – А ты кто такой? – обращался он к другому ребенку. – Где твой отец?
– Помер.
– Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?
– Померла.
– Тоже померла?
Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами.
У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.
«Божьи дети!» – называл их Митрич.
Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у богатых людей.
«Сказано, сделаю – и сделаю! – думал он, идя по двору. – Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»
Прежде всего он отправился к церковному старосте.
– Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.
– Что такое?
– Прикажите выдать горсточку огарков… самых махоньких… Потому как сироты… ни отца, ни матери… Я, стало быть, сторож переселенский… Восемь сироток осталось… Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.
– На что тебе огарки?
– Удовольствие хочется сделать… Елку зажечь, вроде как у путных людей.
Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.
– Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? – проговорил он, продолжая качать головой. – Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?
– Ведь огарочки, Никита Назарыч…
– Ступай, ступай! – махнул рукою староста. – И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!
Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:
– Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе… Пусть бы порадовались… ни отца, стало быть, ни матери… Прямо сказать: Божьи дети!
В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:
– Какой же тут грех?
– А Никиту Назарыча слышал? – спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. – То-то и дело!
Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:
– Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!
– А каких тебе огарков-то?
– Да все одно… хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери… Прямо – ничьи ребятишки!
Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник.
«Ну, теперь ладно! – весело думал Митрич. – Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»
Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.
«Восемь детей, – рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, – стало быть, восемь конфет…»
Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.
– Ладно, баба! – подумал он вслух. – Ты у меня посмотришь! – и, засмеявшись, пошел навестить детей.
Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:
– Ну, публика, здравствуй. С праздником!
В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.
– Ах вы, публика-публика!.. – шептал он, утирая глаза и улыбаясь. – Ах вы, публика этакая!
На душе у него было и грустно и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.
Был ясный морозный полдень.
С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя – водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.
Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.
– Ну, публика, теперь смирно! – говорил он, устанавливая елку. – Вот маленько оттает, тогда помогайте!
Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:
– Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..
Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели… Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза.
Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.
– Ну-ка, ты, кавалер! – обратился он к мальчику, стоя на табуретке. – Давай-ка сюда свечку… Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.
– И я! И я! – послышались голоса.
– Ну и ты, – согласился Митрич. – Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое… А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите… Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?
Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:
– А ведь… жидко, публика?
Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:
– Жидко, братцы!
Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.
– Гм! – рассуждал он, бродя по двору. – Что бы это придумать?..
Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.
– А что? – сказал он себе. – Правильно будет или нет?..
Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»…
– Детишки они малые… ничего не смыслят, – рассуждал старик. – Ну, стало быть, будем мы их забавлять… А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!
И не долго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.
– Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! – весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. – Ай да затейник!
Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:
– Правильно, публика!.. Правильно!
Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:
Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!
– Ну, баба, теперь закусим! – сказал Митрич, кладя гармонику. – Публика, смирно!..
Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы, и наконец, скомандовал:
– Публика! Подходи в очередь!
Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.
– Каков, баба, я-то? – спрашивал он, указывая на детей. – Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!
Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!
Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не понимал, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник.
– Публика! – воскликнул он, наконец. – Свечи догорают… Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!
Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:
– Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать, правильно!..
Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «Божьих детей».
Елку Митрича никто из них не забудет!
Чудесный доктор — А.И. Куприн
Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.
– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то… Смеется… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травка во рту, ей-Богу, травка!.. Вот штука-то!
И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала… Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую, оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.
Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:
– Ну, Володя, идем, идем… Нечего тут…
Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки… Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.
По мере того, как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры… Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее.
Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.
– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.
– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.
– Ну, и что же? Что ты ему сказал?
– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда… Сволочи вы…»
– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!
– Швейцар разговаривал… Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время ваши письма читать…»
– Ну, а ты?
– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего… Машутка больна… Помирает…» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-Богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.
– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.
Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:
– Вот оно, письмо-то…
Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:
– Там борщ есть, от обеда остался… Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем…
В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.
Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.
В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим… Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.
Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов… Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег… Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.
Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.
– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.
Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.
– Все равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще… Хоть милостыню попробую просить.
Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.
Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.
Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.
Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.
«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.
«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:
– Вы позволите здесь присесть?
Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.
– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно… тихо. Что за прелесть – русская зима!
Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.
– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.
Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:
– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я… а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел… Подарочки!..
Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:
– Подождите… не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.
В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.
– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!
Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.
– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.
И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом… Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:
– Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку… давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание… Продолжайте согревающий компресс… Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.
Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.
Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:
– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!
И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:
– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!
Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…
В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».
Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:
– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.
Волхвы — И.А. Бунин
(из «Провансальских пересказов»)
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему…» [18]
Старый провансальский поэт рассказывает, как они, детьми, встречали волхвов на зимней, пустынной Арльской дороге.
Он рассказывает приблизительно так:
– Дети, – говорили нам матери в канун праздника волхвов, – если вы хотите видеть их шествие к Младенцу Иисусу, идите скорей им навстречу: уже вечереет. И несите им какие-нибудь дары…
И вот мы бежим, бежим по большой дороге на Арль.
– Дети, куда это вы так спешите?
– Навстречу волхвам!
Мы бежим в наших провансальских колпачках, в маленьких деревянных сабо, с бьющимся от радости сердцем, жадно глядя в даль, в нашем воображении уже полную дивных видений, прижимая к груди наши дары: лепешки (для самих волхвов), сушеные фиги (для их слуг и рабов), пучки сена (для их верблюдов)… Свищет ветер, холодно. Зимнее солнце склоняется к Роне. Ручьи подернуты ледяной коркой, трава по их берегам померзла. Краснеют безлиственные ветки ив, по ним зябко прыгают красношейки… И ни души кругом – разве какая-нибудь бедная вдова с вязанкой сухого хвороста на голове или старик в лохмотьях, который шарит под колючим кустом: не попадется ли улитка?
– Куда это вы, дети, так поздно?
– Навстречу волхвам!
И опять вперед, еще резвей и веселей, вприпрыжку, бегом – по бесконечно белеющей дороге, выметенной зимним ветром. Крик, песенки, смех, головки назад – совсем молодые петушки…
А день уже на исходе. Колоколенка Майана давно скрылась за черными остриями кипарисов, кругом только голая, пустая равнина. Мы зорко рыщем по ней глазами: ничего, кроме игольчатых клубков перекати-поля, что мчит, крутит ветер по жнивью!
Впрочем, порой встречался какой-нибудь запоздалый пастух, который, завернувшись в свой истрепанный плащ, гнал домой свою отару.
– Дети, куда это вы в такую пору?
– Навстречу волхвам… Не можете ли сказать, они еще далеко?
– Навстречу волхвам? Ах да, правда, правда, нынче ведь канун их праздника… Они уже близко, вы их вот-вот встретите…
И опять вперед!
Но вот и совсем вечер. Солнце, преследуемое зимними облаками, спускается все ниже и ниже. Мы смолкаем, нам уже немножко жутко. Ветер еще резче дует навстречу, мы бежим уже не так резво… И вдруг:
– Вот они!
Из груди у нас всегда вырывался в этот миг безумнорадостный крик – и дивное, царственное великолепие ослепляло наши глаза: блеском, торжеством роскошнейших красок вдруг загорался запад. Там полосами пылал пурпур, золотом и рубином горел солнечный венец, раскидавший в зенит неба свои длинные зубцы-лучи…
– Волхвы! Волхвы! Видите венец, корону? Вон мантии, знамена! Вон кони и верблюды!
И мы замирали в изумленье, в восторге. Но не проходило и минуты, как все это великолепие, вся эта слава и роскошь гасли, исчезали, и мы снова, в большом разочаровании, оказывались одни, в сумерках, в поле.
– Где же они, где?
– Прошли за горами!
Стонала совка. Нас охватывал страх. Мы со страхом спешили назад, домой…
– Ну, что же, видели волхвов? – спрашивали нас дома.
– Нет… Они прошли далеко, за горами.
– А вы шли по какой дороге?
– По дороге в Арлатан.
– Ах, дурачки, дурачки! Там волхвов никогда не встретишь, нужно было идти по старой римской дороге… А если бы вы знали, что это за красота, когда они входят в Майан! Трубы, барабаны, слуги, рабы, верблюды… Теперь они уже в церкви, в вертепе, поклоняются Младенцу Иисусу. После ужина бегите скорей в церковь…
И мы наспех ужинали, бежали в церковь. Церковь была уже полна, блистала огнями алтаря, звездой, сиявшей над ним, и ярко озаренным вертепом, где волхвы в своих разноцветных мантиях – красной, синей и желтой – уже поклонялись Младенцу Иисусу, полагали перед Ним свои дары: Гаспар – злато, Мельхиор – ладан, Валтасар – смирну… И, как только мы входили, пробирались вперед между женских юбок, орган, сопровождаемый пением всех молящихся, медленно зачинал, а потом широко и грозно раскатывал свои мощные звуки величавый рождественский гимн:
Нынче, в утренний час,
Встретил я на большой дороге
Караван трех великих волхвов…
Желание — Оптинский старец, прп. Варсонофий
Давно в душе моей желание таится, –
Все связи с миром суетным прервать,
Иную жизнь, – жизнь подвига начать:
В обитель иноков навеки удалиться,
Где мог бы я и плакать и молиться!
Избегнувши среды мятежной и суровой,
Безропотно нести там скорби и труды,
И жажду утолять духовной жизни новой,
Раскаянья принесть достойные плоды,
И мужественно встать в победные ряды
Великой рати воинства Христова.
«Не первый год у этих мест…» — Афанасий Фет
Не первый год у этих мест
Я в час вечерний проезжаю,
И каждый раз гляжу окрест
И над березами встречаю
Все тот же золоченый крест.
Среди зеленой густоты
Карнизов обветшалых пятна,
Внизу могилы и кресты,
И мне – мне кажется понятно,
Что шепчут куполу листы.
Еще колеблясь и дыша
Над дорогими мертвецами,
Стремлюсь куда то, вдаль спеша,
Но встречу с тихими гробами
Смиренно празднует душа.
Христославы — А. Коринфский
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое где огни по окнам,
Словно звездочки горят;
на огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят.
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы; Христославы!»
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре,
так таинственно чиста,
так отрадна, весть святая
О рождении Христа…
«Мы безумно молимся подчас…» — архиеп. Иоанн Шаховской
Мы безумно молимся подчас
И хотим того, чего нельзя нам.
И душа идет у нас туманом,
Вера есть, а света нет у нас.
Ночь цветет последними огнями,
Утаясь меж бдением и сном.
Подари нам, Боже, это пламя,
Огненный язык в саду ночном.
Владислав Ходасевич
Путем зерна
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
Бегство в Египет — Иван Бунин
По леса бежала Божья Мать,
Куньей шубкой запахнув Младенца,
Стлалось в небе Божье полотенце,
Чтобы Ей не сбиться, не плутать.
Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымились,
По кустам сверкали без числа.
Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.
А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.
И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.
«Мечта моя! Из Вифлеемской дали…» — В. Ходасевич
Мечта моя! Из Вифлеемской дали
Мне донеси дыханье тех минут,
Когда еще и пастухи не знали,
Какую весть им ангелы несут.
Все было там убого, скудно, просто:
Ночь; душный хлев; тяжелый храп быка.
В углу осел, замученный коростой,
Чесал о ясли впалые бока.
А в яслях… Нет, мечта моя, довольно:
Не искушай кощунственный язык!
Подумаю – и стыдно мне, и больно:
О чем, о чем он говорить привык!
Не мне сказать…
Овца — Владимир Набоков
Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул – и было
Виденье между черных скал.
Иосиф, плотник бородатый,
Сжимал, как смуглые тиски,
Ладони, знавшие когда то
Плоть необструганной доски.
Мария слабая на чадо
Улыбку устремляла вниз,
Вся умиленье, вся прохлада
Линялых синеватых риз.
А Он, младенец светлоокий
В венце из золотистых стрел,
Не видя матери, в потоки
Своих небес уже смотрел.
И рядом, в темноте счастливой,
По белизне и бубенцу
Я вдруг узнал, пастух ревнивый,
Свою пропавшую овцу.
Из поэмы «Владимирская Богоматерь» — Максимилиан Волошин
Не на троне – на Ее руке,
левой ручкой обнимая шею,
Взор во взор, щеку прижав к щеке,
неотступно требует… Немею –
Нет ни сил, ни слов на языке…
А Она в тревоге и печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где закат пожарами повит.
И такое скорбное волненье
В чистых девичьих чертах, что лик
В пламени молитвы каждый миг,
Как живой, меняет выраженье…
В раскаленных горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
И из всех высоких откровений,
Явленных искусству, Он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век,
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междоусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой над Русью вознесенный
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный…
Рождество — митр. Владимир (Сабодан)
В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
А где то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Осуждают новый закон.
И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.
Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет –
С галилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.
Риза Господня — Александр Солодовников
И в старину, и вчера, и сегодня
наша земля – это Риза Господня.
Благословенна земная плоть –
В тело земное облекся Господь.
Благословенно реки теченье –
В реке совершалось Господне крещенье.
Радуйся, поле зерна золотого, –
Хлебом является Тело Христово.
Радуйся, сок виноградной кисти, –
Вином изливается кровь Евхаристии.
Благословен синеокий лен –
Изо льна был соткан Господень хитон.
Благословенны земные цветы –
В них видел Христос венец красоты.
Благословенны малые дети –
Им первым обещано Царство в Завете.
Благословенны земные дороги –
По ним проходили Господни ноги.
Радуйтесь, птиц пернатые стаи, –
Сам Дух Святой голубкой витает.
И в мысли, что Дух проникает материю –
Нет ни язычества, ни суеверия.
Недаром Господь, исцеляя слепого –
Использовал брение праха земного.
И тяжко больных посылал не к врачам –
А только умыться водой в Силоам.
Доныне в тоске по целительной силе
Старушка песочек берет на могиле.
И глядя на лик чудотворной иконы –
Кладет с воздыханьем земные поклоны.
А мы припадаем к священным мощам –
От них как то ближе к бессмертию нам.
Так будь же свята и блаженна земля –
Долины и горы, моря и поля!
И в старину, и вчера, и сегодня –
Земля наша – светлая Риза Господня!
Рождество — Григорий Зобин
Вот и скатерть на столе.
Нынче праздник на земле,
Тот, который нам сияет
Даже в самой смертной мгле.
Плещет древо за окном,
Будет песня, будет дом.
Будет горечь, будет радость –
Все мы с ним переживем.
Нынче вся земля светла,
И звонят колокола,
И ровнее бьется сердце,
И стройней звучит хвала.
Жница — В. Серебряков
Бедная женщина хлеб убирала
на полосе в знойный день.
Остановилась, вздохнула устало:
«Хоть бы какая то тень
пала на землю от маленькой тучи…
Сердце тревоги полно –
выгорит все от жары неминучей,
вытечет наземь зерно».
Женщина молится, женщина трудится.
«День бы иметь про запас.
Что же мне делать, Матерь Заступница,
завтра ведь Яблочный Спас?
В церковь хотела пойти помолиться,
детям плоды освятить…
В праздник теперь мне придется трудиться,
жатву нельзя отложить».
Машет серпом. «Может, все же успею…»
Огненный стынет закат.
Слышится: жнет кто то следом за нею,
только колосья шуршат.
Ей бы взглянуть – да никак… Торопливо
сделав последний свой срез,
жница застыла, на скошенной ниве
с нею – Царица Небес.
– Бог Меня выслал тебе на подмогу.
Радуйся, добрая мать,
завтра уже не работай, а Бог
у день постарайся отдать!
Жатвы окончено трудное дело.
Жница поблагодарить
искренно Деву Марию хотела
да не смогла говорить –
будто свело уста, кончились силы…
На облаков пьедестал
серп Богородица свой положила –
месяцем он заблистал.
И растворилась в луче серебристом.
В сумерках виделся свет.
Долго еще с полосы своей чистой
жница смотрела Ей вслед.
Крестное знамение — Евгений Санин
Запомните, девочки,
Помните, мальчики,
Как правильно следует
складывать пальчики:
Три пальца щепоткой,
Два пальца – к ладошке.
Смотрите, креститесь не понарошке!
Молитва подарок — Евгений Санин
Этот стих одна старушка
Прошептала мне на ушко.
Ей его дала монашка,
И учить его не тяжко:
«Господь – моя отрада,
Господь – Спаситель мой,
Избавь меня от ада,
И будь всегда со мной!»
Я его запомнил сразу,
То есть, с первого же разу,
Так его слова просты!
А с какого раза ты?
«Тихая осень. Над Оптиной – синее небо…» — Г. Архипов
Тихая осень. Над Оптиной – синее небо.
Лица монахов настроены строго и свято.
Хлеба прошу я у Бога, насущного хлеба,
Хлеба насущного – из Гефсиманского сада.
В храме тепло – согревает акафист Предтече,
Волны распева нисходят на грешную душу.
Господи Боже! Спаси от мирского увечья!
Господи Святый, наставь на молитву послушно!
Светлый сентябрь врачует живительным блеском,
дух поднимает над кронами оптинских сосен;
Осень рисует свои монастырские фрески
там, где ходил по земле преподобный Амвросий.
Верую – мало единого страждущим хлеба,
тайно надеюсь на Богозаветное слово;
Словно ребенок, любуюсь на вечное небо,
Дабы сподобиться милости Духа Святого…
«Пылает за окном звезда…» — Сергей Кликов
Пылает за окном звезда
Мигает огоньком лампада:
Так, значит, суждено и надо,
Чтоб стала горечью отрада,
Невесть ушедшая куда.
Над колюбелью – тихий свет
И как не твой – припев баюнный…
И снег… и звезды – лисий след.
И месяц золотой и юный,
Ни дней не знающий, ни лет.
И жаль и больно мне спугнуть
С бровей знакомую излуку
И взять, как прежде, в руки – руку:
Прости ты мне земную муку,
Земную ж радость – не забудь!
Звезда – в окне, в углу – лампада,
И в колыбели – синий свет.
Поутру – стол и табурет.
Так, значит, суждено и – нет
Иного счастья, и не надо!..
Примечания
[1] Штуцер – охотничье ружье; Кухенрейтеры, Иоганн-Андрей и Кристоф – немецкие оружейники начала XVIII в.
[2] Сошка – подставка для ружья при стрельбе с упора.
[3] Грифон – порода легавых собак.
[4] Первоученка – первая работа ученика.
[5] См. Бытие, гл. 7.
[6] Пахва – ремень, идущий от задней луки седла, не позволяющий ему скатываться вперед.
[7] Паперсъ – конский нагрудник, не позволяющий седлу скатываться назад.
[8] Вершник – всадник.
[9] Шведские штрабусы… варшавские колеты – ружья, названные по имени создавших их оружейников.
[10] Орчак – каркас седла.
[11] Вальтрап – мягкая подстилка, которая кладется на седло.
[12] Ворок – скотный двор, загон.
[13] Одр – здесь: телега, повозка.
[14] Замёт – снежный сугроб, куча снега.
[15] Рящите (церковнослав.) – встречайте.
[16] См. Евангелие от Мф. 2:1-11.
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.
При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).