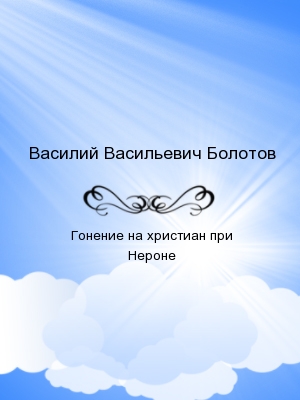ХАРАКТЕР преследования христиан при Нероне составляет предмет споров. В конце концов, эти пререкания сводятся к вопросу о толковании текста Annal. 15,44 Тацита, а для самого толкования не безразличен вопрос о ценности его исторических показаний в этой области. Пусть значение Тацита как историка Рима при первых цезарях стоит неоспоримо высоко; но, первоклассный повествователь судеб Рима, стоял ли он на той же высоте и там, где ему приходилось говорить о варварах? Нельзя забывать, что за его Histor. 5, 2—9 Тертуллиан аттестовал его словами: Cornelius Tacitus, sane ille mendaciorum loquacissimus, и мудрено оспаривать, что этот отзыв оправдывается существом дела. Тацит достаточно проницателен, чтобы понять, как легкомысленно думали те, которые полагали, что иудеи почитают Liberum patrem. Но те данные, которыми он располагал, столь же решительно говорили, что иудеи чтут «mente sola unumque numen», единого вечного невидимого неизобразимого Бога, и потому у них «nulla simulacra». И тем не менее Тацит не затруднился сказать, что иудеи покланяются изображению осла. Именно за это Тертуллиан и отзывается так нелестно о римском историке. То несомненно, что он пользовался очень плохими источниками для составления очерка истории иудеев, и едва ли можно считать случайностью, в которой он нисколько неповинен, то обстоятельство, что ему осталась неизвестна ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία Иосифа Флавия, написанная в Риме в 93 — 94 году и посвященная Епафродиту, быть может грамматику и собственнику большой библиотеки, богатой редкими сочинениями. Искусство делать рекламу знакомо было иудеям издавна, и священник полемист и историк, пользовавшейся покровительством при дворе Флавиев, едва ли был совсем незаметен в Риме. Незнакомство с его трудом походит на тенденциозное игнорирование.
Тацит нисколько не маскирует своего отношения к иудеям: глухое концентрированное презрение к ним делает его неспособным понять в их учреждениях высокое. «Profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos quae nobis incesta». «Inter se nihil inlicitum». Эти громкие «omnia» и «nihil» отзывают клеветою: так трудно наполнить эти широкие рамки определенными понятиями! «Judaeorum mos absurdus sordidusque», «instituta sinistra foeda», оказываются такими только потому, что римский историк считает в иудее преступлением то, что в римлянине признал бы за добродетель, и подставляет злостные побуждения под такие религиозные учреждения иудеев (принесение в жертву тельцов и овнов), которые не разнятся от римских. — Так судит о религии и нравах ненавидимого народа писатель, которого восхваляли за уменье рассуждать eloquentissime et, quod eximium orationi eius inest, σεμνῶς. И есть все основания опасаться, что Annal. 15, 44 написаны в том же духе, в каком Histor. 5, 2—9; что и в отношении к христианам Тацит держит себя не менее σεμνῶς: переносит на них все свое отвращение от иудеев, зная, что Judaea — origo huius mali. Он не только смешивает, подобно своим современникам, христиан со всяким восточным сбродом, который — как предложение на спрос — являлся в Рим и не церемонился в выражении своей нравственной сущности, — но и не скупится на такие черные краски, которых нет в известиях о христианах у других писателей. У Светония христианство — superstitio nova et malefica, у Плиния — только superstitio prava inmodicä у Тацита — exitiabilis superstitio. О предполагаемых flagitia христиан Светоний молчит; Плиний докладывает, что следствие не подтвердило его подозрений в этом направлении: у Тацита христиане — per flagitia invisi. Плиний признает христиан достойными смертной казни, debere puniri, подчеркивая при этом их obstinatiö для Тацита они — sontes et novissima exempla meriti. И немножко гуманности (miseratio) на подкладке республиканской гражданской скорби (in saevitiam unius) скорее подчеркивает, чем смягчает тон непоколебимой холодной враждебности, взятый Тацитом в отношении к христианам. «Vile damnum!» здесь было бы столь же на месте.
Когда писатель выносит в корне фальшивое представлена о христианах, нужно допустить, что или его источники очень плохи или его работа над ними довольно небрежная. О Таците во всяком случае следует допустить последнее предположение. Изображение христиан у него столь же мало страдает избытком кропотливости, сколько и очерк иудеев. Там широкий мазок в виде «profana illic omnia quae apud nos sacra»; здесь барски небрежные «sontes» и «qui fatebantur», словно все эти pereuntes, ingens multitudo, не стоили даже того, чтобы определенно формулировать смысл их «сознания», их предполагаемое преступление. Там «adversus omnes alios hostile odium»; здесь «odio humani generis convicti sunt». — Эти признаки едва ли предрасполагают думать, что Тацит по меньшей мере в других подробностях был научно точен. Особенно мало вероятно, чтобы он дал себе труд — точно разграничить те сведения о христианах, которые были доступны ученому II в., от того, что сказано было о них в первоисточниках по поводу гонения при Нероне. Тацит конечно полагал, что, сообщая о христианах больше данных, он только исполняет свой долг писателя, а не переписчика. Между тем период правления Флавиев в истории христианской церкви имеет (в известном отношении) такое же значение, как патриаршествование Никона в истории старого обряда. Прежде всего удаление, μετανάστασις, христиан иерусалимских в начале иудейской войны в Пеллу, вдаль от театра военных действий, после, 70 г. конечно тяжело было вменено иудеями христианам-единоплеменникам, а затем и всем христианам вообще. Сказавшийся в этом факте разрыв между церковью и синагогою мог быть только полным и окончательным. Совершенно в порядке человеческих отношений, если верные своим национальным мечтаниям иудеи, надеявшиеся на что-то от восстания при Hepoне, возненавидели своих собратьев между христианами как изменников, возненавидели совершенною ненавистью патриотов, утративших свое отечество; а этот патриотизм мог внушить семиту и такие строфы: «Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! блажен, кто возьмет, и разобьет младенцев твоих о камень!». Теперь не только вопрос, за кого считать Ииcyca Назарянина и что думать об обязательности моисеева закона, разделял иудея от христианина, но и сбывшееся пророчество: разоренный Иерусалим и сожженный храм. При этих обострившихся отношениях мудрено было и римлянам не заметить, что есть иудеи и иудеи. Затем чисто правовые последствия падения Иерусалима вели к тому же результату.
Iudaea capta, не стало более иудеев как национальности, явились «οἱ ποτὲ ἰουδαῖοι», peregrini dediticii; на место πολίτευμα осталась συναγωγὴ как collegium cultorum, в которую нужно было «записываться», profited, заявлять о своем желании iudaicam vivere vitam и платить за право посещать синагогу дидрахму в храм Юпитера капитолийского. Сбор этой дидрахмы при Домициане, строгий и придирчивый, дал в руки низшим представителям римской администрации — можно сказать помимо их желания — довольно значительный статистически материал для заключения о действительной численности настоящего иудейского населения. Администрация должна была понять, что до тех пор она причисляла к иудеям ошибочно и таких лиц, которые и знать не желают иудеев, которые не только не принадлежат к этой народности по происхождению, но и не посещают иудейских синагог, а имеют свои молитвенные собрания. Имя «christiani», к которому администраторы относились до тех пор равнодушно, по необходимости должно было выступить как точное обозначение мнимых иудеев.
Не удивительно поэтому, что при Нерве и Траяне, христиан с иудеями не смешивает никто: ни Плиний, ни Тацит, ни Светоний. Но значит-ли это, что христиан не смешивали с иудеями и при Нероне? Конечно, если верить Тациту на слово, то римская полиция в 64 г. умела произвести преследование христиан так, что оно вовсе не затронуло иудеев. Но едва-ли так было на самом деле. В подложной переписке между Сенекою и ап. Павлом выгодно отличается чистотой работы от других посланий то письмо, в котором мнимый Сенека извещает апостола о римском пожаре. По-видимому, у составителя этого послания был под руками источник до нас не дошедший, и может быть из него заимствовал автор и следующие строки: «Christiani et judaei quasi machinatores incendii supplicio adfecti, ut fieri solet». Но рассказ Тацита, если он исторически точен, ведет к целому ряду других предположений, столь-же мало правдоподобных. Subdidit reos, наметил мнимых виновных сам Нерон. Следовательно в июле 64 г. о существовании христиан, как секты отличной от иудеев, знает уже сам император или, по меньшей мере, самые близкие к нему люди, поставленные во главе правления, — не какие-нибудь низшие полицейские чины, вынужденные волею-неволею входить в сношения с темными нелюбимыми, иногда подозрительными иудеями, задавать им строгие вопросы: «Ede ubi consistas; in qua te quaero proseucha»? и научившиеся сортировать иудеев по «просевхам». Нерон знает и то, что низшее римское население, vulgus, ненавидит этих христиан и ненавидит именно за flagitia, не за scelera, не за facinora; он знает следовательно, какие мерзости приписывают христианам. Но в таком случае, «vulgus» сравнительно давно отличил христиан от иудеев, если к 64 г. уже приписывал первым чудовищные flagitia и ненавидел их так, что способен был от их руки ждать себе всего недоброго.
Ко времени пожара христианство насчитывало уже около 30 лет существования. Но было бы несправедливо думать, что римское правительство этим сроком уже воспользовалось для того, чтобы вызнать христиан в их отличительных особенностях. Слишком брезгливо относился римлянин к иудею для того, чтобы своевременно оказаться в курсе духовного движения, зародившегося в недрах этой презираемой superstitio. Когда между 50 — 52 годами римские синагоги пришли в страшное возбуждение из-за вопроса о христианах, римские власти заметили эти assidui tumultus и — еще то, что в Риме иудеев «опять стало много». Всмотреться в смысл этих tumultus, дознаться их настоящей причины, не дали себе труда; имя Χριστὸς повторялось слишком упорно в устах этих tumultuantes, чтобы не дойти до сведения полиции, и она просто решила, что иудеев возбуждает какой-то Χρηστὸς, и, не разбирая, кто из споривших прав и кто виноват, приняла те или другие меры, чтобы часть иудеев «выгнать из Рима». — В 52 г. коринфские иудеи вздумали было искать защиты своему «закону» у проконсула Ахаии Юния Аннея Галлиона и обвиняли пред его трибуналом ап. Павла в том, что «он учит людей чтить Бога не по закону», παρὰ τὸν νόμον. Образованный римлянин и не подумал воспользоваться этим случаем, чтобы раскрыть, нет-ли между иудеями последователей этой religio nova externa, которые может быть уже не имеют права на те привилегии, которые Рим предоставляет последователям иудейской религии и которые очевидно самым своим существованием оскорбляют эту привилегированную нацию, gens Iudaeorum. Проконсул даже не допустил апостола и до защиты, прямо заявив, что в жалобах иудеев не усматривается состава преступления: ни injuria, ни dolus malus. Идут какие-то ζητήματα о каком-то λόγος, об ονόματα, о νόμος, — вопросы, разбирать которые проконсул не имеет ни обязанности, ни охоты. «Разбирайтесь сами; я не хочу быть судьей в этом», — ответил проконсул обвинителям, «и прогнал их от судилища» — к великому удовольствию коринфской черни, которая принялась бить архисинагога пред самым трибуналом; «и Галлион ни мало не беспокоился о том» (Деян. 18:12—17). — Палестинские события 56 — 58 гг. так-же не дали римским властям определенного результата в смысле выяснения отличия христианства от иудейства (Деян. 21:30—26, 32.). Иерусалимские иудеи отнеслись к ап. Павлу в высшей степени враждебно: «метали одежды и бросали пыль на воздух»; вопияли: «смерть ему! не должно ему жить»! Больше сорока человек составили заговор на жизнь Павла. Начальник иерусалимского гарнизона счел своею обязанностью спасти апостола от заговорщиков и под прикрытием сильного конвоя отправил его в Кесарию. Но эта интенсивная вражда к апостолу была явлением решительно непонятным в глазах римлянина; на лицо были какие- то «спорные вопросы в их законе» — и начальник гарнизона имел возможность собственными глазами видеть, как синедрион, судивший Павла и готовый разорвать его, перессорился между собою из-за этих вопросов, так что одна часть его членов уже «ничего худого не находила в этом человеке». И Клавдий Лисий со своей стороны тоже полагал, «что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». Прокуратор М. Поркий Фест, которому пришлось сразу по прибытии в Палестину пересматривать дело апостола, находился в положении несравненно менее благоприятном, чем Феликс, его предшественник, женатый на иудеянке. Страстное озлобление иудеев против Павла; вопли: «не должно ему более жить!» и — никакого понятного римлянину crimen на деле. Фест признал заявление апостола: «я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря» вполне доказанным. В остальном — какие-то ζητήματα об их δεισιδαιμονία «и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что Он жив». — И действительно в характере этих ζητήματα нелегко было разобраться человеку даже более сведущему, чем Поркий Фест. С одной стороны апостол утверждал, что «он ничего не говорит, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили»; что «на пути», который он проповедует, он «служит Богу отцов своих»: его Бог, его вера, его надежда — те же самые, что и у иудеев. С другой стороны, и сами враги апостола имели побуждения настаивать на том, что он действительно иудей и, как такой, подсуден синедриону. «Путь», который проповедует апостол, они не признают за religio nova, отличную от иудейства, а только за «τὴν τῶν ναξωραίων αἵρεσιν». Следовательно к трем «αἱρέσεις», уже существовавшим в иудействе (фарисейству, саддукейству, ессейству) прибавилась только четвертая — ересь назореев. Получался спор даже не о принципах, а только о частностях. И Фест счел возможным предложить Павлу — идти в Иерусалим судиться пред враждебным ему синедрионом. В ответ на это апостол апеллировал к суду кесаря и тем поставил прокуратора в особенное затруднение: приходилось писать по делу апостола в Рим, а Фест «ничего верного» не имел сказать императору. Прокуратор обратился с просьбою к царю Агриппе — высказать свое мнение по этому делу. Выслушав апостола, царь признал, «что этот человек не делает ничего достойного смерти или уз» и что «можно было бы освободить его».
Едва ли можно допустить, что римская чернь находилась в более благоприятных условиях, чем прокуратор Фест, для выяснения различия христианства от иудейства. Если в 58 г. для прокуратора проповедь апостола оказывается загадкою и имя «христианин», которое произносит Агриппа, не вызывает в Фесте никаких ужасных представлений, не колеблет его убеждения в невиновности апостола; то когда же vulgus успел составить столь определенное представление о христианах и дать ему столь широкую огласку, что о народной ненависти к христианам в 64 г. знает уже сам Нерон? — Книга «Деяний апостольских» кончается 61-м годом, и оставляет горизонт без тех грозовых туч, которые рисует на нем в 64 г. Тацит. Даже иудейское население столицы относится к апостолу скорее нейтрально, чем враждебно. На «ненависть» римского народа к христианству — ни малейшего намека. Апостол «целых два года» проповедует «о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Его послания, писанные во время римских уз, говорят о значительных успехах евангельской проповеди в Риме, о верующих «из дома кесарева», о той известности, которою узник за Христа пользуется «во всей претории». Апостол испытывал и огорчения, но видимо от христиан известного направления, может быть и от некоторых иудеев; но опасности со стороны римских vulgus решительно вне кругозора апостола. — Таким образом, переходя от Нового Завета к Тациту, приходится сделать salto mortale или же усомниться в точности сообщений римского историка о событиях 64 г. И не одна ненависть римского народа, не только рассказы о flagitia, совершаемых христианами, вызывают это недоверие: можно ставить вопрос: самое название «christianus» пользовалось ли в 64 г. такою широкою известностью среди римского населения? То несомненный факт, что христиане, современные апостолам, сами себя так не называли: ἀδελφοί πιστοί, ἅγιοι, — вот названия, которые христиане носят в писаниях апостольских. Слово «χριστιανός» только трижды встречается во всем Новом Завете. И конечно не иудеи прозвали христиан таким именем. Из уст римских иудеев времени Нерона слово «christianus» можно было слышать крайне редко. И совсем невероятно, чтобы римская толпа с чрезвычайным вниманием подмечала каждую новость в поведении всяких Campenses и Suburenses cultores. Естественнее предполагать, что какое-нибудь чрезвычайное событие раскрыло глаза и римскому правительству и самой толпе и вынудило их заметить существование христиан подле иудеев.
Таким событием могло быть осуждение апостола Павла на смерть в 62 г. Подробности суда над апостолом вовсе неизвестны, и приходится поневоле вращаться в области чистых предположений, когда ставится вопрос, чем кончились римские узы Павла. Что на «первом ответе» он «избавился из львиных челюстей», свидетельствует он сам. Весьма вероятно, что смысл его «первой апологии» в Риме был тот же самый, что и пред Фестом в Кесарии: «я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского» [ведаться с которым praefecti praetorio в Риме имели столь же мало охоты, сколько и proconsul Achaiae в Коринфе], «ни против храма, ни против кесаря». Вполне благоприятное апостолу elogium от прокуратора Феста конечно подтверждало невиновность его с точки зрения римского закона. Но «второй ответ», к которому апостол готовился, когда предшествующий ответ называл только «первым», — может быть закончился приговором: «gladio animaduerti placet». Обыкновенно предполагают, что иудеи с успехом выставили Павла возмутителем общественного спокойствия: своею проповедью он везде, и всюду возбуждает tumultus среди иудеев. Но красноречивою защитою апостолу мог служить тот факт, что римские власти более двух лет уже оставляют его на относительной свободе; он «невозбранно» принимает всех к нему приходящих, беседует с ними, и никакого возмущения в Риме не произошло. — В таком случае, не предали ли иудеи Павла властям как апостола христианства, как проповедника religio nova? Но удобно ли было им доказывать это пред судом, для которого и само иудейство было только superstitio externa и быть может даже absurda sinistra foeda, который от всяких ζητήματα περὶ ὀνομάτων καὶ τοῦ νόμου αὐτῶν сторонится с чувством, похожим на отвращение? И что могли префектам претории сказать иудеи? Павел христианин, признает Христом Иисуса, который per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Но ведь над головою Распятого стояла надпись: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. В удобном ли свете этот titulus supra crucem выставлял лояльность самих иудеев? И так ли ужасно для римлян, что Павел ведет с иудеями споры «о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что Он жив»? Умерший политически не опасен, и в этом умершем, по убеждению Павла, осуществлены уже все заветные чаяния иудейского народа. Обвинители апостола этого не думали; но содержание «надежды израилевой», которой они сами держались, так ли было успокоительно для кесаря? Словом, иудеи сами понимали, что чем меньше говорить о Христе пред трибуналом префектов, тем лучше. Христианство в смысле religio illicita во время суда над апостолом вероятно не было поставлено. Во всяком случае, смертный приговор апостолу объясним и без этого предположения. Достаточно было иудеям заручиться сочувствием напр. Тигеллина, чтобы без всякого с своей стороны риска погубить ненавистного им Павла. Можно было доказать, что апостол, по меньшей мере, в том отношении не иудей, что живет не по-иудейски, что на ritus judaici смотрит не так, как иудеи. И во всяком случае иудей, от суда своих первосвященников апеллирующий к правосудию римского императора, по-видимому более сознавал себя «римским гражданином», чем иудеем. Но всякий «римский гражданин» «иудейского вероисповедания» представлял несомненно contradictio in adjecto с точки зрения римского права; такое явление можно было только терпеть как факт, но в принципе таким cives romani всегда было можно и даже должно сказать: Non licet esse vos! и предложить им «romanas caerimonias recognoscere». Положение апостола — римского гражданина, обвиняемого своими соплеменниками в том, что он чтит Бога не по иудейскому закону, — было еще менее устойчиво. И может быть ему предложили оставить «ritus profani» окончательно и оправдать свое гражданство — принятием «римской религии», а за отказ от этой «facultas ad morem romanorum redeundi» осудили его на смерть.
Но если даже допустить, что в 64 г. римский «народ» знал христиан в их отличии от иудеев, глубоко ненавидел первых и мотивировал свою ненависть к ним их позорными пороками; то легко ли объяснить ход розыска, те подробности, которые передает Тацит? Igitur primum correpti qui fatebantur. Относительно смысла слова «fatebantur» «сознавались» кажется никакое сомнение невозможно: fatebantur они отвечали: да на некоторый вопрос о чем-то их касающемся и для них не безразличном. Или же: в ответ на непрямой или даже немой вопрос, к ним обращенный, они сами дали показание о чем-то их касающемся. Нравственная природа понятия fateri дорисовывается дополнительною, но часто наблюдаемою чертою некоторого самоотвержения: они сами без положительного принуждения ответили: да, хотя для их эгоизма было бы выгоднее сказать: нет; они рассказали что-то, о чем их себялюбие располагало бы их молчать. — Но содержание этого «сознания» несомненно неясно вследствие допущенной здесь Тацитом двойной небрежности: он пропустил необходимое дополнение в виде accusativus cum infinitivo и в предшествующем поместил два показания, так что возможно проектировать два дополнения: a) fatebantur se christianos esse, и в пользу такого дополнения говорит то, что оно взято из фразы ближайшим образом предшествующей (γ) и непосредственно пред igitur разъясненной (во вводном предложении δ) — и б) fatebantur se incendium fecisse, и в пользу этого дополнения можно указать на то, что хотя оно взято из фразы несколько более отдаленной (α), но это igitur решительно возвращает течение речи именно к этому пункту, именно его раскрывает (οα). — Если, таким образом, не бесспорен даже грамматический смысл этого «igitur fatebantur»; то еще труднее усмотреть в нем смысл исторический, понять, что же именно происходило в действительности в 64 г.. И может быть и грамматический смысл фразы скорее затемнен, чем разъяснен пререканиями филологов именно вследствие того, что они, предубежденные в пользу Тацита, далеки были от мысли, что знаменитый историк сказал здесь нечто исторически несообразное, и — сами того не подозревая — захотели быть апологетами Тацита и — вместо задачи филологов-комментаторов данного текста, которые ищут в нем только «auctoritas», только тот смысл, который влагает в него сам автор, и не ясное для самого автора не выдают за ясное его читателям, — взяли на себя труд — быть историками гонения на христиан при Hepoне и потому решились оспаривать наличность того смысла в рассматриваемой тираде, который должен признать филолог и не может принять историк.
В самом деле, если признать (провизорным образом), что Тацит хотел сказать: «fatebantur se incendium fecisse», — полная историческая несостоятельность этого показания выясняется сразу. Ведь если христиане — а Тацит говорит именно о христианах, не об иудеях и ни о ком другом, — сознались, то есть, не под пыткой, а добровольно показали, что они подожгли Рим; то, следовательно, действительно они, и не кто другой, виновники этого поджога, этого преступления. Тот историк, для которого этот вывод не абсурд, очевидно, вынужден признать, что о древних христианах мы решительно ничего не знаем; что далее и первая строка истории христианства еще не написана... Но этот абсурд, никем не защищаемый, еще вовсе не абсурд с точки зрения Тацита: в суждении о характере христиан он ошибся toto coelo и потому мог допустить, что Рим подожгли действительно христиане. Допускал ли он это на деле, иной вопрос. — Несравненно более неудобна для историчности рассказа Тацита другая постановка вопроса: допуская даже, что qui fatebantur se incendium fecisse были не христиане (как ошибочно полагал Тацит), а несколько вредных личностей, которые действительно подожгли Рим, — можно ли отстаивать историческую достоверность этих строк Тацита? По моему мнению, психологически невозможно, чтобы кто-нибудь в августе-сентябре 64 г. сознался: да, это я поджег цирк. И наивна была бы та полиция, которая в ту пору кому-нибудь предложила бы ex abrupto вопрос: nonne tu incendium fecisti? «Кому не люба на плечах голова?» Кто не понимал, что за сознание помилованья ему не будет, что его ждет лютая казнь? Следовательно такое откровенное дополнение, как «se incendium fecisse», если оно действительно предносилось уму Тацита, представляет историческую несообразность.
Другое дополнение, «se christianos esse», как кажется, обязано своим появлением не тексту Тацита, а сознанию, что иначе нельзя отстаивать историчность его рассказа. Это — своего рода Ehrenrettung Тацита. Мы очень хорошо знаем, в чем действительно могли «сознаваться» и «сознавались» христиане. У Плиния читается показание: «interrogavi ipsos an essent christiani, confitentes iterum ac tertio interrogavi». Это безукоризненно точное сообщение пытаются прочитать и в небрежных строках Тацита. Неудобно однако то, что те исторические христиане, с которыми имел дело Плиний, не походят на ту зловредную гнусную секту, какою представляет их Тацит. В таком «христианстве» «сознаться» пожалуй, почти так же трудно и опасно, как и в поджоге. С другой стороны, «народ» по-видимому, так хорошо знал христиан, что не совсем понятно, на что еще нужно было собственное их сознание. Или эти христиане и не думают скрываться от кого бы то ни было, или же полиция поступает слишком доверчиво, когда решается кого-нибудь из них спросить: nonne christianus es? Во всяком случае контекст в широком смысле слова не благоприятствует такому толкованию слова fatebantur. Что при словах «Nero subdidit reos» нужно подразумевать опущенное «incendii» (reos), едва ли кто-нибудь сомневается. Только совсем беспомощное убожество может пытаться реабилитировать свое доброе имя не прямым опровержением того, что набрасывает на него тень, infamia, а каким-нибудь сенсационным процессом, который займет внимание толпы и — на время — заставит ее забыть об этой «infamia». В таком жалком положении Нерон в 64 г. не находился, и начатый по его приказанию судебный процесс направлен был против поджигателей. И закончен он был в том же самом направлении. Его последний результат, по словам Тацита, если перевести их на современный язык, был следующий: прямых улик в поджоге судебное следствие открыло немного, но косвенные улики против подсудимых нашлись подавляющие; и суд вынес твердое нравственное убеждение, что люди столь вредного образа мыслей, столь злонамеренные, конечно подожгли Рим. В этом смысле постановлен был и приговор против подсудимых, приведенный в исполнение в тоне свирепой taliö поджигателей жгут.
Тацит нисколько не маскирует своего отношения к иудеям: глухое концентрированное презрение к ним делает его неспособным понять в их учреждениях высокое. «Profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos quae nobis incesta». «Inter se nihil inlicitum». Эти громкие «omnia» и «nihil» отзывают клеветою: так трудно наполнить эти широкие рамки определенными понятиями! «Judaeorum mos absurdus sordidusque», «instituta sinistra foeda», оказываются такими только потому, что римский историк считает в иудее преступлением то, что в римлянине признал бы за добродетель, и подставляет злостные побуждения под такие религиозные учреждения иудеев (принесение в жертву тельцов и овнов), которые не разнятся от римских. — Так судит о религии и нравах ненавидимого народа писатель, которого восхваляли за уменье рассуждать eloquentissime et, quod eximium orationi eius inest, σεμνῶς. И есть все основания опасаться, что Annal. 15, 44 написаны в том же духе, в каком Histor. 5, 2—9; что и в отношении к христианам Тацит держит себя не менее σεμνῶς: переносит на них все свое отвращение от иудеев, зная, что Judaea — origo huius mali. Он не только смешивает, подобно своим современникам, христиан со всяким восточным сбродом, который — как предложение на спрос — являлся в Рим и не церемонился в выражении своей нравственной сущности, — но и не скупится на такие черные краски, которых нет в известиях о христианах у других писателей. У Светония христианство — superstitio nova et malefica, у Плиния — только superstitio prava inmodicä у Тацита — exitiabilis superstitio. О предполагаемых flagitia христиан Светоний молчит; Плиний докладывает, что следствие не подтвердило его подозрений в этом направлении: у Тацита христиане — per flagitia invisi. Плиний признает христиан достойными смертной казни, debere puniri, подчеркивая при этом их obstinatiö для Тацита они — sontes et novissima exempla meriti. И немножко гуманности (miseratio) на подкладке республиканской гражданской скорби (in saevitiam unius) скорее подчеркивает, чем смягчает тон непоколебимой холодной враждебности, взятый Тацитом в отношении к христианам. «Vile damnum!» здесь было бы столь же на месте.
Когда писатель выносит в корне фальшивое представлена о христианах, нужно допустить, что или его источники очень плохи или его работа над ними довольно небрежная. О Таците во всяком случае следует допустить последнее предположение. Изображение христиан у него столь же мало страдает избытком кропотливости, сколько и очерк иудеев. Там широкий мазок в виде «profana illic omnia quae apud nos sacra»; здесь барски небрежные «sontes» и «qui fatebantur», словно все эти pereuntes, ingens multitudo, не стоили даже того, чтобы определенно формулировать смысл их «сознания», их предполагаемое преступление. Там «adversus omnes alios hostile odium»; здесь «odio humani generis convicti sunt». — Эти признаки едва ли предрасполагают думать, что Тацит по меньшей мере в других подробностях был научно точен. Особенно мало вероятно, чтобы он дал себе труд — точно разграничить те сведения о христианах, которые были доступны ученому II в., от того, что сказано было о них в первоисточниках по поводу гонения при Нероне. Тацит конечно полагал, что, сообщая о христианах больше данных, он только исполняет свой долг писателя, а не переписчика. Между тем период правления Флавиев в истории христианской церкви имеет (в известном отношении) такое же значение, как патриаршествование Никона в истории старого обряда. Прежде всего удаление, μετανάστασις, христиан иерусалимских в начале иудейской войны в Пеллу, вдаль от театра военных действий, после, 70 г. конечно тяжело было вменено иудеями христианам-единоплеменникам, а затем и всем христианам вообще. Сказавшийся в этом факте разрыв между церковью и синагогою мог быть только полным и окончательным. Совершенно в порядке человеческих отношений, если верные своим национальным мечтаниям иудеи, надеявшиеся на что-то от восстания при Hepoне, возненавидели своих собратьев между христианами как изменников, возненавидели совершенною ненавистью патриотов, утративших свое отечество; а этот патриотизм мог внушить семиту и такие строфы: «Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! блажен, кто возьмет, и разобьет младенцев твоих о камень!». Теперь не только вопрос, за кого считать Ииcyca Назарянина и что думать об обязательности моисеева закона, разделял иудея от христианина, но и сбывшееся пророчество: разоренный Иерусалим и сожженный храм. При этих обострившихся отношениях мудрено было и римлянам не заметить, что есть иудеи и иудеи. Затем чисто правовые последствия падения Иерусалима вели к тому же результату.
Iudaea capta, не стало более иудеев как национальности, явились «οἱ ποτὲ ἰουδαῖοι», peregrini dediticii; на место πολίτευμα осталась συναγωγὴ как collegium cultorum, в которую нужно было «записываться», profited, заявлять о своем желании iudaicam vivere vitam и платить за право посещать синагогу дидрахму в храм Юпитера капитолийского. Сбор этой дидрахмы при Домициане, строгий и придирчивый, дал в руки низшим представителям римской администрации — можно сказать помимо их желания — довольно значительный статистически материал для заключения о действительной численности настоящего иудейского населения. Администрация должна была понять, что до тех пор она причисляла к иудеям ошибочно и таких лиц, которые и знать не желают иудеев, которые не только не принадлежат к этой народности по происхождению, но и не посещают иудейских синагог, а имеют свои молитвенные собрания. Имя «christiani», к которому администраторы относились до тех пор равнодушно, по необходимости должно было выступить как точное обозначение мнимых иудеев.
Не удивительно поэтому, что при Нерве и Траяне, христиан с иудеями не смешивает никто: ни Плиний, ни Тацит, ни Светоний. Но значит-ли это, что христиан не смешивали с иудеями и при Нероне? Конечно, если верить Тациту на слово, то римская полиция в 64 г. умела произвести преследование христиан так, что оно вовсе не затронуло иудеев. Но едва-ли так было на самом деле. В подложной переписке между Сенекою и ап. Павлом выгодно отличается чистотой работы от других посланий то письмо, в котором мнимый Сенека извещает апостола о римском пожаре. По-видимому, у составителя этого послания был под руками источник до нас не дошедший, и может быть из него заимствовал автор и следующие строки: «Christiani et judaei quasi machinatores incendii supplicio adfecti, ut fieri solet». Но рассказ Тацита, если он исторически точен, ведет к целому ряду других предположений, столь-же мало правдоподобных. Subdidit reos, наметил мнимых виновных сам Нерон. Следовательно в июле 64 г. о существовании христиан, как секты отличной от иудеев, знает уже сам император или, по меньшей мере, самые близкие к нему люди, поставленные во главе правления, — не какие-нибудь низшие полицейские чины, вынужденные волею-неволею входить в сношения с темными нелюбимыми, иногда подозрительными иудеями, задавать им строгие вопросы: «Ede ubi consistas; in qua te quaero proseucha»? и научившиеся сортировать иудеев по «просевхам». Нерон знает и то, что низшее римское население, vulgus, ненавидит этих христиан и ненавидит именно за flagitia, не за scelera, не за facinora; он знает следовательно, какие мерзости приписывают христианам. Но в таком случае, «vulgus» сравнительно давно отличил христиан от иудеев, если к 64 г. уже приписывал первым чудовищные flagitia и ненавидел их так, что способен был от их руки ждать себе всего недоброго.
Ко времени пожара христианство насчитывало уже около 30 лет существования. Но было бы несправедливо думать, что римское правительство этим сроком уже воспользовалось для того, чтобы вызнать христиан в их отличительных особенностях. Слишком брезгливо относился римлянин к иудею для того, чтобы своевременно оказаться в курсе духовного движения, зародившегося в недрах этой презираемой superstitio. Когда между 50 — 52 годами римские синагоги пришли в страшное возбуждение из-за вопроса о христианах, римские власти заметили эти assidui tumultus и — еще то, что в Риме иудеев «опять стало много». Всмотреться в смысл этих tumultus, дознаться их настоящей причины, не дали себе труда; имя Χριστὸς повторялось слишком упорно в устах этих tumultuantes, чтобы не дойти до сведения полиции, и она просто решила, что иудеев возбуждает какой-то Χρηστὸς, и, не разбирая, кто из споривших прав и кто виноват, приняла те или другие меры, чтобы часть иудеев «выгнать из Рима». — В 52 г. коринфские иудеи вздумали было искать защиты своему «закону» у проконсула Ахаии Юния Аннея Галлиона и обвиняли пред его трибуналом ап. Павла в том, что «он учит людей чтить Бога не по закону», παρὰ τὸν νόμον. Образованный римлянин и не подумал воспользоваться этим случаем, чтобы раскрыть, нет-ли между иудеями последователей этой religio nova externa, которые может быть уже не имеют права на те привилегии, которые Рим предоставляет последователям иудейской религии и которые очевидно самым своим существованием оскорбляют эту привилегированную нацию, gens Iudaeorum. Проконсул даже не допустил апостола и до защиты, прямо заявив, что в жалобах иудеев не усматривается состава преступления: ни injuria, ни dolus malus. Идут какие-то ζητήματα о каком-то λόγος, об ονόματα, о νόμος, — вопросы, разбирать которые проконсул не имеет ни обязанности, ни охоты. «Разбирайтесь сами; я не хочу быть судьей в этом», — ответил проконсул обвинителям, «и прогнал их от судилища» — к великому удовольствию коринфской черни, которая принялась бить архисинагога пред самым трибуналом; «и Галлион ни мало не беспокоился о том» (Деян. 18:12—17). — Палестинские события 56 — 58 гг. так-же не дали римским властям определенного результата в смысле выяснения отличия христианства от иудейства (Деян. 21:30—26, 32.). Иерусалимские иудеи отнеслись к ап. Павлу в высшей степени враждебно: «метали одежды и бросали пыль на воздух»; вопияли: «смерть ему! не должно ему жить»! Больше сорока человек составили заговор на жизнь Павла. Начальник иерусалимского гарнизона счел своею обязанностью спасти апостола от заговорщиков и под прикрытием сильного конвоя отправил его в Кесарию. Но эта интенсивная вражда к апостолу была явлением решительно непонятным в глазах римлянина; на лицо были какие- то «спорные вопросы в их законе» — и начальник гарнизона имел возможность собственными глазами видеть, как синедрион, судивший Павла и готовый разорвать его, перессорился между собою из-за этих вопросов, так что одна часть его членов уже «ничего худого не находила в этом человеке». И Клавдий Лисий со своей стороны тоже полагал, «что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». Прокуратор М. Поркий Фест, которому пришлось сразу по прибытии в Палестину пересматривать дело апостола, находился в положении несравненно менее благоприятном, чем Феликс, его предшественник, женатый на иудеянке. Страстное озлобление иудеев против Павла; вопли: «не должно ему более жить!» и — никакого понятного римлянину crimen на деле. Фест признал заявление апостола: «я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря» вполне доказанным. В остальном — какие-то ζητήματα об их δεισιδαιμονία «и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что Он жив». — И действительно в характере этих ζητήματα нелегко было разобраться человеку даже более сведущему, чем Поркий Фест. С одной стороны апостол утверждал, что «он ничего не говорит, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили»; что «на пути», который он проповедует, он «служит Богу отцов своих»: его Бог, его вера, его надежда — те же самые, что и у иудеев. С другой стороны, и сами враги апостола имели побуждения настаивать на том, что он действительно иудей и, как такой, подсуден синедриону. «Путь», который проповедует апостол, они не признают за religio nova, отличную от иудейства, а только за «τὴν τῶν ναξωραίων αἵρεσιν». Следовательно к трем «αἱρέσεις», уже существовавшим в иудействе (фарисейству, саддукейству, ессейству) прибавилась только четвертая — ересь назореев. Получался спор даже не о принципах, а только о частностях. И Фест счел возможным предложить Павлу — идти в Иерусалим судиться пред враждебным ему синедрионом. В ответ на это апостол апеллировал к суду кесаря и тем поставил прокуратора в особенное затруднение: приходилось писать по делу апостола в Рим, а Фест «ничего верного» не имел сказать императору. Прокуратор обратился с просьбою к царю Агриппе — высказать свое мнение по этому делу. Выслушав апостола, царь признал, «что этот человек не делает ничего достойного смерти или уз» и что «можно было бы освободить его».
Едва ли можно допустить, что римская чернь находилась в более благоприятных условиях, чем прокуратор Фест, для выяснения различия христианства от иудейства. Если в 58 г. для прокуратора проповедь апостола оказывается загадкою и имя «христианин», которое произносит Агриппа, не вызывает в Фесте никаких ужасных представлений, не колеблет его убеждения в невиновности апостола; то когда же vulgus успел составить столь определенное представление о христианах и дать ему столь широкую огласку, что о народной ненависти к христианам в 64 г. знает уже сам Нерон? — Книга «Деяний апостольских» кончается 61-м годом, и оставляет горизонт без тех грозовых туч, которые рисует на нем в 64 г. Тацит. Даже иудейское население столицы относится к апостолу скорее нейтрально, чем враждебно. На «ненависть» римского народа к христианству — ни малейшего намека. Апостол «целых два года» проповедует «о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Его послания, писанные во время римских уз, говорят о значительных успехах евангельской проповеди в Риме, о верующих «из дома кесарева», о той известности, которою узник за Христа пользуется «во всей претории». Апостол испытывал и огорчения, но видимо от христиан известного направления, может быть и от некоторых иудеев; но опасности со стороны римских vulgus решительно вне кругозора апостола. — Таким образом, переходя от Нового Завета к Тациту, приходится сделать salto mortale или же усомниться в точности сообщений римского историка о событиях 64 г. И не одна ненависть римского народа, не только рассказы о flagitia, совершаемых христианами, вызывают это недоверие: можно ставить вопрос: самое название «christianus» пользовалось ли в 64 г. такою широкою известностью среди римского населения? То несомненный факт, что христиане, современные апостолам, сами себя так не называли: ἀδελφοί πιστοί, ἅγιοι, — вот названия, которые христиане носят в писаниях апостольских. Слово «χριστιανός» только трижды встречается во всем Новом Завете. И конечно не иудеи прозвали христиан таким именем. Из уст римских иудеев времени Нерона слово «christianus» можно было слышать крайне редко. И совсем невероятно, чтобы римская толпа с чрезвычайным вниманием подмечала каждую новость в поведении всяких Campenses и Suburenses cultores. Естественнее предполагать, что какое-нибудь чрезвычайное событие раскрыло глаза и римскому правительству и самой толпе и вынудило их заметить существование христиан подле иудеев.
Таким событием могло быть осуждение апостола Павла на смерть в 62 г. Подробности суда над апостолом вовсе неизвестны, и приходится поневоле вращаться в области чистых предположений, когда ставится вопрос, чем кончились римские узы Павла. Что на «первом ответе» он «избавился из львиных челюстей», свидетельствует он сам. Весьма вероятно, что смысл его «первой апологии» в Риме был тот же самый, что и пред Фестом в Кесарии: «я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского» [ведаться с которым praefecti praetorio в Риме имели столь же мало охоты, сколько и proconsul Achaiae в Коринфе], «ни против храма, ни против кесаря». Вполне благоприятное апостолу elogium от прокуратора Феста конечно подтверждало невиновность его с точки зрения римского закона. Но «второй ответ», к которому апостол готовился, когда предшествующий ответ называл только «первым», — может быть закончился приговором: «gladio animaduerti placet». Обыкновенно предполагают, что иудеи с успехом выставили Павла возмутителем общественного спокойствия: своею проповедью он везде, и всюду возбуждает tumultus среди иудеев. Но красноречивою защитою апостолу мог служить тот факт, что римские власти более двух лет уже оставляют его на относительной свободе; он «невозбранно» принимает всех к нему приходящих, беседует с ними, и никакого возмущения в Риме не произошло. — В таком случае, не предали ли иудеи Павла властям как апостола христианства, как проповедника religio nova? Но удобно ли было им доказывать это пред судом, для которого и само иудейство было только superstitio externa и быть может даже absurda sinistra foeda, который от всяких ζητήματα περὶ ὀνομάτων καὶ τοῦ νόμου αὐτῶν сторонится с чувством, похожим на отвращение? И что могли префектам претории сказать иудеи? Павел христианин, признает Христом Иисуса, который per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Но ведь над головою Распятого стояла надпись: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. В удобном ли свете этот titulus supra crucem выставлял лояльность самих иудеев? И так ли ужасно для римлян, что Павел ведет с иудеями споры «о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что Он жив»? Умерший политически не опасен, и в этом умершем, по убеждению Павла, осуществлены уже все заветные чаяния иудейского народа. Обвинители апостола этого не думали; но содержание «надежды израилевой», которой они сами держались, так ли было успокоительно для кесаря? Словом, иудеи сами понимали, что чем меньше говорить о Христе пред трибуналом префектов, тем лучше. Христианство в смысле religio illicita во время суда над апостолом вероятно не было поставлено. Во всяком случае, смертный приговор апостолу объясним и без этого предположения. Достаточно было иудеям заручиться сочувствием напр. Тигеллина, чтобы без всякого с своей стороны риска погубить ненавистного им Павла. Можно было доказать, что апостол, по меньшей мере, в том отношении не иудей, что живет не по-иудейски, что на ritus judaici смотрит не так, как иудеи. И во всяком случае иудей, от суда своих первосвященников апеллирующий к правосудию римского императора, по-видимому более сознавал себя «римским гражданином», чем иудеем. Но всякий «римский гражданин» «иудейского вероисповедания» представлял несомненно contradictio in adjecto с точки зрения римского права; такое явление можно было только терпеть как факт, но в принципе таким cives romani всегда было можно и даже должно сказать: Non licet esse vos! и предложить им «romanas caerimonias recognoscere». Положение апостола — римского гражданина, обвиняемого своими соплеменниками в том, что он чтит Бога не по иудейскому закону, — было еще менее устойчиво. И может быть ему предложили оставить «ritus profani» окончательно и оправдать свое гражданство — принятием «римской религии», а за отказ от этой «facultas ad morem romanorum redeundi» осудили его на смерть.
Но если даже допустить, что в 64 г. римский «народ» знал христиан в их отличии от иудеев, глубоко ненавидел первых и мотивировал свою ненависть к ним их позорными пороками; то легко ли объяснить ход розыска, те подробности, которые передает Тацит? Igitur primum correpti qui fatebantur. Относительно смысла слова «fatebantur» «сознавались» кажется никакое сомнение невозможно: fatebantur они отвечали: да на некоторый вопрос о чем-то их касающемся и для них не безразличном. Или же: в ответ на непрямой или даже немой вопрос, к ним обращенный, они сами дали показание о чем-то их касающемся. Нравственная природа понятия fateri дорисовывается дополнительною, но часто наблюдаемою чертою некоторого самоотвержения: они сами без положительного принуждения ответили: да, хотя для их эгоизма было бы выгоднее сказать: нет; они рассказали что-то, о чем их себялюбие располагало бы их молчать. — Но содержание этого «сознания» несомненно неясно вследствие допущенной здесь Тацитом двойной небрежности: он пропустил необходимое дополнение в виде accusativus cum infinitivo и в предшествующем поместил два показания, так что возможно проектировать два дополнения: a) fatebantur se christianos esse, и в пользу такого дополнения говорит то, что оно взято из фразы ближайшим образом предшествующей (γ) и непосредственно пред igitur разъясненной (во вводном предложении δ) — и б) fatebantur se incendium fecisse, и в пользу этого дополнения можно указать на то, что хотя оно взято из фразы несколько более отдаленной (α), но это igitur решительно возвращает течение речи именно к этому пункту, именно его раскрывает (οα). — Если, таким образом, не бесспорен даже грамматический смысл этого «igitur fatebantur»; то еще труднее усмотреть в нем смысл исторический, понять, что же именно происходило в действительности в 64 г.. И может быть и грамматический смысл фразы скорее затемнен, чем разъяснен пререканиями филологов именно вследствие того, что они, предубежденные в пользу Тацита, далеки были от мысли, что знаменитый историк сказал здесь нечто исторически несообразное, и — сами того не подозревая — захотели быть апологетами Тацита и — вместо задачи филологов-комментаторов данного текста, которые ищут в нем только «auctoritas», только тот смысл, который влагает в него сам автор, и не ясное для самого автора не выдают за ясное его читателям, — взяли на себя труд — быть историками гонения на христиан при Hepoне и потому решились оспаривать наличность того смысла в рассматриваемой тираде, который должен признать филолог и не может принять историк.
В самом деле, если признать (провизорным образом), что Тацит хотел сказать: «fatebantur se incendium fecisse», — полная историческая несостоятельность этого показания выясняется сразу. Ведь если христиане — а Тацит говорит именно о христианах, не об иудеях и ни о ком другом, — сознались, то есть, не под пыткой, а добровольно показали, что они подожгли Рим; то, следовательно, действительно они, и не кто другой, виновники этого поджога, этого преступления. Тот историк, для которого этот вывод не абсурд, очевидно, вынужден признать, что о древних христианах мы решительно ничего не знаем; что далее и первая строка истории христианства еще не написана... Но этот абсурд, никем не защищаемый, еще вовсе не абсурд с точки зрения Тацита: в суждении о характере христиан он ошибся toto coelo и потому мог допустить, что Рим подожгли действительно христиане. Допускал ли он это на деле, иной вопрос. — Несравненно более неудобна для историчности рассказа Тацита другая постановка вопроса: допуская даже, что qui fatebantur se incendium fecisse были не христиане (как ошибочно полагал Тацит), а несколько вредных личностей, которые действительно подожгли Рим, — можно ли отстаивать историческую достоверность этих строк Тацита? По моему мнению, психологически невозможно, чтобы кто-нибудь в августе-сентябре 64 г. сознался: да, это я поджег цирк. И наивна была бы та полиция, которая в ту пору кому-нибудь предложила бы ex abrupto вопрос: nonne tu incendium fecisti? «Кому не люба на плечах голова?» Кто не понимал, что за сознание помилованья ему не будет, что его ждет лютая казнь? Следовательно такое откровенное дополнение, как «se incendium fecisse», если оно действительно предносилось уму Тацита, представляет историческую несообразность.
Другое дополнение, «se christianos esse», как кажется, обязано своим появлением не тексту Тацита, а сознанию, что иначе нельзя отстаивать историчность его рассказа. Это — своего рода Ehrenrettung Тацита. Мы очень хорошо знаем, в чем действительно могли «сознаваться» и «сознавались» христиане. У Плиния читается показание: «interrogavi ipsos an essent christiani, confitentes iterum ac tertio interrogavi». Это безукоризненно точное сообщение пытаются прочитать и в небрежных строках Тацита. Неудобно однако то, что те исторические христиане, с которыми имел дело Плиний, не походят на ту зловредную гнусную секту, какою представляет их Тацит. В таком «христианстве» «сознаться» пожалуй, почти так же трудно и опасно, как и в поджоге. С другой стороны, «народ» по-видимому, так хорошо знал христиан, что не совсем понятно, на что еще нужно было собственное их сознание. Или эти христиане и не думают скрываться от кого бы то ни было, или же полиция поступает слишком доверчиво, когда решается кого-нибудь из них спросить: nonne christianus es? Во всяком случае контекст в широком смысле слова не благоприятствует такому толкованию слова fatebantur. Что при словах «Nero subdidit reos» нужно подразумевать опущенное «incendii» (reos), едва ли кто-нибудь сомневается. Только совсем беспомощное убожество может пытаться реабилитировать свое доброе имя не прямым опровержением того, что набрасывает на него тень, infamia, а каким-нибудь сенсационным процессом, который займет внимание толпы и — на время — заставит ее забыть об этой «infamia». В таком жалком положении Нерон в 64 г. не находился, и начатый по его приказанию судебный процесс направлен был против поджигателей. И закончен он был в том же самом направлении. Его последний результат, по словам Тацита, если перевести их на современный язык, был следующий: прямых улик в поджоге судебное следствие открыло немного, но косвенные улики против подсудимых нашлись подавляющие; и суд вынес твердое нравственное убеждение, что люди столь вредного образа мыслей, столь злонамеренные, конечно подожгли Рим. В этом смысле постановлен был и приговор против подсудимых, приведенный в исполнение в тоне свирепой taliö поджигателей жгут.
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).