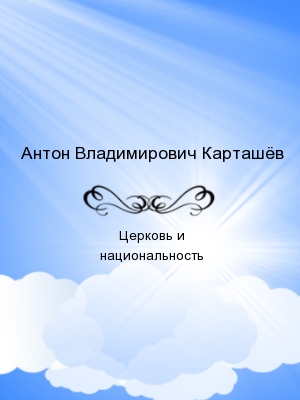Для человека, выросшего и воспитавшегося в Соединенных Штатах, вопрос о соотношениях христианства и государства практически не существует. Он решен здесь настолько нормально и благополучно в сравнении со Старым Светом, что может казаться даже неактуальным, схоластическим. Конечно, даже из учебников истории все знают об исторической борьбе, о драмах и войнах на этой почве в Европе. Но не все ощущают, что вопрос этот и до сего дня продолжает быть жгучим и злободневным. Особенно после религиозных гонений советчины и гитлеровщины.
Из этих двух видов тоталитаризма самый крайний и последовательный — СССР-овский остается пока торжествующим победителем. И от него именно сейчас приходится защищать христианскую свободу для четверти миллиарда порабощенного им человечества. А если принять во внимание начатый недавно процесс систематической мао-цзе-дун-овской коммунизации всего Китая, то опасность давления на религиозную свободу должна теперь расшириться и на целые полмиллиарда человеческого рода. Опасность становится планетарной. И вопрос о церкви и государстве сам собой перелицовывается в вопрос об одной из существенных человеческих свобод: о свободе религии или свободе совести. Свобода вообще в мире встала сейчас пред смертельной опасностью. Мы должны духовно мобилизоваться, отчетливо осмыслить все достижения и промахи прошлого в данной сфере, главное — продумать достаточно конкретно все диспозиции боя, сложившиеся к настоящему моменту, и избрать соответствующую моменту тактику. Пренебрежение к этой, так называемой «церковной политике», и непредусмотрительность отмщаются на деле тем, что иерархия оказывается застигаемой событиями врасплох и вынуждается к самым нестерпимым компромиссам. Пример — капитуляция московских иерархов пред служением мировому коммунизму под предлогом будто бы обязательной для православия коллаборации с государством, безразлично каким по своей духовной сущности. Если такой соблазн богословской мысли и такого умопомрачающего церковного действия мог произойти с таким большим богословом и вместе с таким бескорыстным аскетом-монахом, как покойный патриарх Сергий (Старогородский), то что же говорить о преемнике его патр. Алексее, и других. Если еще за железным занавесом многое объяснимо духовной костоломкой, сокрушением воли и ясного сознания через систему грубого и утонченного террора, то бесспорным свидетельством слабости и ума и совести является принятие антихристовой СССР-овской государственности людьми, по эту сторону грани живущими. Особенно страшна эта болезнь в людях религиозных. Если одержимые слепыми страстями национализма бросаются, как извращенцы, на советчину, принимая ее за настоящую патриотическую пищу, то людям религиозным, а следовательно обязанным разбираться в вещах не только материальных, «плотских», но и в духовных, непростительно смешивать святое и нечестивое, благовоние фимиама и зловоние сероводорода, Божье и дьявольское. Если такое смешение не показной самообман, то это болезнь совести, схождение с совести как сходят с ума. Это интервенция мистических темных сил в грешную человеческую жизнь, духовно не огражденную от козней диавольских. Словом, мы стоим пред страшным фактом потери различия добра от зла.
Таким образом, вопрос о взаимоотношениях государства и христианства не так-то уж теоретичен и схоластичен. Он сидит на нашем израненном русском церковном теле как стеснительный и неприспособленный мундир, требующий разумной переделки. И мы, русские, обреченные на муку катастрофического опыта, не можем не проверить на нем всех установившихся в европейской истории типов церковно-государственных систем и не можем не сосредоточить наше внимание не на вопросе «вообще», а именно на нашем опыте, на наших русских православных потребностях, по пословице: «у кого, что болит»...
Обыкновенно в православной практике эти два уклона и понимания и чувствования на пограничной полосе, разделяющей небесное и земное, Божье и кесарево, допускаются существовать параллельно, применительно к личным особенностям и темпераментам верующих, дабы «не угашать их духа», давать им необходимую свободу употреблять на дело Христово и спасение души свои естественные таланты и влечения. У нас в православии благословенны и монашество и мирское христианство, и черное и белое духовенство, и созерцательная Мария и хлопотливая филантропическая Марфа. По верному практическому, да и теоретическому, инстинкту у нас нет для этой «пограничной» области схоластически выработанного богословия, которое стесняло бы и одинаково смущало два естественных течения и стиля православного благочестия и практической активности. И это отсутствие четко выработанной схоластической доктрины в православии для жизненного христианского творчества, т. е. для посильной для нас христианизации всех функций царства кесарева, в которое мы погружены, в духе недосягаемого совершенного царства Божия, и составляет один из даров Святого Православия. Мы движемся по двум параллельным путям. Духовное качество этих двух путей в абстракции столь полярно, что живой параллелизм их теоретически должен быть исключен: или прочь «от мира», или дружно всем миром «к миру». Между тем такой парадоксальный параллелизм церковью нам дан и предписан. Это одна из многих так называемых антиномий нашего богословия. И то и другое — «в не сливающемся различии и неразлучном соединении», по вероопределению IV Вселенского Собора. Таким образом, в Православии и богословско-теоретически, несмотря на зияющую антиномию, снят безысходно трагический спор между церковью и государством. Тем более на опыте, в истории, Православие завещало нам счастливую традицию открытого, смелого, богословски искреннего до наивности детскости, союза дружбы и взаимопомощи церкви с государством. Сколько было несовершенств, грехов и падений на этом пути — это уже другой вопрос, вопрос практики, но в учении церкви, в идеале, им предписанном, у Православия нет двусмыслицы, нет колебаний, нет сомнений. А вышеотмеченные оттенки разномыслия и разночувствия двух течений, аскетического и светского, в узаконенных и церковью контролируемых пределах, дают православным счастливую свободу по примеру прошлого и в трудном будущем нащупывать, искать и экспериментировать все возможные приличествующие христианам методы и технику работы на обширных полях государственности, общественности, социальной, экономической и общей интеллектуальной культуры.
Новейшие государственные конституции упростили данную проблему путем отрицательным. Они вывели за скобки государственных обязанностей все религии вообще, уравняли их в формальной свободе всех культов и, так сказать, изгнали религию из государственного обихода, в сущности, в область частного права. Хотя публичное право нынешнего государственного контроля держит культы под бдительным надзором государства. Эта современная эволюция захватила под свое влияние, с разными местными вариантами, и все православные церкви. Однако их идеальная доктрина о государстве, их исторический опыт, их каноника, практика и миссионерская тактика лежат по-прежнему на них ответственным бременем и требуют постоянного активного творчества, нахождения путей и способов осуществления и в этих новых, стеснительных условиях царства Божия на земле, несмотря на слепоту «царства от мира сего», которое гонит вон от себя церковь, едва терпит ее. Таким образом, новейшее правовое положение всех религий в демократизированном государстве есть отрицательно довольно благоприятная предпосылка для развертывания работы церкви, имеющей последней целью христианизировать по возможности все разветвления жизни общественной и национальной. Это новая для нас, русских, наука, далеко еще не разработанная.
Поражающая, неожиданная, парадоксальная, антиномическая черта первохристианства, а затем и имперского, ромео-византийского завета всем дальнейшим христианским поколениям — это не какой-либо снисходительный только мир с государством, не утилитарный только союз по расчету, но положительная христианская любовь к нему, любовь, конечно, спасающая, а не ищущая спасения, как по слабости и грехам человеческим в грешной истории часто случалось. Церковь в этом союзе никогда не забывала своего примата.
С чего начались на опыте эти отношения? С бесконечной трагедии предательства и убиения государством Сына Божия! Казалось бы, незабываемая, непростительная вина. Источник оттолкновения и вражды. Но — удивительно! — апостолы не чувствовали вражды к чужому государству-завоевателю, а переносят главную вину на кровно-близкие им иудейские власти. Как и Сам Христос в диалоге с Пилатом, предавшим Его на распятие, подчеркнул: «посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Иоан. 19:11). Эта бесстрастность, эта искренняя лояльность в отношениях апостолов к римской власти, когда она, по провокации иудеев, начинает даже свои местные преследования христиан, продолжает нас удивлять. И ап. Павел и Деяния Луки и Соборные Апостольские Послания создают целое богословие лояльности к империи и молитв за нее. Его продолжают мужи апостольские, апологеты. В положительной тяге церкви к империи, вопреки факту гонений, есть нечто парадоксальное. От точки равновесия, указанной Господом — «кесарево — кесарю», церковь шла не к сектантскому озлоблению, не к отчуждению и замыканию от государства, а наоборот, к дружественному его приятию, исправлению, освящению и посвящению на служение царству Христову. Ни тени сектантской пессимистической брезгливости. Впадая в такой тон, Тертуллиан не был уже кафоликом, а еретичествующим монтанистом. Поистине христиане имели харизму любви к врагам. Империя слепо враждовала с церковью, а церковь матерински скорбела, и долготерпеливо ждала и верила, что это только горькое недоразумение, которое должно скоро кончиться. Надежда церкви оправдалась. Империя в лице Константина Великого преклонила колена пред Крестом и Евангелием. И церковь, вся без исключений, единогласно приняла родившийся отсюда союз с государством — еще вчерашним, по недоразумению, врагом — как нечто самоочевидно-нормальное, не вызывающее никаких недоумений, никаких вопросов. Это было органическим вотумом всеобщего вселенского соборного голоса церкви, без внешней формальности «вселенского собора», но с равным ему по существу авторитетом: считать впредь законом исторического бытия церкви ее союз с государством. Это вошло в состав канонического «священного предания церкви».
Конкретная история создала затем самые острые, самые неожиданные конфликты церкви с христианскими императорами, принимавшими сторону ересей и становившимися врагами православия. Отцы церкви восставали против императоров-еретиков, обличали их как Илия Ахава. Но от союза с государством не отказывались. Злоупотребления императорской власти не приводили их к мысли отвергнуть самый принцип союза от того, что им злоупотребляют.
Церковь первохристианская, гонимая государством, все-таки настолько тяготела к нему, так «тосковала» о нем, что к Константину, едва только обращенному и еще не крещеному, бросилась как к праведному арбитру с разбором донатистского раскола. Сам император вошел в это дело без малейшей скрупулезности, по привычному праву языческого императора, как верховного жреца — «pontifex maximus» — судить о вопросах культа — (jura circa sacra). И церковь, без всякого коварства, положила вес императорской фигуры на свою чашу весов. В язычестве Pontifex М. был фигурой нейтральной, возглавляющей все религии и культы. А теперь, в силу монотеистической сущности христианства, как единой истинной религии, исключающей все другие, христианский Pontifex М. превратился в монопольное орудие защиты интересов церкви против всех других религий и даже сект внутри самой церкви. Именно в качестве защитника монополии кафолического православия против зашумевшего арианства. Константин Великий в 325 году созвал первый Вселенский Собор и даже создал этим прецедентом самую каноническую форму вселенских соборов, прототипом коих все-таки навсегда остается собор апостольский (Де. 15), если не считаться с капризным мнением архиеп. Сергия (Старогородского), позднее патриарха, признававшего апостольский собор прототипом собора епархиального.
Константин не вновь создал, а только завершил реализацию того, что его особенно пленило в церкви. Это — ее «кафоличность» — вселенскость, сознание ее единства через единство ее епископата и через практику соборов. Ничего такого не было в Римской религии и империи. Никакой централизованной жреческой иерархии. Все жрецы, как муниципалы, были просто членами местных самоуправлений. В теле империи как бы не было души. Кое-где заменяли ее местно практикуемые культы богини Roma и обожествленных императоров. Но эти туманности были уже не в силах дать дряхлеющей империи ясного единства самосознания. Политическая мудрость Константина открыла его базу и источник в христианстве и церкви, организованной в иерархическое единство. В старое тело Константин вдохнул этим молодую душу. И удивительна реакция на это церкви. Ни секунды колебаний, подозрений к «царству от мира сего». Как невеста, кидается она в объятия своего «суженого». В этом неожиданном браке казавшихся полярностей церковь нашла, наконец, новый этап своего всемирного апостольства: «научения» и «крещения» не только лиц, семейств, но и «всех народов» (Мф. 28:19) и всего их собирательного комплекса, в виде царства Римского, внутри которого, по пророчеству Даниила, создается «царство вечное народа святых Всевышнего» (Дан. 7:18, 27). Церковь этим путем встала без борьбы на духовно опустевшее место угасшей античной души империи метала ее новой душой. Империя не только омолодилась. Она воскресла из мертвых к новому 1200-летнему периоду своего исторического существования. Император, как был возглавителем культов, так им и остался, по традиции, без видимого новаторства, тем более без всякой революции. Прежде он назывался в этой роли Pontifex Maximius, а теперь «епископ внешних дел церкви» (т. е. не сакраментальных, а юридических функций). Историк V в. Сократ уже эпически констатирует, что «с момента, как императоры (василевсы) начали быть христианами, дела церкви начали зависеть от них, и по их усмотрению произошли и происходят самые большие соборы» (Hist. Есcles-ca. Migne. P. Gr. t. 67 col. 565). Так началась, сложилась и воспринята церковью с полным удовлетворением так называемая византийская система церковно-государственной «симфонии», согласия, гармонии. В 6-й новелле Юстинианова Кодекса эта доктрина изложена так: Церковь и Государство суть два божественных дара человечеству, два порядка вещей, вытекающие из единого источника — из воли Божией, их учредившей. Послушные воле Божией эти два порядка должны быть в полном согласии (consonantia-symplionia) междусобой. Церковь ведает делами божественными, небесными. Государство — человеческими, земными. В то же время государство всемерно печется о хранениицерковных догматов и чести священства. А священство вместе с государством направляет всю общественную жизнь по путям, угодным Богу. (Cor. Jur. Can. Nov. VI, praef.). Идеальная цель двух порядков единая и единственная, христианская, сотериологическая. Земной порядок не имеет особой цели в себе. Он только функция в одном и том же сложном организме «государство-церкви» Это — оцерковленное государство и огосударствленная церковь.
По чуждости и нерасположению к этой системе западные ученые окрестили ее именем «цезаро-папизм». Но эта этикетка, нашедшая отклик в русской публицистике в термине «папо-цезаризма», обратно укоризненном для латинизма, неточна по существу, как раскрыли русские византисты: Г. Острогорский, проф. Белградского университета, и Г.В. Вернадский Йельского (Нью-Хэвен) университета. Этот укоризненный термин характеризует только злоупотребления системой и юристы Византии не были наивными людьми, смотрели открытыми глазами на все злоупотребления, еретические падения своих василевсов и тем не менее продолжали утверждать правильность системы «симфонии» и совершенствовать, уточнять ее формулировку. Таким шагом вперед должна быть признана формула Эпанагоги, законодательного свода конца IX в. после искусительной эпохи императоров-иконоборцев. Эпанагога настаивает на идеале равноправия двух властей. «Подобно человеку, государство («политиа») составляется из частей и частиц, из коих главнейшими и необходимейшими являются царь и патриарх. Посему единомыслие и согласие во всем, царства и священства, есть мир и счастье подданных по душе и по телу», (t. III, col. 8). Эта идеология двуединства через «Синтагму» Матфея Властаря (XIV) распространилась, как общепринятая, во всех славянских церквах.
Идеал симфонии часто и грубо нарушался. Падали вместе с василевсами и малодушные иерархи. Но знамя церковной доктрины вновь и вновь подымалось над грешным уровнем. В самом начале союза церкви и государства Афанасием Александрийским, Иларием Пиктавийским, Луцифером Кальярийским, Амвросием Медиоланским от лица церкви бросались смелые обличения императорам — сыновьям Константина за их вмешательства в догматические споры. Классический период вселенских соборов (IV-IX вв.) дает яркую иллюстрацию вторжений императоров в дела веры, насилий над епископатом, созывов еретичествующих соборов 712 и 754 гг. Но все это потом сбрасывалось соборным мнением церкви (аналогичным светскому «общественному мнению») и спадало с нее «ветхой чешуей». Особенно памятна героическая фигура преп. Максима Исповедника, высящаяся над всем VII веком. Он в данном случае для нес интересен тем, что он explicite отвергал,: как ложь, ту цезаро-папистическую теорию, которой придворные льстецы хотели прикрывать еретическую политику Двора. По его пути идут Иоанн Дамаскин (VIII в.) и Феодор Студит (IX в.). Первый пишет: «Василевсам принадлежит управлять государством. А церковное управление находится в ведении пастырей и учителей. Всякое вмешательство есть разбой» (Migne. P. Gr. t. 941 с. 1296). Второй писал иконоборчествовавшему имп. Льву V Армянину: «Церковные вопросы должны передаваться на решение собора иерархов. Василевсу вверено управление внешними делами. Иерархи решают все, что касается догматов и веры. Ты же должен слушаться их и никоим образом не посягать на их сан» (Migne. P. Gr.t 99 с. 184). Одним словом, опыт симфонии, после его соблазнительных провалов иконоборческой эпохи, дал право потерпевшей иерархии выше поднять голову и более подчеркнуто толковать симфонию в духе «диархии», равноправия двух властей. После торжества церковной идеологии над тяжелой эпохой цезаро-папистических грехов царской власти, вплоть до конца Византии (XV в.), продолжалась все время перемежающаяся борьба церкви с грешными посягательствами императоров на свободу церкви, но и с проявлениями высокого мужества иерархов и их фактического, и во всяком случае морального, торжества над самоуправством василевсов. Лев VI (886—912) так и не добился от патриарха Николая Мистика благословения на незаконный 4-ый брак.
157
Патриарх Полиевкт в 969 г. не впустил в храм Св. Софии Иоанна Цимисхия, воцарившегося путем убийства предшественника на троне, и признал Цимисхия только после принесения им публичного покаяния в грехе цареубийства. За подобное узурпаторское воцарение знаменитого основателя династии Михаила Палеолога (1259—1282) патриарх Арсений отлучил его от церкви. Создался целый раскол на полстолетия в церкви. Победила в конце концов каноническая сила действий патриарха Арсения. В догматические споры XIV в. о Фаворском свете вмешивалась борьба сменяющихся династий Палеологов и Кантакузенов, но победил независимый от политического давления афонский, антилатинский исихазм. Даже грандиозное цезаро-папистическое предприятие Палеологов, в виде внешне победоносной Флорентийской унии, было свергнуто без труда пассивным соборным неприятием его всем греческим народом и рассеялось, как исторический призрак.
Итак, восточный симфонизм и диархизм, несмотря на фактические грехи (нет безгрешной человеческой, даже и церковной истории) на деле себя оправдал, как система. Это видно по достигнутым им результатам. Им создано величайшее во всемирной истории явление христианской цивилизации. Не просто как одной из цивилизаций, а именно как цивилизации par exellence, цивилизации, главенствующей на земном шаре, ведущей все человечество, настолько превосходящей качественно все другие цивилизации, насколько смутны, дефективны иные религии и лежат они ниже уровня религии высшей, христианской. Пришедшей в мир новой христианской религией как раз и был охристианен тот комплекс народов в средиземноморском бассейне, которому принадлежало культурно-государственное первенство. Через этот имперский комплекс охристианена и вся земная история. Даже отступившие и отступающие теперь от христианства народы не в силах изменить своим отступлением этого исторически необратимого и благодатного факта.
Христианство в его полной реализации есть не только скрытая от очей мира сего интимная жизнь отдельно взятых личностей, составляющих церковь невидимую. Но в то же время оно порождает и церковь видимую, кафолическую. Иначе говоря, христианство и сверхлично, всенародно, кафолично, соборно, всемирно, космично, в чистом и достойном смысле — тоталитарно. Эти две антиномические стороны и задачи христианства есть как бы два глаза церкви, открывающие перед ней полноту перспективы. Отдельные христиане, по естественной ограниченности сил, не могут вместить такой полноты божественной премудрости и обыкновенно видят только одним глазом, ревнуют только об одной стороне спасения, преимущественно о спасении своем личном. Лишь особо выдающиеся души калибра апостольского, святоотеческого расширяются до ревности о теократическом спасении всего народа, всего государства. Как Христос послал «научить и крестить» не только отдельные души, но и «все народы», так и церковь не ошиблась, став «воинствующей» за Христа на поле историческом не только интенсивно, в глубине индивидуальных душ, но и экстенсивно, покоряя «слову крестному» целые комплексы душ, целые народы. И прославила «равноапостольными» тех вождей народов, которые имели дерзновение коллективно погрузить в купель крещения подвластные им народы. Невзирая на греховную природу каждого человека, индивидууму вверяется в спасительный залог благодать церковных таинств. Также, невзирая на греховную природу человеческих коллективов, наций, земных царств, церковь чувствует себя ответственной и обязанной крестить эти собирательные тела, т. е. народы с их государственными формами. А затем — этот естественный космический, полумеханический комплекс терпеливо, в длительном перевоспитании, морально-педагогически и вместе иррационально, благодатно преображать, или по крайней мере — символически приближать к преображению в кафоличность, соборность мистического Тела Христова. Так плоть спасается духовно «сообразно славному телу Господа силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Филип. 3:21). Плотское «сообразуется» духовному и тем благодатно преображается. Так грубый натуральный материал племени, наций, государства, является не препятствием, а опорой, базой христианского, церковного, таинственного, хотя и явного по своим результатам, преображения во Христе. По подобию преображения воспринятой во Ипостась Сына Божия природы человеческой в Богочеловечество, и все языческое, дохристианское наследие истории призвано не к осуждению на смерть и уничтожение, а к просветлению, возвышению и «обожению» (теозис), по речению греческих отцов церкви.
Нашей православной традиции совершенно чужда протестантская брезгливость к византийской симфонии священства и царства, как будто бы некоему падению, якобы языческой реакции. То, что христианские василевсы образовались так сказать из античного языческого теста, для нас не порок, а свидетельство силы церкви. Тут, как и по всей линии естественных форм жизни, мы видим свидетельство победы церкви над косной материей, преображения ветхого человека в нового, в «новую тварь», главы и вождя народа языческого в главу и вождя народа христианского в мощное орудие устроения царства Божия на земле, в реальности конкретной. Мы — не буддисты, не спиритуалисты, не монофизиты. Царство Божие для нас не родится из спиритуалистической пустоты. Оно ткется из космических, осязательных материалов и прецедентов. Оно берет тварную реальность со всей ее дефективностью и даже живущим в ней первородным грехом и смело, без еретической буддийской трусости, наступательно овладевает ей, перерабатывает, очищает, высветляет, преображает. Это работа трудная, часто рискованная, компромиссная и не всегда успешная. Но единственно мыслимая и реальная. На этих путях «преображения» церковь часто с трудом продирается через дебри истории и изнемогает, «уничижается». Но это ее неизбежный и обязательный путь подражания страдальческому крестному «уничижению» (кеносис) Сына Божия. Уничижил Себя на земле Невидимый Глава Церкви и возложил этот долг на свое видимое тело церковное, пока не наступит грядущий час уже не нашего земного, кропотливого и малосильного преображения жизни в «мире сем», а свыше сходящего, Божьего, чудотворящего преображения «всяческих», после последнего суда. А пока в глазах Православного Востока является догматически совершенно оправданным весь исторический опыт созидания теократии, начиная с древнего Израиля и переходя к новому христианскому царству в лике двуединой «Ромейской» империи и ее византийской половины с их саттелитами. Пройденный путь подвига теократии был уничтожен многими грехами как в церкви ветхозаветной, так и новозаветной. Но он не утратил своего величия по его светлым достижениям. Напрасно протестанты отпугивают от теократии средневековыми карикатурами пап, командующих лично войсками на поле сражения. Наша церковь чиста от похоти политической власти, неответственна за такое искажение теократии. Она неустанно желала и желает, чтобы во всех и земных, культурных, материальных, общественных, политических, даже военных делах, везде бы царил дух Божий, везде и во всем святилось бы имя Отца Небесного и все и вся проникал бы свет Христов. Но церковь сама непосредственно в свои руки не берет и никогда не возьмет «ни меча и ни орала, ни копья и ни серпа», ни военной, ни мирной техники. Она блюдет лишь дух, устремление и посвящение всех дел и вещей мира Святейшему Имени Троицы Единосущной и Нераздельной. Церковь требует и помогает, чтобы «мир сей», и в теперешнем его состоянии, еще отравленный грехом, уже служил всеми ему свойственными силами и средствами Царству Божию. Такое служение земного человечества, со всеми его государствами, культурами и техникой, поскольку оно уже крещено и охристианено, и есть служение неложно «теократическое». Подчеркивая его новозаветный характер, в отличие от неполного откровения ветхозаветного, мы предпочли бы называть его новым термином «христократии». Наша православная система симфонии и диархии, исключающая по своему смыслу и монофизитское и несторианское ее извращения и является практически наилучшей из христианских систем связи церкви с государством, истинной христократией.
В России патриархальная симфония длилась от начала христианства, от св. Владимира до Петра Великого. Перелом, сначала идеологический с половины XVII в., увлек Петра и к реформе конституционной. Православная симфония была им отвергнута. Петр однобоко-полемически толковал ее в смысле латинского клерикализма. Он увлекся модной тогда в Европе теорией просвещенного абсолютизма, нашел себе, после ряда ошибок, единомышленного сотрудника, протестантствующего богослова, подлинно ученого и талантливого полемиста и агитатора Феофана Прокоповича, который с убеждением отдал свое софистическое перо на службу Петру. Явился на сцену истории новый вид высшего церковного управления, неведомый канонам, прикрытый благообразным именем Святейшего Синода, ложно объявленный Феофаном, при молчании подавленной террором иерархии, «собором». Это было государственное бюрократическое учреждение коллегиального типа («Духовная Коллегия») под главенством монарха. Восточные патриархи легализировали это неясное для них учреждение, сняли с него формально-каноническую дефективность. За время двухсотлетней своей жизни и деятельности Св. Синод внутренне преображался, оцерковлялся духом православной каноники. А командующая им власть европеизированных русских абсолютных императоров ответно, под влиянием личной привязанности к церкви, тоже внутренне сообразовалась с православной традицией и действовала с сознанием старорусских теократических царей православия. Но правовой канонической базы под этим «стилем» выступлений и действий русских царей эпохи империи не было. Основные Законы Российской Империи с грубостью разрушили иллюзию симфонии, выдвигая фигуру территориального главы страны и ее церкви (Landesherr'a), фигуру не православного церковного права, а протестантского.
Укреплению и устойчивости этого не православного по существу и не традиционного строя способствовал общий кризис культуры. Кончились средние века. Общее мировоззрение эмансипировалось от примата религий. Наступило господство секулярной, лаической, не только внерелигиозной, но и прямо антирелигиозной философии. Государства возревновали об освобождении от религиозного контроля. Наоборот, политические власти сами взяли все вероисповедания под свой контроль. В протестантских странах это разумелось само собой, и князья и короли по конституции возглавляли церкви. Классический образец — Великобритания, вплоть до наших дней. В католических странах церковь ограничивалась принятием конкордатов, через которые она становилась в разряд лишь терпимых учреждений, пользующихся если и некоторыми привилегиями, то в строго ограниченных конкордатами рамках. Со старыми теократическими перспективами новые государства в новые века просто перестали считаться, не давая им ходу на деле и предоставляя им умирать, как нереальным мечтаниям безвозвратного прошлого.
Русский опыт модернизации и порчи канонического строя, под давлением секулярных идей Западной Европы, не мог не облегчить такой же канонической порчи и в других православных национальных церквах, выбившихся в XIX в. на свободу из-под ига ислама. Элладская церковь под контролем немецкого протестантского правительства скопировала с русского, тоже подражательно-протестантского образца, систему государственного Синода так же, как и русский Синод, подчиненного государственному министру-контролеру. Через четверть века с Константинопольским патриархом, она получила со стороны последнего в 1850 г. каноническое признание автокефалии, да и самого синодального строя, в свое время в 1724 г. признанного законным для церкви российской. Этот строй в Элладе не симфонического союза церкви и государства, с протекторатом и приматом последнего, по временам смягчался некоторыми отблесками древней симфонии. В настоящее время, наоборот, эти отношения омрачены посягательством, хотя номинально и королевского, а реально парламентского правительства на имущественные права Элладской церкви. Церкви — Сербская, Черногорская, Болгарская, Румынская, по мере политического освобождения из-под ига турок, вместе с тем уходили из-под зависимости и от Константинопольского патриарха, приобретали автономное и автокефальное положение. Вместе с ростом политической независимости новых государственных образований и церкви внутри их определяли свое отношение к национальной власти в духе традиционной восточной симфонии. До этого времени в период туретчины местные церкви под канонической властью вселенского патриарха сохранили свою глубокую и интимную симфонию со стихией народной, чем и воскрешена была почти совершенно обреченная болгарская национальность. Но установление союзных отношений со своими молодыми государствами уже не могло быть простым повторением древней симфонии. Западноевропейские державы, тяготевшие над Балканами, навязывали новым государствам свои династии и предписывали демократические, парламентские конституции. Тут симфония неприложима даже в лице династии. На трон Эллады сначала посадили протестанта Георга-датчанина. Затем через брак с русской великой княгиней Ольгой Константиновной династия оправославилась. На трон воскресающей Румынии посадили католическую династию. В новоучрежденное, благодаря русской победе над Турцией (1877—78 г.), княжество Болгарию посадили князем сначала протестанта Александра Баттенберга, а в 1887 г. католика Фердинанда Кобургского. Лишь отдав своего наследника Бориса православной вере в 1896 г., он закрепил свою династию. Черногория с своей народной династией Негошей, и Сербия — Обреновичей и Карагеоргиевичей строили у себя более симфонический и старозаветный союз церкви с государством. И все-таки, несмотря на благоприятную предпосылку в них многовекового, защитного против туретчины, интимного союза православия с народностью, предписанный им Европой парламентский строй сам собой исключал реализацию прежней классической симфонии. Да и образца ее перед глазами уже не было. Даже самодержавно-монархическая Россия являла собой пример православной церкви, закованной в золотые цепи европейского просвещенного абсолютизма, командующего ею в интересах (якобы «высших»!) светской государственности. В общем новые конституционные монархии Балканского полуострова, копируя и приспособляя Духовный Регламент Российского Синода, все дальше и дальше уходили от возможностей древней симфонии и в атмосфере парламентских режимов, все более и более приближались на практике к принципу раздельной жизни церкви и государства, т. е. от брачного союза шли к разводу или «раздельножительству».
Однако следует признать, что свободные искания нового человечества и новой правовой базы государства, и новых форм взаимоотношений с религиями и культами, после ряда реформационных (в сущности революционных), потрясений XVI в., последовавших отсюда религиозных войн (тридцатилетняя война нач. XVII в.) и династических потрясений (Англия XVII в.) — увенчались нелегко купленным, но драгоценным завоеванием принципа так называемой «свободы совести», т. е. свободы не только религиозных верований, но и их исповедания и пропаганды и миссии. И не только свободы культов, но и свободы влияния религиозной морали и проповеди на жизнь общественную, национальную, государственную, культурную. Это, конечно, в принципе, в абстракции. На деле нигде нет и не может быть арифметического равенства. Но руководящий идеал равенства в религиозной свободе остается, как знамя, как мерка, как регулятор.
Консервативная Великобритания, осуществившая при своем монархическом парламентском строе все демократические свободы, однако удержала до сих пор старозаветный союз церкви и государства. Но идеалу симфонии этот союз далеко не соответствует. Протестантское начало главенства короля в церкви частично переносится и на разноверный и внерелигиозный парламент, вотум которого по вопросам догматико-литургическим представляет собою уродливое явление.
Итак, для старой системы симфонии новое время принесло неизбежные потери, но зато как бы в возмещение и свои приобретения. Церкви не с кем стало симфонировать. Государство переродилось в чуждое ей: в лаическое, новоязыческое, часто враждебное и даже гонительное как было в античном мире. Человечество отказалось от цели религиозной и утвердилось на задачах только секулярных, лаических. Поклонилось единому богу земной культуры. И на страже интересов этой культуры поставило суверенное государство. Последнему можно только подчиняться, только «ладить» с ним и ни в каком случае не равняться, не играть в симфонию, тем более не претендовать ни на духовный примат над ним, ни на руководство им. Будет ли лаическое государство монархическим, или республиканским, или модерно-авторитарным, т. е. диктаторским, оно все равно религии отводит место в линии всех других общественно-культурных функций, как литература, искусство, наука, экономика, хозяйство. Попытки старой германской социал-демократии внушить теорию, что религия относится к делам совершенно личным, частным (Privatsache) все-таки по своей антиисторичности не могло овладеть по инерции сложной общественной психологией религии, так что религия осталась в новых демократических государствах объектом публичного права и даже с естественно унаследованными от прошлого чертами исторических привилегий для конфессий характерных, национальных, локальных. Таково, т. е. в оболочке публичного права, по буквам конституций, положение конфессий в странах протестантских: Германия, Швейцария, Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия. И в странах католических: Испания, Ирландия, Италия, Венгрия, Польша. В части стран восточной Европы, оккупированных сейчас советским коммунизмом, временно создалось исключительное положение и подавление свободы совести, о чем два слова ниже. В Италии, после полстолетнего демонстративно-полемического разрыва с церковью, учиненного еще карбонарием (масоном) Гарибальди (1871 г.), при Муссолини (1924 г.) было установлено конкордатное примирение с церковью, с признанием даже старого церковного государства (Cité Vatican), которое остается неприкосновенным и при нынешнем, созданном войной, республиканском строе, включающем в букву его конституции тезис об отделении церкви от государства. В Испании, по изгнании короля и при диктатуре Франко, de facto римо-католическая Церковь остается господствующей, другие исповедания ограниченными в правах культа и пропаганды, но буква конституции, в противоречии с этой старинной действительностью, пользуется ходким лозунгом отделения церкви от государства. Если этот лозунг вписан в конституцию 1934 г. почти монолитно католической Португалии, то только благодаря научно-светлой голове ее диктатора профессора Салазара, ибо формальная свобода для других вероисповеданий Португалии фактически не меняет традиционного и естественного господства римо-католической церкви, закрепленного особым конкордатом. В Ирландии, при формальной свободе культов, господствует и отстаивает свое первенство и некоторые привилегии римо-католическая церковь. Во всех новых конституциях католических стран Европы, по примеру Сев. Америк. Штатов, вписано и с неизбежными второстепенными вариантами проведено модное формальное начало отделения церквей от государств: так во Франции, Бельгии, Чехословакии, Австрии.
«Отделение» выражается в лишении церкви старых государственных опор: казенного жалованья, права на школьное народное образование, на обслуживание богослужениями и духовничеством армии, на приведение к присяге в судах, на создание актов публичного права, т. е. метрических и брачных актов, обязательных и для государственных властей. «Отделенная» церковь или секта, если и ведет подобные акты для прибегающих к ее услугам верных, то не для государства, а для своих конфессиональных потребностей. Это ее внутреннее дело. Публично-правовое положение церквей и сект аналогично положению всяких других легализированных и контролируемых правительством обществ. И даже несколько выше. Исторически господствовавшие вероисповедания по инерции получают права на самоуправления наряду с другими корпоративными, коммунальными и городскими самоуправлениями. Все это, разумеется, с подконтрольностью и подотчетностью государству. Такой режим, при отсутствии открытой или скрытой формы гонения на церковь, особенно при спокойном и даже благожелательном нейтралитете государственной власти, является в современном нам мире практически нормальным, дающим церкви внутреннюю свободу и открывающим возможности для ее внутренней миссии в меру ее сил и вдохновения. Тут отсутствует тотальная видимость принадлежности к данной церкви всего населения государства, или его статистического, паспортного большинства. Тут нет ленивого обладания накопленным предками капиталом, лежащим в сейфе. Тут дан стимул к постоянному творческому миссионерскому напряжению церкви, как бы не растерять своих наличных членов и приобрести новых, если и в количественно скромных числах, но зато духовно-реальных, живых душ, а не «мертвых душ», числящихся только на бумаге и питающих ложную гордыню численных превосходств пред людьми, а не пред Пастыреначальником — Христом. При статуте «отделения» мы не можем похвалиться приближением к идеалу симфонии, но и путь к нему не закрыт. Прежде «симфония» предвосхищалась. Была оправданной на деле лишь частично, кое в чем. Остальное предвиделось в будущем, жило в надежде. По примитивности ткани нации и государства многое дано было еще в сыром, безличном виде, в первобытном стадном коллективе, а не в личной полноте и сознательности. Теперь мы не довольствуемся такой древней симфонией так сказать «в кредит», только частично, только символически. Теперь мы требуем симфонии реализованной в сознании каждой личности. И гражданское и национальное сознание индивидуализировалось. И утрата симфонии огульной, всего народа «в кредит», без разбора личной веры и неверия, все равно должна быть возмещена не статистически и механически целым народом, а только частью народа, его духовной элитой, его реально и подлинно верующим меньшинством, но зато по существу его «представительным меньшинством». Это не бумажная паспортная масса, а ядро и сердце данного народа, его христианская душа. И эта душа возвышается даже и над количественным большинством, раз оно отступило от веры, духовно опустошило, изничтожило себя. И эта живая христианская душа избранного меньшинства нации, не имея возможности симфонировать с отвратившимся, отчуждившимся от нее государством, симфонирует, таким образом, с нацией, с народом, с духовно избранным ядром народа христианского по имени. И через него, через это ядро, внутрен-
169
ними влияниями на окружающую общественную, культурную, политическую жизнь, творит посильное ее преображение в духе Христа, Евангелия и церкви, творит великое историческое дело теократии-христократии в новых формах жизни. Это проведение в жизнь христианских начал не аппаратом власти сверху, как кн. Владимир послал киевлян в воды Днепра для принятия крещения, не требованием от всех чиновников церковной присяги, как было в прежней России так еще недавно, в дни нашей юности и т. п., а христианизация всей секулярной, расхристианившейся жизни путем молекулярным, клеточка за клеточкой, шаг за шагом, деталь за деталью. Это не внешнее штемпелевание людей, вещей и учреждений христианским штемпелем, а внутреннее, реальное, хотя и несовершенное, частичное их духовное преображение... Не номинализм, а реализм. Посильное здесь на земле; в церкви исторической, воинствующей соединение двух миров, двух природ — божественной и человеческой по мерке Халкидонского догмата «неслитно и нераздельно», воистину симфонично, а не диссонантно, разноголосно, раздельно, т. е. еретично, по-несториански, как вынуждает поступать модная, вдохновляемая антирелигиозным идеалом доктрина обязательного отделения церкви от государства.
Неустойчивость и революционная изменчивость лика самого государства, с которым христианским исповеданиям приходится устанавливать и пересматривать свои отношения, в последние десятилетия ярко проиллюстрирована на радикальном опыте нескольких стран. Страшный лик большевизма, к сожалению, еще до сих пор не вполне осознанный до конца всеми, произвел сначала кое-где спасительный испуг и вызвал инстинктивную реакцию в виде националистических диктатур различной организованности и длительности: Финляндия; Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Австрия, Италия, Германия. Параллелью их опыта являются и пиринейские диктатуры Испания и Португалия. В наиболее разработанных идеологически и организационно диктатурах итальянского фашизма Муссолини и германского нацизма Гитлера предстала пред миром новая система тоталитаризма. Она упразднила неприкосновенность такой великой ценой и борьбой завоеванных европейским (христианским) человечеством так называемых демократических свобод: совести, слова, собраний, союзов и партий. Она дерзко вызывающе узаконила засилье только одной командующей партии и потребовала от всех поголовно единой философии и единой безрелигиозности. Бог и свободная мысль лишены прав гражданства и стали едва терпимыми, на грани дозволенного в частной, но не в общественной жизни. Муссолини выправил положение компромиссом, великодушным конкордатом с Ватиканом, даже безумный Гитлер признал публично правовое положение отдавшейся в послушание нацистской партии части церкви, подвергнув гонению так называемую «исповедническую» церковь. Очевидно легкомысленное сбрасывание со счетов неистребимого, глубокого факта религий практически оказывается невозможным. Это доказали самые крепкие, последовательные враги Бога и религии — московские коммунисты-большевики, после дикарски-глупых опытов тотального запрета религии и большевики сдались на абсурднейший для них компромисс, союза с церковью, да условии взаимных услуг, до которого опустилась, в потемках большевистского ада, и террористически загнанная и обезволенная часть епископата. Кошмарный абсурд этот с бесчувственным непониманием приемлется, как что-то нормальное и терпимое и иностранным церковным общественным мнением, экуменическими кругами, частью православных восточных иерархов и — что всего непростительнее — небольшой кучкой самих русских-православных, живущих здесь, в благословенных странах человеческой и христианской свободы.
В свете этого крайнего противоестественного опыта, сочетания несочетаемого, духовно страшной карикатуры на симфонию, мы с благодарностью оглядываемся на общее положение церквей и религий, создавшееся в окружающем нас теперь современном мире. Все лучше познается и оценивается путем сравнения. Мы видим, что с историческим антиквированием неповторимых психологически, социологически и политически форм древней симфонии и наступлением эпохи лаического суверенитета государств, конкордатного размежевания правительств с вероисповеданиями и даже полемического «отделения» церквей от государств и наций в духе генерального выбрасывания религии из всей области государственности и общественности, положение и перспективы христианства в мире и истории ничуть не трагичны и — наоборот — могут быть признаны очень оптимистическими. Под угрозой всемирного наступления антихристианского коммунизма мы должны по справедливости оценить блага демократических свобод и открываемых ими для христианского активизма вполне узаконенных и гарантированных возможностей. Должны благодарить за это Бога и защищать эти свободы, как воистину священное достижение, как благое средство и открытый путь для неотменимой для нас теократической задачи — построения царства Божия.
И в рамках демократической свободы, как увидим ниже, далеко нет желанных свобод для церквей. Но это все в пределах разумности и человечности, а не за границами здравого смысла, как в тоталитаризмах.
Церковь обладает устойчивым критерием в оценке государств и разных стилей отношений к ним. Государства же, по своей неустойчивости, такого постоянного критерия лишены. Духовная сущность государственной власти не является величиной неизменной. То государство — единоверный друг церкви и его сила носит имя «христолюбивого воинства», то государство чуждо церкви и в лучшем случае нейтрально, а то и прямо враждебно, безбожно, антихристианственно. При таких предательских метаморфозах просто безумно рассуждать по мертвой формуле равной механической лояльности ко всякой власти, даже антихристовой. «Что общего между светом и тьмой?» — восклицает Павел — «или какое согласие может быть у Христа с Велиаром?». Основной смысл директивы апостола о «повиновении всякой души властям предержащим», ибо «власти от Бога учинены суть» заключается в том, что христианин не отожествляется в своем внутреннем отношении к государственной власти ни с ее поклонниками и присяжными слугами, ни с оппозиционерами ей, ни с противниками. Ибо Христос и апостолы заповедали воздавать Кесарю (государственным властям) только кесарево, а не Божье. Сама же политическая власть, языческая по природе, этого сужения, ограничения своих прав вместить не может. Она по тенденции своей тоталитарна и легко срывается в тоталитаризм. Подавай ей под контроль и Божье. Христианство этой позиции сдавать не может. Христианин невольно становится ослушником таких нечестивых велений власти, посягающих на Божье. В последнем выводе он должен быть мучеником. Нечестивые веления относятся к нескольким категориям. Прежде всего к так называемому культу. Приказ чтить кого-то как Бога, кроме Истинного Бога: иных богов, государство, кесаря и т. п. Приказ выдать на профанацию предметы культа и таинств. Приказ публично оплевать свой монашеский обет и оскверниться блудом (так было при иконоборцах). Христианин не может быть пассивным исполнителем и просто безнравственных велений власти, ибо голос совести, требования Евангелия и заветы церкви есть тоже область не человеческая. Христианская мораль — это Божье, а не Кесарево. Если даже многие партийцы не перенесли моральной пытки раскулачивания крестьянских хозяйств, как же может в СССР-ии бессовестно повиноваться подобным антиморальным мерам христианин? Он попадает невольно в категорию революционеров и казнится, как политический преступник. Неправедная антихристианская власть клеймит его наравне с безрелигиозными ее противниками разных степеней — оппозиционерами и ниспровергателями, как классового врага, будто бы только материально заинтересованного. Но это — тупая, или намеренная ложь. Христианин ревнует о Божьем и в вещах мира сего, и в экономической и в социальной и в политической области. И в области «кесаревой», т. е. в самой узкой области государственной техники: в аппарате власти, законодательной, административно-военной и исполнительной. Суд христианства над всем, в том числе и кесаревым, — тотальный, но по мерке «Божьей». Христианство признает государственную власть установленной Богом в качестве одной из законных функций, вложенных Творцом в тварную космическую жизнь. И в этом смысле обязует христиан воздавать власти должное. Но не более. Божьего уступать мы не имеем права и в этих областях. А потому и в признании «кесарева» христианин не солидаризируется с поклонниками языческими, не обоживает кесарева, не идолопоклонствует пред ним. Оказываясь в оппозиции Кесарю, внутренне тоже не отожествляет себя с ней, ибо судит Кесаря иным критерием, чем язычники и атеисты. И когда противится Кесарю, то, извне как бы сливаясь с революционерами и, даже борясь по видимости единым фронтом с ними, тоже внутренне не совпадает с ними ни психологически, ни идеологически. Как показал опыт мученичества и исповедничества, христианин не наскакивает на государство, не провоцирует его, но в необходимых случаях (суд, защита слабых, ограждение святынь) пророчески и дерзновенно обличает власть, когда она творит дела антихриста. Трагическое, самое острое, в условном смысле «революционное» отношение к государственной власти развито в Иоанновом Апокалипсисе. Таким образом, система отношений христианина к государству зависит от качества и поведения самого государства. Последнее должно быть достойно союза и дружбы церкви. Церковь обладательница высших духовных ценностей, которыми может быть возвышено и украшено государство, а не наоборот. Посему, в виду грешного по существу бегства государства от церкви, церкви остается не гнаться угодливо за блудным сыном, как будто она без него и жить не может, а терпеливо ждать, когда он промотается и сам ощутит потребность в покаянном возвращении... Церковь должна стоять на своих ногах, жить в разрыве, в вынужденном «разводе» с государством, но творить свое вечное дело строительства в душах царства Божия, пользуясь духовной свободой развязанных рук.
Это не отказ от нормы симфонии, а перегруппировка позиций, в виду коренного изменения современной нам действительности сравнительно с невозвратимым прошлым. Вредно быть мечтателем, иллюзионистом как в мире вещей материальных, так и религиозных. От деятелей церковных требуется трезвый реализм. Обстановка подсказывает, не изменяя вечному идеалу симфонии, ценить и уметь использовать все удобства господствующей системы «отделения». Пусть создал ее враждебный церкви лагерь. Но она стала неотвратимой реальностью. И мы, христиане, обязаны не томиться бесплодным старообрядческим, реакционным отрицанием ее, а отправляться от нее, как от данной базы, т. е. всесторонне использовать систему «отделения».
За свою примитивно-теократическую симфоническую связь с государствами церковь не могла не платить постоянно деловыми компромиссами. И платила дань немалую. Она должна была и педагогически и просто технически приспособляться к временным, текущим, позитивным интересам. Она и «приручалась» к ним государством и сама обмирщалась. Наша земная плотяная социальная ткань по природе — языческая, основанная на животном эгоизме. Евангельские мерки в их будничном синтезе с прозой нашей социальности не могли не принижать своего сверхчеловеческого максимализма до уровня минимальной полуязыческой практики государства. Гордому и потому жестокому Л. Толстому нравилось обличать церковь за такую «измену Евангелию». Но мы считаем эту безжизненную абстрактную критику, без указания практического, конкретного способа выполнения небесного идеала Евангелия, и немудрой и бесплодной. Да, церковь и без Толстого знает, что она в сей юдоли плача на земле влачит свою деятельность на очень снисходительном, компромиссном уровне. Из трезвого педагогического расчета, что только на такой смиренный синтез уполномачивает ее трагическая антиномия двух миров — Божеского и человеческого. По великой и естественной и евангельской, любви к немощному человечеству она «уничижается», довольствуется лишь минимальным, даже только символическим послушанием евангельскому зову, в надежде, что Христос, по Златоусту, и «намерения целует» и «проекты хвалит». Да, церковь «уничижается», спасая человечество, подражая в этом «уничижению» Самого Богочеловека.
Из этих двух видов тоталитаризма самый крайний и последовательный — СССР-овский остается пока торжествующим победителем. И от него именно сейчас приходится защищать христианскую свободу для четверти миллиарда порабощенного им человечества. А если принять во внимание начатый недавно процесс систематической мао-цзе-дун-овской коммунизации всего Китая, то опасность давления на религиозную свободу должна теперь расшириться и на целые полмиллиарда человеческого рода. Опасность становится планетарной. И вопрос о церкви и государстве сам собой перелицовывается в вопрос об одной из существенных человеческих свобод: о свободе религии или свободе совести. Свобода вообще в мире встала сейчас пред смертельной опасностью. Мы должны духовно мобилизоваться, отчетливо осмыслить все достижения и промахи прошлого в данной сфере, главное — продумать достаточно конкретно все диспозиции боя, сложившиеся к настоящему моменту, и избрать соответствующую моменту тактику. Пренебрежение к этой, так называемой «церковной политике», и непредусмотрительность отмщаются на деле тем, что иерархия оказывается застигаемой событиями врасплох и вынуждается к самым нестерпимым компромиссам. Пример — капитуляция московских иерархов пред служением мировому коммунизму под предлогом будто бы обязательной для православия коллаборации с государством, безразлично каким по своей духовной сущности. Если такой соблазн богословской мысли и такого умопомрачающего церковного действия мог произойти с таким большим богословом и вместе с таким бескорыстным аскетом-монахом, как покойный патриарх Сергий (Старогородский), то что же говорить о преемнике его патр. Алексее, и других. Если еще за железным занавесом многое объяснимо духовной костоломкой, сокрушением воли и ясного сознания через систему грубого и утонченного террора, то бесспорным свидетельством слабости и ума и совести является принятие антихристовой СССР-овской государственности людьми, по эту сторону грани живущими. Особенно страшна эта болезнь в людях религиозных. Если одержимые слепыми страстями национализма бросаются, как извращенцы, на советчину, принимая ее за настоящую патриотическую пищу, то людям религиозным, а следовательно обязанным разбираться в вещах не только материальных, «плотских», но и в духовных, непростительно смешивать святое и нечестивое, благовоние фимиама и зловоние сероводорода, Божье и дьявольское. Если такое смешение не показной самообман, то это болезнь совести, схождение с совести как сходят с ума. Это интервенция мистических темных сил в грешную человеческую жизнь, духовно не огражденную от козней диавольских. Словом, мы стоим пред страшным фактом потери различия добра от зла.
Таким образом, вопрос о взаимоотношениях государства и христианства не так-то уж теоретичен и схоластичен. Он сидит на нашем израненном русском церковном теле как стеснительный и неприспособленный мундир, требующий разумной переделки. И мы, русские, обреченные на муку катастрофического опыта, не можем не проверить на нем всех установившихся в европейской истории типов церковно-государственных систем и не можем не сосредоточить наше внимание не на вопросе «вообще», а именно на нашем опыте, на наших русских православных потребностях, по пословице: «у кого, что болит»...
* * *
С самого начала ускоряя наш бег к обсуждению прикладных вопросов практической политики, не будем развивать даже основной, исходный богословский вопрос, как мы обязаны по Евангелию трактовать размежевание сфер церкви и государства. Довлеет к сему сверхчеловеческое слово Господа — воздавать Кесарю кесарево и Богу божье. Тот и другой порядок реальности законен на своем месте, в своих границах. Смешение обеих сфер ведет к нарушению богоустановленного равновесия. Каждой сфере подобает отдавать должное ей. Легко это сказать, но нелегко сделать. Греховная природа человека с ее страстями и слепотой все время уклоняет историю христианства от желанного равновесия. Но благо, что идеальный критерий дан, и мы этим гарантированы от односторонности ересей. А ереси нас здесь подстерегают: или ложный монизм или ложный дуализм.Обыкновенно в православной практике эти два уклона и понимания и чувствования на пограничной полосе, разделяющей небесное и земное, Божье и кесарево, допускаются существовать параллельно, применительно к личным особенностям и темпераментам верующих, дабы «не угашать их духа», давать им необходимую свободу употреблять на дело Христово и спасение души свои естественные таланты и влечения. У нас в православии благословенны и монашество и мирское христианство, и черное и белое духовенство, и созерцательная Мария и хлопотливая филантропическая Марфа. По верному практическому, да и теоретическому, инстинкту у нас нет для этой «пограничной» области схоластически выработанного богословия, которое стесняло бы и одинаково смущало два естественных течения и стиля православного благочестия и практической активности. И это отсутствие четко выработанной схоластической доктрины в православии для жизненного христианского творчества, т. е. для посильной для нас христианизации всех функций царства кесарева, в которое мы погружены, в духе недосягаемого совершенного царства Божия, и составляет один из даров Святого Православия. Мы движемся по двум параллельным путям. Духовное качество этих двух путей в абстракции столь полярно, что живой параллелизм их теоретически должен быть исключен: или прочь «от мира», или дружно всем миром «к миру». Между тем такой парадоксальный параллелизм церковью нам дан и предписан. Это одна из многих так называемых антиномий нашего богословия. И то и другое — «в не сливающемся различии и неразлучном соединении», по вероопределению IV Вселенского Собора. Таким образом, в Православии и богословско-теоретически, несмотря на зияющую антиномию, снят безысходно трагический спор между церковью и государством. Тем более на опыте, в истории, Православие завещало нам счастливую традицию открытого, смелого, богословски искреннего до наивности детскости, союза дружбы и взаимопомощи церкви с государством. Сколько было несовершенств, грехов и падений на этом пути — это уже другой вопрос, вопрос практики, но в учении церкви, в идеале, им предписанном, у Православия нет двусмыслицы, нет колебаний, нет сомнений. А вышеотмеченные оттенки разномыслия и разночувствия двух течений, аскетического и светского, в узаконенных и церковью контролируемых пределах, дают православным счастливую свободу по примеру прошлого и в трудном будущем нащупывать, искать и экспериментировать все возможные приличествующие христианам методы и технику работы на обширных полях государственности, общественности, социальной, экономической и общей интеллектуальной культуры.
* * *
Римская система известна, как доктрина универсального господства церкви над всем ходом истории земного человечества, верховодства над государствами, с претензией по возможности даже непосредственно управлять их функциями прямо руками самих служителей церкви. Идеал этот полностью никогда не достигался. Настолько сильно боролись с ним даже и в средние века сами католические государства. А в новое время новыми государствами он и совсем сведен на нет и подписанными самой римской церковью конкордатами и конституциями. Латино-папскую систему протестантская и светская наука издавна именует «теократической» и придает этому термину осудительный, чуть не криминальный смысл. Между тем библейская священная история есть история теократическая. И церковь новозаветная, мистическая наследница церкви ветхозаветной, приняв на свою голову терновый венец с головы Христа, возложенный слепыми (когда-то теократическими!) властями синедриона и римской власти, в конце концов образумила государство и победно вернула его к его теократическому служению. Таким образом, идеал теократии — не криминал римской церкви, а ее заслуга, верность жизненному догмату нашей и ветхозаветной и новозаветной библейской веры. Вина Рима в искажении догмата на практике, вина в «иерократии», во власти клира над государством, в клерикализме. Восточное Православие, как и следует тому быть, было и осталось теократичным в законном, библейском и каноническом смысле, но, как увидим сейчас, без латино-римского искажения. За свои ошибки Рим расплатился бунтом Реформации. В противоположность Риму Реформация создала систему верховенства государств над церквами, так называемого «территориализма» (cujus regio — ejus religio), подкрепленного идущей ему навстречу светской гуманистической теорией «естественного права» (jus naturale) об абсолютной власти монархов, управляющих своими церквами. В англиканстве это главенство не только короля, но — увы! — и разноверного парламента над государственной церковью составляет тяжелое наследие прошлого до невероятных почти для наших дней уродливостей. Такова, например, парламентская процедура и отрицательное тормозящее голосование, не давшее возможности церкви провести свой пересмотренный и догматически ретушированный текст Prayer Book.Новейшие государственные конституции упростили данную проблему путем отрицательным. Они вывели за скобки государственных обязанностей все религии вообще, уравняли их в формальной свободе всех культов и, так сказать, изгнали религию из государственного обихода, в сущности, в область частного права. Хотя публичное право нынешнего государственного контроля держит культы под бдительным надзором государства. Эта современная эволюция захватила под свое влияние, с разными местными вариантами, и все православные церкви. Однако их идеальная доктрина о государстве, их исторический опыт, их каноника, практика и миссионерская тактика лежат по-прежнему на них ответственным бременем и требуют постоянного активного творчества, нахождения путей и способов осуществления и в этих новых, стеснительных условиях царства Божия на земле, несмотря на слепоту «царства от мира сего», которое гонит вон от себя церковь, едва терпит ее. Таким образом, новейшее правовое положение всех религий в демократизированном государстве есть отрицательно довольно благоприятная предпосылка для развертывания работы церкви, имеющей последней целью христианизировать по возможности все разветвления жизни общественной и национальной. Это новая для нас, русских, наука, далеко еще не разработанная.
* * *
Каковы же заветы нашей восточно-христианской истории, специально близкие нам и нас обязывающие?Поражающая, неожиданная, парадоксальная, антиномическая черта первохристианства, а затем и имперского, ромео-византийского завета всем дальнейшим христианским поколениям — это не какой-либо снисходительный только мир с государством, не утилитарный только союз по расчету, но положительная христианская любовь к нему, любовь, конечно, спасающая, а не ищущая спасения, как по слабости и грехам человеческим в грешной истории часто случалось. Церковь в этом союзе никогда не забывала своего примата.
С чего начались на опыте эти отношения? С бесконечной трагедии предательства и убиения государством Сына Божия! Казалось бы, незабываемая, непростительная вина. Источник оттолкновения и вражды. Но — удивительно! — апостолы не чувствовали вражды к чужому государству-завоевателю, а переносят главную вину на кровно-близкие им иудейские власти. Как и Сам Христос в диалоге с Пилатом, предавшим Его на распятие, подчеркнул: «посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Иоан. 19:11). Эта бесстрастность, эта искренняя лояльность в отношениях апостолов к римской власти, когда она, по провокации иудеев, начинает даже свои местные преследования христиан, продолжает нас удивлять. И ап. Павел и Деяния Луки и Соборные Апостольские Послания создают целое богословие лояльности к империи и молитв за нее. Его продолжают мужи апостольские, апологеты. В положительной тяге церкви к империи, вопреки факту гонений, есть нечто парадоксальное. От точки равновесия, указанной Господом — «кесарево — кесарю», церковь шла не к сектантскому озлоблению, не к отчуждению и замыканию от государства, а наоборот, к дружественному его приятию, исправлению, освящению и посвящению на служение царству Христову. Ни тени сектантской пессимистической брезгливости. Впадая в такой тон, Тертуллиан не был уже кафоликом, а еретичествующим монтанистом. Поистине христиане имели харизму любви к врагам. Империя слепо враждовала с церковью, а церковь матерински скорбела, и долготерпеливо ждала и верила, что это только горькое недоразумение, которое должно скоро кончиться. Надежда церкви оправдалась. Империя в лице Константина Великого преклонила колена пред Крестом и Евангелием. И церковь, вся без исключений, единогласно приняла родившийся отсюда союз с государством — еще вчерашним, по недоразумению, врагом — как нечто самоочевидно-нормальное, не вызывающее никаких недоумений, никаких вопросов. Это было органическим вотумом всеобщего вселенского соборного голоса церкви, без внешней формальности «вселенского собора», но с равным ему по существу авторитетом: считать впредь законом исторического бытия церкви ее союз с государством. Это вошло в состав канонического «священного предания церкви».
Конкретная история создала затем самые острые, самые неожиданные конфликты церкви с христианскими императорами, принимавшими сторону ересей и становившимися врагами православия. Отцы церкви восставали против императоров-еретиков, обличали их как Илия Ахава. Но от союза с государством не отказывались. Злоупотребления императорской власти не приводили их к мысли отвергнуть самый принцип союза от того, что им злоупотребляют.
Церковь первохристианская, гонимая государством, все-таки настолько тяготела к нему, так «тосковала» о нем, что к Константину, едва только обращенному и еще не крещеному, бросилась как к праведному арбитру с разбором донатистского раскола. Сам император вошел в это дело без малейшей скрупулезности, по привычному праву языческого императора, как верховного жреца — «pontifex maximus» — судить о вопросах культа — (jura circa sacra). И церковь, без всякого коварства, положила вес императорской фигуры на свою чашу весов. В язычестве Pontifex М. был фигурой нейтральной, возглавляющей все религии и культы. А теперь, в силу монотеистической сущности христианства, как единой истинной религии, исключающей все другие, христианский Pontifex М. превратился в монопольное орудие защиты интересов церкви против всех других религий и даже сект внутри самой церкви. Именно в качестве защитника монополии кафолического православия против зашумевшего арианства. Константин Великий в 325 году созвал первый Вселенский Собор и даже создал этим прецедентом самую каноническую форму вселенских соборов, прототипом коих все-таки навсегда остается собор апостольский (Де. 15), если не считаться с капризным мнением архиеп. Сергия (Старогородского), позднее патриарха, признававшего апостольский собор прототипом собора епархиального.
Константин не вновь создал, а только завершил реализацию того, что его особенно пленило в церкви. Это — ее «кафоличность» — вселенскость, сознание ее единства через единство ее епископата и через практику соборов. Ничего такого не было в Римской религии и империи. Никакой централизованной жреческой иерархии. Все жрецы, как муниципалы, были просто членами местных самоуправлений. В теле империи как бы не было души. Кое-где заменяли ее местно практикуемые культы богини Roma и обожествленных императоров. Но эти туманности были уже не в силах дать дряхлеющей империи ясного единства самосознания. Политическая мудрость Константина открыла его базу и источник в христианстве и церкви, организованной в иерархическое единство. В старое тело Константин вдохнул этим молодую душу. И удивительна реакция на это церкви. Ни секунды колебаний, подозрений к «царству от мира сего». Как невеста, кидается она в объятия своего «суженого». В этом неожиданном браке казавшихся полярностей церковь нашла, наконец, новый этап своего всемирного апостольства: «научения» и «крещения» не только лиц, семейств, но и «всех народов» (Мф. 28:19) и всего их собирательного комплекса, в виде царства Римского, внутри которого, по пророчеству Даниила, создается «царство вечное народа святых Всевышнего» (Дан. 7:18, 27). Церковь этим путем встала без борьбы на духовно опустевшее место угасшей античной души империи метала ее новой душой. Империя не только омолодилась. Она воскресла из мертвых к новому 1200-летнему периоду своего исторического существования. Император, как был возглавителем культов, так им и остался, по традиции, без видимого новаторства, тем более без всякой революции. Прежде он назывался в этой роли Pontifex Maximius, а теперь «епископ внешних дел церкви» (т. е. не сакраментальных, а юридических функций). Историк V в. Сократ уже эпически констатирует, что «с момента, как императоры (василевсы) начали быть христианами, дела церкви начали зависеть от них, и по их усмотрению произошли и происходят самые большие соборы» (Hist. Есcles-ca. Migne. P. Gr. t. 67 col. 565). Так началась, сложилась и воспринята церковью с полным удовлетворением так называемая византийская система церковно-государственной «симфонии», согласия, гармонии. В 6-й новелле Юстинианова Кодекса эта доктрина изложена так: Церковь и Государство суть два божественных дара человечеству, два порядка вещей, вытекающие из единого источника — из воли Божией, их учредившей. Послушные воле Божией эти два порядка должны быть в полном согласии (consonantia-symplionia) междусобой. Церковь ведает делами божественными, небесными. Государство — человеческими, земными. В то же время государство всемерно печется о хранениицерковных догматов и чести священства. А священство вместе с государством направляет всю общественную жизнь по путям, угодным Богу. (Cor. Jur. Can. Nov. VI, praef.). Идеальная цель двух порядков единая и единственная, христианская, сотериологическая. Земной порядок не имеет особой цели в себе. Он только функция в одном и том же сложном организме «государство-церкви» Это — оцерковленное государство и огосударствленная церковь.
По чуждости и нерасположению к этой системе западные ученые окрестили ее именем «цезаро-папизм». Но эта этикетка, нашедшая отклик в русской публицистике в термине «папо-цезаризма», обратно укоризненном для латинизма, неточна по существу, как раскрыли русские византисты: Г. Острогорский, проф. Белградского университета, и Г.В. Вернадский Йельского (Нью-Хэвен) университета. Этот укоризненный термин характеризует только злоупотребления системой и юристы Византии не были наивными людьми, смотрели открытыми глазами на все злоупотребления, еретические падения своих василевсов и тем не менее продолжали утверждать правильность системы «симфонии» и совершенствовать, уточнять ее формулировку. Таким шагом вперед должна быть признана формула Эпанагоги, законодательного свода конца IX в. после искусительной эпохи императоров-иконоборцев. Эпанагога настаивает на идеале равноправия двух властей. «Подобно человеку, государство («политиа») составляется из частей и частиц, из коих главнейшими и необходимейшими являются царь и патриарх. Посему единомыслие и согласие во всем, царства и священства, есть мир и счастье подданных по душе и по телу», (t. III, col. 8). Эта идеология двуединства через «Синтагму» Матфея Властаря (XIV) распространилась, как общепринятая, во всех славянских церквах.
Идеал симфонии часто и грубо нарушался. Падали вместе с василевсами и малодушные иерархи. Но знамя церковной доктрины вновь и вновь подымалось над грешным уровнем. В самом начале союза церкви и государства Афанасием Александрийским, Иларием Пиктавийским, Луцифером Кальярийским, Амвросием Медиоланским от лица церкви бросались смелые обличения императорам — сыновьям Константина за их вмешательства в догматические споры. Классический период вселенских соборов (IV-IX вв.) дает яркую иллюстрацию вторжений императоров в дела веры, насилий над епископатом, созывов еретичествующих соборов 712 и 754 гг. Но все это потом сбрасывалось соборным мнением церкви (аналогичным светскому «общественному мнению») и спадало с нее «ветхой чешуей». Особенно памятна героическая фигура преп. Максима Исповедника, высящаяся над всем VII веком. Он в данном случае для нес интересен тем, что он explicite отвергал,: как ложь, ту цезаро-папистическую теорию, которой придворные льстецы хотели прикрывать еретическую политику Двора. По его пути идут Иоанн Дамаскин (VIII в.) и Феодор Студит (IX в.). Первый пишет: «Василевсам принадлежит управлять государством. А церковное управление находится в ведении пастырей и учителей. Всякое вмешательство есть разбой» (Migne. P. Gr. t. 941 с. 1296). Второй писал иконоборчествовавшему имп. Льву V Армянину: «Церковные вопросы должны передаваться на решение собора иерархов. Василевсу вверено управление внешними делами. Иерархи решают все, что касается догматов и веры. Ты же должен слушаться их и никоим образом не посягать на их сан» (Migne. P. Gr.t 99 с. 184). Одним словом, опыт симфонии, после его соблазнительных провалов иконоборческой эпохи, дал право потерпевшей иерархии выше поднять голову и более подчеркнуто толковать симфонию в духе «диархии», равноправия двух властей. После торжества церковной идеологии над тяжелой эпохой цезаро-папистических грехов царской власти, вплоть до конца Византии (XV в.), продолжалась все время перемежающаяся борьба церкви с грешными посягательствами императоров на свободу церкви, но и с проявлениями высокого мужества иерархов и их фактического, и во всяком случае морального, торжества над самоуправством василевсов. Лев VI (886—912) так и не добился от патриарха Николая Мистика благословения на незаконный 4-ый брак.
157
Патриарх Полиевкт в 969 г. не впустил в храм Св. Софии Иоанна Цимисхия, воцарившегося путем убийства предшественника на троне, и признал Цимисхия только после принесения им публичного покаяния в грехе цареубийства. За подобное узурпаторское воцарение знаменитого основателя династии Михаила Палеолога (1259—1282) патриарх Арсений отлучил его от церкви. Создался целый раскол на полстолетия в церкви. Победила в конце концов каноническая сила действий патриарха Арсения. В догматические споры XIV в. о Фаворском свете вмешивалась борьба сменяющихся династий Палеологов и Кантакузенов, но победил независимый от политического давления афонский, антилатинский исихазм. Даже грандиозное цезаро-папистическое предприятие Палеологов, в виде внешне победоносной Флорентийской унии, было свергнуто без труда пассивным соборным неприятием его всем греческим народом и рассеялось, как исторический призрак.
Итак, восточный симфонизм и диархизм, несмотря на фактические грехи (нет безгрешной человеческой, даже и церковной истории) на деле себя оправдал, как система. Это видно по достигнутым им результатам. Им создано величайшее во всемирной истории явление христианской цивилизации. Не просто как одной из цивилизаций, а именно как цивилизации par exellence, цивилизации, главенствующей на земном шаре, ведущей все человечество, настолько превосходящей качественно все другие цивилизации, насколько смутны, дефективны иные религии и лежат они ниже уровня религии высшей, христианской. Пришедшей в мир новой христианской религией как раз и был охристианен тот комплекс народов в средиземноморском бассейне, которому принадлежало культурно-государственное первенство. Через этот имперский комплекс охристианена и вся земная история. Даже отступившие и отступающие теперь от христианства народы не в силах изменить своим отступлением этого исторически необратимого и благодатного факта.
Христианство в его полной реализации есть не только скрытая от очей мира сего интимная жизнь отдельно взятых личностей, составляющих церковь невидимую. Но в то же время оно порождает и церковь видимую, кафолическую. Иначе говоря, христианство и сверхлично, всенародно, кафолично, соборно, всемирно, космично, в чистом и достойном смысле — тоталитарно. Эти две антиномические стороны и задачи христианства есть как бы два глаза церкви, открывающие перед ней полноту перспективы. Отдельные христиане, по естественной ограниченности сил, не могут вместить такой полноты божественной премудрости и обыкновенно видят только одним глазом, ревнуют только об одной стороне спасения, преимущественно о спасении своем личном. Лишь особо выдающиеся души калибра апостольского, святоотеческого расширяются до ревности о теократическом спасении всего народа, всего государства. Как Христос послал «научить и крестить» не только отдельные души, но и «все народы», так и церковь не ошиблась, став «воинствующей» за Христа на поле историческом не только интенсивно, в глубине индивидуальных душ, но и экстенсивно, покоряя «слову крестному» целые комплексы душ, целые народы. И прославила «равноапостольными» тех вождей народов, которые имели дерзновение коллективно погрузить в купель крещения подвластные им народы. Невзирая на греховную природу каждого человека, индивидууму вверяется в спасительный залог благодать церковных таинств. Также, невзирая на греховную природу человеческих коллективов, наций, земных царств, церковь чувствует себя ответственной и обязанной крестить эти собирательные тела, т. е. народы с их государственными формами. А затем — этот естественный космический, полумеханический комплекс терпеливо, в длительном перевоспитании, морально-педагогически и вместе иррационально, благодатно преображать, или по крайней мере — символически приближать к преображению в кафоличность, соборность мистического Тела Христова. Так плоть спасается духовно «сообразно славному телу Господа силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Филип. 3:21). Плотское «сообразуется» духовному и тем благодатно преображается. Так грубый натуральный материал племени, наций, государства, является не препятствием, а опорой, базой христианского, церковного, таинственного, хотя и явного по своим результатам, преображения во Христе. По подобию преображения воспринятой во Ипостась Сына Божия природы человеческой в Богочеловечество, и все языческое, дохристианское наследие истории призвано не к осуждению на смерть и уничтожение, а к просветлению, возвышению и «обожению» (теозис), по речению греческих отцов церкви.
Нашей православной традиции совершенно чужда протестантская брезгливость к византийской симфонии священства и царства, как будто бы некоему падению, якобы языческой реакции. То, что христианские василевсы образовались так сказать из античного языческого теста, для нас не порок, а свидетельство силы церкви. Тут, как и по всей линии естественных форм жизни, мы видим свидетельство победы церкви над косной материей, преображения ветхого человека в нового, в «новую тварь», главы и вождя народа языческого в главу и вождя народа христианского в мощное орудие устроения царства Божия на земле, в реальности конкретной. Мы — не буддисты, не спиритуалисты, не монофизиты. Царство Божие для нас не родится из спиритуалистической пустоты. Оно ткется из космических, осязательных материалов и прецедентов. Оно берет тварную реальность со всей ее дефективностью и даже живущим в ней первородным грехом и смело, без еретической буддийской трусости, наступательно овладевает ей, перерабатывает, очищает, высветляет, преображает. Это работа трудная, часто рискованная, компромиссная и не всегда успешная. Но единственно мыслимая и реальная. На этих путях «преображения» церковь часто с трудом продирается через дебри истории и изнемогает, «уничижается». Но это ее неизбежный и обязательный путь подражания страдальческому крестному «уничижению» (кеносис) Сына Божия. Уничижил Себя на земле Невидимый Глава Церкви и возложил этот долг на свое видимое тело церковное, пока не наступит грядущий час уже не нашего земного, кропотливого и малосильного преображения жизни в «мире сем», а свыше сходящего, Божьего, чудотворящего преображения «всяческих», после последнего суда. А пока в глазах Православного Востока является догматически совершенно оправданным весь исторический опыт созидания теократии, начиная с древнего Израиля и переходя к новому христианскому царству в лике двуединой «Ромейской» империи и ее византийской половины с их саттелитами. Пройденный путь подвига теократии был уничтожен многими грехами как в церкви ветхозаветной, так и новозаветной. Но он не утратил своего величия по его светлым достижениям. Напрасно протестанты отпугивают от теократии средневековыми карикатурами пап, командующих лично войсками на поле сражения. Наша церковь чиста от похоти политической власти, неответственна за такое искажение теократии. Она неустанно желала и желает, чтобы во всех и земных, культурных, материальных, общественных, политических, даже военных делах, везде бы царил дух Божий, везде и во всем святилось бы имя Отца Небесного и все и вся проникал бы свет Христов. Но церковь сама непосредственно в свои руки не берет и никогда не возьмет «ни меча и ни орала, ни копья и ни серпа», ни военной, ни мирной техники. Она блюдет лишь дух, устремление и посвящение всех дел и вещей мира Святейшему Имени Троицы Единосущной и Нераздельной. Церковь требует и помогает, чтобы «мир сей», и в теперешнем его состоянии, еще отравленный грехом, уже служил всеми ему свойственными силами и средствами Царству Божию. Такое служение земного человечества, со всеми его государствами, культурами и техникой, поскольку оно уже крещено и охристианено, и есть служение неложно «теократическое». Подчеркивая его новозаветный характер, в отличие от неполного откровения ветхозаветного, мы предпочли бы называть его новым термином «христократии». Наша православная система симфонии и диархии, исключающая по своему смыслу и монофизитское и несторианское ее извращения и является практически наилучшей из христианских систем связи церкви с государством, истинной христократией.
* * *
Другие национальные восточные церкви-дочери Византии (армянская, грузинская, болгарская, сербская, русская) заимствовали подражательно ее систему, как вполне понятную им, естественную и — надо признать — практически в их исполнении более удачную и беспорочную, чем то было в Византии. Трагедия догматических споров была уже позади. Князья-цари молодых народов не были носителями дурных традиций античных Pontifices Maximi, не давили свободы церкви. Тут симфония реализовалась более подлинно и мирно. Были тут и драмы и конфликты двух властей, но не столь радикальные, не потрясавшие основ симфонии. Отсутствие на Востоке церковной монархии, т. е. папства, открыло для всех новых церквей легкий, безболезненный переход к национально-окрашенным формам автономного и автокефального устройства. Восточная церковь «симфонировала» легко не только с государством, но и с национальностями.В России патриархальная симфония длилась от начала христианства, от св. Владимира до Петра Великого. Перелом, сначала идеологический с половины XVII в., увлек Петра и к реформе конституционной. Православная симфония была им отвергнута. Петр однобоко-полемически толковал ее в смысле латинского клерикализма. Он увлекся модной тогда в Европе теорией просвещенного абсолютизма, нашел себе, после ряда ошибок, единомышленного сотрудника, протестантствующего богослова, подлинно ученого и талантливого полемиста и агитатора Феофана Прокоповича, который с убеждением отдал свое софистическое перо на службу Петру. Явился на сцену истории новый вид высшего церковного управления, неведомый канонам, прикрытый благообразным именем Святейшего Синода, ложно объявленный Феофаном, при молчании подавленной террором иерархии, «собором». Это было государственное бюрократическое учреждение коллегиального типа («Духовная Коллегия») под главенством монарха. Восточные патриархи легализировали это неясное для них учреждение, сняли с него формально-каноническую дефективность. За время двухсотлетней своей жизни и деятельности Св. Синод внутренне преображался, оцерковлялся духом православной каноники. А командующая им власть европеизированных русских абсолютных императоров ответно, под влиянием личной привязанности к церкви, тоже внутренне сообразовалась с православной традицией и действовала с сознанием старорусских теократических царей православия. Но правовой канонической базы под этим «стилем» выступлений и действий русских царей эпохи империи не было. Основные Законы Российской Империи с грубостью разрушили иллюзию симфонии, выдвигая фигуру территориального главы страны и ее церкви (Landesherr'a), фигуру не православного церковного права, а протестантского.
Укреплению и устойчивости этого не православного по существу и не традиционного строя способствовал общий кризис культуры. Кончились средние века. Общее мировоззрение эмансипировалось от примата религий. Наступило господство секулярной, лаической, не только внерелигиозной, но и прямо антирелигиозной философии. Государства возревновали об освобождении от религиозного контроля. Наоборот, политические власти сами взяли все вероисповедания под свой контроль. В протестантских странах это разумелось само собой, и князья и короли по конституции возглавляли церкви. Классический образец — Великобритания, вплоть до наших дней. В католических странах церковь ограничивалась принятием конкордатов, через которые она становилась в разряд лишь терпимых учреждений, пользующихся если и некоторыми привилегиями, то в строго ограниченных конкордатами рамках. Со старыми теократическими перспективами новые государства в новые века просто перестали считаться, не давая им ходу на деле и предоставляя им умирать, как нереальным мечтаниям безвозвратного прошлого.
Русский опыт модернизации и порчи канонического строя, под давлением секулярных идей Западной Европы, не мог не облегчить такой же канонической порчи и в других православных национальных церквах, выбившихся в XIX в. на свободу из-под ига ислама. Элладская церковь под контролем немецкого протестантского правительства скопировала с русского, тоже подражательно-протестантского образца, систему государственного Синода так же, как и русский Синод, подчиненного государственному министру-контролеру. Через четверть века с Константинопольским патриархом, она получила со стороны последнего в 1850 г. каноническое признание автокефалии, да и самого синодального строя, в свое время в 1724 г. признанного законным для церкви российской. Этот строй в Элладе не симфонического союза церкви и государства, с протекторатом и приматом последнего, по временам смягчался некоторыми отблесками древней симфонии. В настоящее время, наоборот, эти отношения омрачены посягательством, хотя номинально и королевского, а реально парламентского правительства на имущественные права Элладской церкви. Церкви — Сербская, Черногорская, Болгарская, Румынская, по мере политического освобождения из-под ига турок, вместе с тем уходили из-под зависимости и от Константинопольского патриарха, приобретали автономное и автокефальное положение. Вместе с ростом политической независимости новых государственных образований и церкви внутри их определяли свое отношение к национальной власти в духе традиционной восточной симфонии. До этого времени в период туретчины местные церкви под канонической властью вселенского патриарха сохранили свою глубокую и интимную симфонию со стихией народной, чем и воскрешена была почти совершенно обреченная болгарская национальность. Но установление союзных отношений со своими молодыми государствами уже не могло быть простым повторением древней симфонии. Западноевропейские державы, тяготевшие над Балканами, навязывали новым государствам свои династии и предписывали демократические, парламентские конституции. Тут симфония неприложима даже в лице династии. На трон Эллады сначала посадили протестанта Георга-датчанина. Затем через брак с русской великой княгиней Ольгой Константиновной династия оправославилась. На трон воскресающей Румынии посадили католическую династию. В новоучрежденное, благодаря русской победе над Турцией (1877—78 г.), княжество Болгарию посадили князем сначала протестанта Александра Баттенберга, а в 1887 г. католика Фердинанда Кобургского. Лишь отдав своего наследника Бориса православной вере в 1896 г., он закрепил свою династию. Черногория с своей народной династией Негошей, и Сербия — Обреновичей и Карагеоргиевичей строили у себя более симфонический и старозаветный союз церкви с государством. И все-таки, несмотря на благоприятную предпосылку в них многовекового, защитного против туретчины, интимного союза православия с народностью, предписанный им Европой парламентский строй сам собой исключал реализацию прежней классической симфонии. Да и образца ее перед глазами уже не было. Даже самодержавно-монархическая Россия являла собой пример православной церкви, закованной в золотые цепи европейского просвещенного абсолютизма, командующего ею в интересах (якобы «высших»!) светской государственности. В общем новые конституционные монархии Балканского полуострова, копируя и приспособляя Духовный Регламент Российского Синода, все дальше и дальше уходили от возможностей древней симфонии и в атмосфере парламентских режимов, все более и более приближались на практике к принципу раздельной жизни церкви и государства, т. е. от брачного союза шли к разводу или «раздельножительству».
* * *
Но при оценке реального положения церкви в новейшей государственности мы не должны упускать из вида, что сама эта государственность в наши дни потеряла устойчивость своего типа, начала революционно конвульсировать и искать себе новых форм, даже новых принципов. Принципы же церкви остаются неизменными. Таким образом, нам, людям церкви, при всей необходимой гибкости тактической и приспособляемости к обстоятельствам изменившегося в новые века самосознания государственности, нет нужды быстро поступаться своим классическим критерием «симфонии». Наш принцип догматически истинен и в этом смысле неотменяем. А искания мечущегося, эмансипировавшегося от религии гуманизма совершенно гадательны и может быть пагубны. Как Христос сказал самарянке: «вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся» (Ион. 4:22). Зная свою цель — тотальную христианизацию всей жизни человечества — церковь может уверенно направлять свой корабль по взбаламученному морю колебаний «агностического» человечества, в противоречии с самим собой вечно ищущего того, чего, по его же убеждению, нельзя найти. Агностическая философия — Пилатова философия: «что есть истина?» (Иоан. 18:38).Однако следует признать, что свободные искания нового человечества и новой правовой базы государства, и новых форм взаимоотношений с религиями и культами, после ряда реформационных (в сущности революционных), потрясений XVI в., последовавших отсюда религиозных войн (тридцатилетняя война нач. XVII в.) и династических потрясений (Англия XVII в.) — увенчались нелегко купленным, но драгоценным завоеванием принципа так называемой «свободы совести», т. е. свободы не только религиозных верований, но и их исповедания и пропаганды и миссии. И не только свободы культов, но и свободы влияния религиозной морали и проповеди на жизнь общественную, национальную, государственную, культурную. Это, конечно, в принципе, в абстракции. На деле нигде нет и не может быть арифметического равенства. Но руководящий идеал равенства в религиозной свободе остается, как знамя, как мерка, как регулятор.
Консервативная Великобритания, осуществившая при своем монархическом парламентском строе все демократические свободы, однако удержала до сих пор старозаветный союз церкви и государства. Но идеалу симфонии этот союз далеко не соответствует. Протестантское начало главенства короля в церкви частично переносится и на разноверный и внерелигиозный парламент, вотум которого по вопросам догматико-литургическим представляет собою уродливое явление.
Итак, для старой системы симфонии новое время принесло неизбежные потери, но зато как бы в возмещение и свои приобретения. Церкви не с кем стало симфонировать. Государство переродилось в чуждое ей: в лаическое, новоязыческое, часто враждебное и даже гонительное как было в античном мире. Человечество отказалось от цели религиозной и утвердилось на задачах только секулярных, лаических. Поклонилось единому богу земной культуры. И на страже интересов этой культуры поставило суверенное государство. Последнему можно только подчиняться, только «ладить» с ним и ни в каком случае не равняться, не играть в симфонию, тем более не претендовать ни на духовный примат над ним, ни на руководство им. Будет ли лаическое государство монархическим, или республиканским, или модерно-авторитарным, т. е. диктаторским, оно все равно религии отводит место в линии всех других общественно-культурных функций, как литература, искусство, наука, экономика, хозяйство. Попытки старой германской социал-демократии внушить теорию, что религия относится к делам совершенно личным, частным (Privatsache) все-таки по своей антиисторичности не могло овладеть по инерции сложной общественной психологией религии, так что религия осталась в новых демократических государствах объектом публичного права и даже с естественно унаследованными от прошлого чертами исторических привилегий для конфессий характерных, национальных, локальных. Таково, т. е. в оболочке публичного права, по буквам конституций, положение конфессий в странах протестантских: Германия, Швейцария, Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия. И в странах католических: Испания, Ирландия, Италия, Венгрия, Польша. В части стран восточной Европы, оккупированных сейчас советским коммунизмом, временно создалось исключительное положение и подавление свободы совести, о чем два слова ниже. В Италии, после полстолетнего демонстративно-полемического разрыва с церковью, учиненного еще карбонарием (масоном) Гарибальди (1871 г.), при Муссолини (1924 г.) было установлено конкордатное примирение с церковью, с признанием даже старого церковного государства (Cité Vatican), которое остается неприкосновенным и при нынешнем, созданном войной, республиканском строе, включающем в букву его конституции тезис об отделении церкви от государства. В Испании, по изгнании короля и при диктатуре Франко, de facto римо-католическая Церковь остается господствующей, другие исповедания ограниченными в правах культа и пропаганды, но буква конституции, в противоречии с этой старинной действительностью, пользуется ходким лозунгом отделения церкви от государства. Если этот лозунг вписан в конституцию 1934 г. почти монолитно католической Португалии, то только благодаря научно-светлой голове ее диктатора профессора Салазара, ибо формальная свобода для других вероисповеданий Португалии фактически не меняет традиционного и естественного господства римо-католической церкви, закрепленного особым конкордатом. В Ирландии, при формальной свободе культов, господствует и отстаивает свое первенство и некоторые привилегии римо-католическая церковь. Во всех новых конституциях католических стран Европы, по примеру Сев. Америк. Штатов, вписано и с неизбежными второстепенными вариантами проведено модное формальное начало отделения церквей от государств: так во Франции, Бельгии, Чехословакии, Австрии.
«Отделение» выражается в лишении церкви старых государственных опор: казенного жалованья, права на школьное народное образование, на обслуживание богослужениями и духовничеством армии, на приведение к присяге в судах, на создание актов публичного права, т. е. метрических и брачных актов, обязательных и для государственных властей. «Отделенная» церковь или секта, если и ведет подобные акты для прибегающих к ее услугам верных, то не для государства, а для своих конфессиональных потребностей. Это ее внутреннее дело. Публично-правовое положение церквей и сект аналогично положению всяких других легализированных и контролируемых правительством обществ. И даже несколько выше. Исторически господствовавшие вероисповедания по инерции получают права на самоуправления наряду с другими корпоративными, коммунальными и городскими самоуправлениями. Все это, разумеется, с подконтрольностью и подотчетностью государству. Такой режим, при отсутствии открытой или скрытой формы гонения на церковь, особенно при спокойном и даже благожелательном нейтралитете государственной власти, является в современном нам мире практически нормальным, дающим церкви внутреннюю свободу и открывающим возможности для ее внутренней миссии в меру ее сил и вдохновения. Тут отсутствует тотальная видимость принадлежности к данной церкви всего населения государства, или его статистического, паспортного большинства. Тут нет ленивого обладания накопленным предками капиталом, лежащим в сейфе. Тут дан стимул к постоянному творческому миссионерскому напряжению церкви, как бы не растерять своих наличных членов и приобрести новых, если и в количественно скромных числах, но зато духовно-реальных, живых душ, а не «мертвых душ», числящихся только на бумаге и питающих ложную гордыню численных превосходств пред людьми, а не пред Пастыреначальником — Христом. При статуте «отделения» мы не можем похвалиться приближением к идеалу симфонии, но и путь к нему не закрыт. Прежде «симфония» предвосхищалась. Была оправданной на деле лишь частично, кое в чем. Остальное предвиделось в будущем, жило в надежде. По примитивности ткани нации и государства многое дано было еще в сыром, безличном виде, в первобытном стадном коллективе, а не в личной полноте и сознательности. Теперь мы не довольствуемся такой древней симфонией так сказать «в кредит», только частично, только символически. Теперь мы требуем симфонии реализованной в сознании каждой личности. И гражданское и национальное сознание индивидуализировалось. И утрата симфонии огульной, всего народа «в кредит», без разбора личной веры и неверия, все равно должна быть возмещена не статистически и механически целым народом, а только частью народа, его духовной элитой, его реально и подлинно верующим меньшинством, но зато по существу его «представительным меньшинством». Это не бумажная паспортная масса, а ядро и сердце данного народа, его христианская душа. И эта душа возвышается даже и над количественным большинством, раз оно отступило от веры, духовно опустошило, изничтожило себя. И эта живая христианская душа избранного меньшинства нации, не имея возможности симфонировать с отвратившимся, отчуждившимся от нее государством, симфонирует, таким образом, с нацией, с народом, с духовно избранным ядром народа христианского по имени. И через него, через это ядро, внутрен-
169
ними влияниями на окружающую общественную, культурную, политическую жизнь, творит посильное ее преображение в духе Христа, Евангелия и церкви, творит великое историческое дело теократии-христократии в новых формах жизни. Это проведение в жизнь христианских начал не аппаратом власти сверху, как кн. Владимир послал киевлян в воды Днепра для принятия крещения, не требованием от всех чиновников церковной присяги, как было в прежней России так еще недавно, в дни нашей юности и т. п., а христианизация всей секулярной, расхристианившейся жизни путем молекулярным, клеточка за клеточкой, шаг за шагом, деталь за деталью. Это не внешнее штемпелевание людей, вещей и учреждений христианским штемпелем, а внутреннее, реальное, хотя и несовершенное, частичное их духовное преображение... Не номинализм, а реализм. Посильное здесь на земле; в церкви исторической, воинствующей соединение двух миров, двух природ — божественной и человеческой по мерке Халкидонского догмата «неслитно и нераздельно», воистину симфонично, а не диссонантно, разноголосно, раздельно, т. е. еретично, по-несториански, как вынуждает поступать модная, вдохновляемая антирелигиозным идеалом доктрина обязательного отделения церкви от государства.
Неустойчивость и революционная изменчивость лика самого государства, с которым христианским исповеданиям приходится устанавливать и пересматривать свои отношения, в последние десятилетия ярко проиллюстрирована на радикальном опыте нескольких стран. Страшный лик большевизма, к сожалению, еще до сих пор не вполне осознанный до конца всеми, произвел сначала кое-где спасительный испуг и вызвал инстинктивную реакцию в виде националистических диктатур различной организованности и длительности: Финляндия; Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Австрия, Италия, Германия. Параллелью их опыта являются и пиринейские диктатуры Испания и Португалия. В наиболее разработанных идеологически и организационно диктатурах итальянского фашизма Муссолини и германского нацизма Гитлера предстала пред миром новая система тоталитаризма. Она упразднила неприкосновенность такой великой ценой и борьбой завоеванных европейским (христианским) человечеством так называемых демократических свобод: совести, слова, собраний, союзов и партий. Она дерзко вызывающе узаконила засилье только одной командующей партии и потребовала от всех поголовно единой философии и единой безрелигиозности. Бог и свободная мысль лишены прав гражданства и стали едва терпимыми, на грани дозволенного в частной, но не в общественной жизни. Муссолини выправил положение компромиссом, великодушным конкордатом с Ватиканом, даже безумный Гитлер признал публично правовое положение отдавшейся в послушание нацистской партии части церкви, подвергнув гонению так называемую «исповедническую» церковь. Очевидно легкомысленное сбрасывание со счетов неистребимого, глубокого факта религий практически оказывается невозможным. Это доказали самые крепкие, последовательные враги Бога и религии — московские коммунисты-большевики, после дикарски-глупых опытов тотального запрета религии и большевики сдались на абсурднейший для них компромисс, союза с церковью, да условии взаимных услуг, до которого опустилась, в потемках большевистского ада, и террористически загнанная и обезволенная часть епископата. Кошмарный абсурд этот с бесчувственным непониманием приемлется, как что-то нормальное и терпимое и иностранным церковным общественным мнением, экуменическими кругами, частью православных восточных иерархов и — что всего непростительнее — небольшой кучкой самих русских-православных, живущих здесь, в благословенных странах человеческой и христианской свободы.
В свете этого крайнего противоестественного опыта, сочетания несочетаемого, духовно страшной карикатуры на симфонию, мы с благодарностью оглядываемся на общее положение церквей и религий, создавшееся в окружающем нас теперь современном мире. Все лучше познается и оценивается путем сравнения. Мы видим, что с историческим антиквированием неповторимых психологически, социологически и политически форм древней симфонии и наступлением эпохи лаического суверенитета государств, конкордатного размежевания правительств с вероисповеданиями и даже полемического «отделения» церквей от государств и наций в духе генерального выбрасывания религии из всей области государственности и общественности, положение и перспективы христианства в мире и истории ничуть не трагичны и — наоборот — могут быть признаны очень оптимистическими. Под угрозой всемирного наступления антихристианского коммунизма мы должны по справедливости оценить блага демократических свобод и открываемых ими для христианского активизма вполне узаконенных и гарантированных возможностей. Должны благодарить за это Бога и защищать эти свободы, как воистину священное достижение, как благое средство и открытый путь для неотменимой для нас теократической задачи — построения царства Божия.
И в рамках демократической свободы, как увидим ниже, далеко нет желанных свобод для церквей. Но это все в пределах разумности и человечности, а не за границами здравого смысла, как в тоталитаризмах.
* * *
Оставляя пока в стороне эти злободневные иллюстрации церковно-государственных трудностей и конфликтов, мы, ради выработки ясного программного и тактического плана мысли и деятельности в данной сфере, позволим себе наметить практические выводы из вышеприведенных принципиальных теократических предпосылок близкого нам, преимущественно восточно-православного опыта.Церковь обладает устойчивым критерием в оценке государств и разных стилей отношений к ним. Государства же, по своей неустойчивости, такого постоянного критерия лишены. Духовная сущность государственной власти не является величиной неизменной. То государство — единоверный друг церкви и его сила носит имя «христолюбивого воинства», то государство чуждо церкви и в лучшем случае нейтрально, а то и прямо враждебно, безбожно, антихристианственно. При таких предательских метаморфозах просто безумно рассуждать по мертвой формуле равной механической лояльности ко всякой власти, даже антихристовой. «Что общего между светом и тьмой?» — восклицает Павел — «или какое согласие может быть у Христа с Велиаром?». Основной смысл директивы апостола о «повиновении всякой души властям предержащим», ибо «власти от Бога учинены суть» заключается в том, что христианин не отожествляется в своем внутреннем отношении к государственной власти ни с ее поклонниками и присяжными слугами, ни с оппозиционерами ей, ни с противниками. Ибо Христос и апостолы заповедали воздавать Кесарю (государственным властям) только кесарево, а не Божье. Сама же политическая власть, языческая по природе, этого сужения, ограничения своих прав вместить не может. Она по тенденции своей тоталитарна и легко срывается в тоталитаризм. Подавай ей под контроль и Божье. Христианство этой позиции сдавать не может. Христианин невольно становится ослушником таких нечестивых велений власти, посягающих на Божье. В последнем выводе он должен быть мучеником. Нечестивые веления относятся к нескольким категориям. Прежде всего к так называемому культу. Приказ чтить кого-то как Бога, кроме Истинного Бога: иных богов, государство, кесаря и т. п. Приказ выдать на профанацию предметы культа и таинств. Приказ публично оплевать свой монашеский обет и оскверниться блудом (так было при иконоборцах). Христианин не может быть пассивным исполнителем и просто безнравственных велений власти, ибо голос совести, требования Евангелия и заветы церкви есть тоже область не человеческая. Христианская мораль — это Божье, а не Кесарево. Если даже многие партийцы не перенесли моральной пытки раскулачивания крестьянских хозяйств, как же может в СССР-ии бессовестно повиноваться подобным антиморальным мерам христианин? Он попадает невольно в категорию революционеров и казнится, как политический преступник. Неправедная антихристианская власть клеймит его наравне с безрелигиозными ее противниками разных степеней — оппозиционерами и ниспровергателями, как классового врага, будто бы только материально заинтересованного. Но это — тупая, или намеренная ложь. Христианин ревнует о Божьем и в вещах мира сего, и в экономической и в социальной и в политической области. И в области «кесаревой», т. е. в самой узкой области государственной техники: в аппарате власти, законодательной, административно-военной и исполнительной. Суд христианства над всем, в том числе и кесаревым, — тотальный, но по мерке «Божьей». Христианство признает государственную власть установленной Богом в качестве одной из законных функций, вложенных Творцом в тварную космическую жизнь. И в этом смысле обязует христиан воздавать власти должное. Но не более. Божьего уступать мы не имеем права и в этих областях. А потому и в признании «кесарева» христианин не солидаризируется с поклонниками языческими, не обоживает кесарева, не идолопоклонствует пред ним. Оказываясь в оппозиции Кесарю, внутренне тоже не отожествляет себя с ней, ибо судит Кесаря иным критерием, чем язычники и атеисты. И когда противится Кесарю, то, извне как бы сливаясь с революционерами и, даже борясь по видимости единым фронтом с ними, тоже внутренне не совпадает с ними ни психологически, ни идеологически. Как показал опыт мученичества и исповедничества, христианин не наскакивает на государство, не провоцирует его, но в необходимых случаях (суд, защита слабых, ограждение святынь) пророчески и дерзновенно обличает власть, когда она творит дела антихриста. Трагическое, самое острое, в условном смысле «революционное» отношение к государственной власти развито в Иоанновом Апокалипсисе. Таким образом, система отношений христианина к государству зависит от качества и поведения самого государства. Последнее должно быть достойно союза и дружбы церкви. Церковь обладательница высших духовных ценностей, которыми может быть возвышено и украшено государство, а не наоборот. Посему, в виду грешного по существу бегства государства от церкви, церкви остается не гнаться угодливо за блудным сыном, как будто она без него и жить не может, а терпеливо ждать, когда он промотается и сам ощутит потребность в покаянном возвращении... Церковь должна стоять на своих ногах, жить в разрыве, в вынужденном «разводе» с государством, но творить свое вечное дело строительства в душах царства Божия, пользуясь духовной свободой развязанных рук.
Это не отказ от нормы симфонии, а перегруппировка позиций, в виду коренного изменения современной нам действительности сравнительно с невозвратимым прошлым. Вредно быть мечтателем, иллюзионистом как в мире вещей материальных, так и религиозных. От деятелей церковных требуется трезвый реализм. Обстановка подсказывает, не изменяя вечному идеалу симфонии, ценить и уметь использовать все удобства господствующей системы «отделения». Пусть создал ее враждебный церкви лагерь. Но она стала неотвратимой реальностью. И мы, христиане, обязаны не томиться бесплодным старообрядческим, реакционным отрицанием ее, а отправляться от нее, как от данной базы, т. е. всесторонне использовать систему «отделения».
* * *
Уже нет в действительности (а не по этикеткам только) монолитно-христианских наций, той сплошной, послушной авторитету и голосу церкви, массы, которая составляла тела прежних христианских государств. Нации в их разноверии и безверии предпочитают жить под защитой внеконфессиональных конституций. Их правительства лишены права вести конфессиональную политику. Вера и церковь не дело политической власти, а только той части народа, может быть, даже очень небольшой группы лиц, которые по свободному убеждению, добровольно принадлежат к данной религии или церкви. Церковь лишь живет в недрах нации, а не охватывает ее и не держит насильственно в своих объятиях. Два организма (а не один, как в старину) церкви и государства уже не имеют пред собой единой последней задачи — совместными усилиями вести свой христианский народ к евангельскому царству Божию. У каждого задача особая. У государства: вести народы к земному благоденствию и накоплению ценностей человеческой культуры. У церкви: спасать души от ограничения и соблазна поглощения одним этим земным, временным идеалом, от этого нового язычества; «родить людей свыше, водою и Духом», делать сынами Евангелия, а все земное благоустройство и всю культуру, вместе с ревнующим о них государством, вновь настойчиво изнутри покорять Христу, Единому Истинному Царю единого истинного царства, царства Божия. Оно начинается здесь, на земле, в процессе истории и продолжается в вечности, в царстве Духа, в искупленном и силою Божиею чудесно преображенном космосе. В этой превосходящей цели и состоит истинно теократическая природа и задача церкви. Слепое в своей безрелигиозности государство стремится держать на запоре в своей клетке эту жар-птицу. Конкурирует, диссонирует с церковью, ревниво не желая признать, что церковь со своей высшей точки зрения вовсе не отрицает целей государства, но все их включает в себя и благословляет. Церкви остается, как мудрому педагогу, вести своего непонятливого ученика по пути евангельского перевоспитания не прежними авторитарными приемами, как в древней симфонии, а методами сложными, тонкими. Нет места прямому закону, приказу, дисциплине. Остается духовное влияние, внушение, сила превосходства. Таковы пути теократической активности церкви теперь, в невольном отрыве ее от государства, но в упорной и терпеливой работе над духовным возвратом государства на путь Христов. Задача трудная, героическая, может даже утопическая, но еще более доблестная, чем сравнительно простая задача периода после Константина Великого, когда церковь была в «законном браке» с государством. Этот исторический «брак» привел к «разводу». Мы вступили снова в до-Константиновский период раздельного жительства с государством и даже в период гонений. Но церковь, как не раз бывало в таких случаях, лишенная комфорта и внешнего благополучия, вновь обрела полноту своей внутренней свободы, всегда возрастающей в крестоносные моменты гонений. Изгоняемая идеологами лаицизма из государств, т. е. «отделяемая» от государства, она, как мы уже видели, этим еще не отделяется от народа, от сердцевины его, от «души» его. Уходя с наружной сцены внутрь верной церкви части народа, церковь продолжает свою апостольскую миссию. Теряя торжественную внешность и видимость, она даже выигрывает в силе и реальности для ее внутренней свободы, для дерзновенного духовного вмешательства во все жгучие вопросы современности без всякого «страха иудейска», без опаски давлений со стороны политических «князей века сего».За свою примитивно-теократическую симфоническую связь с государствами церковь не могла не платить постоянно деловыми компромиссами. И платила дань немалую. Она должна была и педагогически и просто технически приспособляться к временным, текущим, позитивным интересам. Она и «приручалась» к ним государством и сама обмирщалась. Наша земная плотяная социальная ткань по природе — языческая, основанная на животном эгоизме. Евангельские мерки в их будничном синтезе с прозой нашей социальности не могли не принижать своего сверхчеловеческого максимализма до уровня минимальной полуязыческой практики государства. Гордому и потому жестокому Л. Толстому нравилось обличать церковь за такую «измену Евангелию». Но мы считаем эту безжизненную абстрактную критику, без указания практического, конкретного способа выполнения небесного идеала Евангелия, и немудрой и бесплодной. Да, церковь и без Толстого знает, что она в сей юдоли плача на земле влачит свою деятельность на очень снисходительном, компромиссном уровне. Из трезвого педагогического расчета, что только на такой смиренный синтез уполномачивает ее трагическая антиномия двух миров — Божеского и человеческого. По великой и естественной и евангельской, любви к немощному человечеству она «уничижается», довольствуется лишь минимальным, даже только символическим послушанием евангельскому зову, в надежде, что Христос, по Златоусту, и «намерения целует» и «проекты хвалит». Да, церковь «уничижается», спасая человечество, подражая в этом «уничижению» Самого Богочеловека.
* * *
Итак, исповедуя как идеал архаическую восточную систему симфонии, мы не расслабляем себя бездейственной романтической тоской по невозвратному прошлому. Новая обстановка обязует нас к активности в том же идеальном направлении и при системе разделения. Учитывая все указанные положительные возможности новой системы, будем бодрыми оптимистами. Тем более, что пред нашими глазами отталкивающая карикатура лже-симфонии, лже-союза (да еще под лгущей вывеской того же якобы «отделения»!) за железным занавесом. Все, что там творится — сплошная патология, подлежащая упразднению и чистке вместе с распадом коммунистической диктатуры. Анализировать эту острую болезнь терроризованных, внутренне расколотых, материально ограбленных церквей Восточной Европы (Прибалтика, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия и Албания) не входит в нашу задачу. Наша задача здесь положительная: выяснение на историческом опыте нашей канонической нормы и отчасти тактики. Чуждые России умы и сердца изучают вышеуказанную патологию с наивной надеждой найти в куче навоза жемчужные зерна. Наше русское достоинство не позволяет нам участвовать в этом неумном занятии.Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).