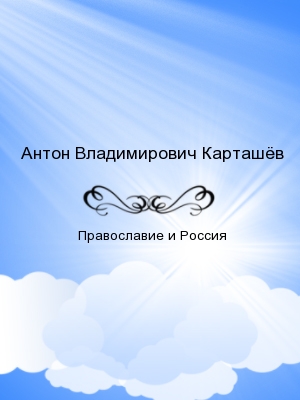«В Россию можно только верить»
Тютчев
Коротенький трактат на данную тему мы не можем потратить ни на полемику, ни даже на издалека идущую апологию. В рамки его мы предполагаем вместить только положительные утверждения для лиц, уже приемлющих и православие и Россию и желающих лишь сосредоточиться на осознании и формулировке их взаимоотношения. По французской поговорке хотим «проповедовать уже обращенным», людям одной с нами веры и любви, одного откровения совести. Это «переписка с друзьями». Дай Бог, если она сможет поколебать или переубедить кого-нибудь и из посторонних, или даже врагов нашей веры. Это — проповедь на «литургии верных». Непосвященным уже провозглашено: «оглашеннии изыдите»! А «елицы вернии паки и паки» полюбуемся на нашу светлую и радостную истину!
Библия нам предписывает видеть в истории пути и средства спасения рода человеческого. История — провиденциально сотериологична. А сотериология — конкретно-исторична. Наша библейская вера устанавливает для нас и твердый компас, чтобы не заблуждаться в дебрях исторического хаоса. Библия узаконяет иерархию ценностей. Она открывает нам догмат избранности, сверхрациональное таинственное предызбрание одних факторов и лиц к служению дела спасения, а других к заблуждению и погибели. Нам открыта центральная, красная нить истории, сердцевина ее высшего, вечного смысла. Наша сотериологическая историософия — не рационалистична, а догматична, если хотите — мистична.
Библия развернула перед нами исходную схему смысла мировой истории, вручила нам карту ее ветров и ее подспудных великих океанических течений. В этой схеме все вращается около центральной точки боговоплощения вхождения Бога в рамки позитивно данной и определимой исторической хронологии. На таинственной грани двух эпох, двух заветов, пророк Даниил указывает чудесную роль маленького, физически почти ничтожного Израиля, но избранного «Ветхим Днями» для низвержения мирового колосса на глиняных ногах. «Камень нерукосечный от несекомые горы» Всемогущею Десницею отделенный, в прах сокрушил носителей гордыни мирового империализма. По Данииловой схеме (Дан. гл. 2) четыре богопротивящихся империализма сменяют один другого: Ассирийский, Вавилонский, Македонский и Римский. Сменяют, поглощая в себе каждый своего предшественника. Последний Римский остается на сцене. Но в середину его вкатился сравнительно небольшой камень «нерукосечный», залег среди общих развалин и «сделался великой горой и наполнил всю землю» (2, 35). Этот причудливый образ растущего камня в ст. 44 поясняется более прозрачным пророчеством о том, что «Бог небесный воздвигнет царство, которое... букет стоять вечно».
Эта библейско-мессианская, затем первохристиански-эсхатологическая и, наконец, святоотеческая концепция стала священным преданием церкви. Особенно ярко и четко запечатлелась она в византийском летописании. Византийская хронологическая литература, бывшая предметом интереса и попечений имперской власти, по духу и исполнению принадлежала в подавляющем большинстве труду монахов и епископов и потому оставалась идеологически продолжением библейской священной истории. В ней все освещалось и оценивалось священно-историческим смыслом, судьбами Царства Христова на земле.
Такое стройное историософское мировоззрение было целиком усвоено верным учеником Византии — Киевским Летописцем. Этот коллективный и личный Нестор, включением милой его сердцу крещенной христианской Руси в величественную священно-историческую раму византийских хронографов, придал и самой нашей летописи столь возвышенный, универсальный исторический характер, что, по признанию наших ученых обрусевших немцев — Шлецера и Гильфердинга, поставил ее несравнимо выше всех других западноевропейских летописей той эпохи, ограниченных узким горизонтом местных, национальных и просто областных интересов. Высокий вселенский полет мысли Киевского летописца не был исключением Он был общепринятым в кругу христиански образованной элиты русского киевского общества. Блестящим свидетельством тому служит знаменитое «Слово о законе и благодати», сказанное около 1050 г. и принадлежащее выдающемуся ораторскому перу митр. Илариона, первого известного нам по имени писателя — русского патриота. Он воспитан на мировых перспективах византийской хронографии и пишет победную песнь новозаветной эпохе («благодати»), пришедшей на смену эпохи ветхозаветной («закона»). Иудейство замыкается в узости обрезания, плоти и крови, расизма и национализма и — теряет все. Спасение разливается благодатным наследием по вселенной в обладание всем языкам и народам. Избранником Христовым становится всякий, кто только этого захочет. В самом заголовке «слова» уже дана эта тема: «Слово о законе Моисеем данном, о благодати же и истине, Иисус Христом бывших; и како закон отыде, благодать же и истина во всю землю простреся и доиде и до нашего языка русского; и како крещени быхом». Итак Византия привила высшему сознательному слою русских людей идею великой задачи, великого служения Руси. Найдено, указано и усвоено место в истории и в промыслительном плане спасения всего мира крещеному, христианизированному русскому народу, пока без всякого выделения из ряда других православных народов. Академик Шахматов и его ученик проф. М. Д. Приселков усматривают в Иларионовом слове дипломатически прикрытую аллегорию, внушающую мысль, что, по примеру замены когда-то избранного ветхозаветного Израиля новым Израилем в лице христианских народов, и в дальнейшем избранничество, за небрежение и отступление, может быть, отнимаемо Провидением у одного народа и передаваемо другому, достойнейшему. Если бы даже и не было такой тенденции в Иларионовом слове, то все равно оно, наравне с Киевским летописным сводом, является бесспорным манифестом еще юной, новокрещенной русской церкви, но уже сознающей себя рядом с Византией, носительницей универсальной сотериологической миссии. Показательно, что русская почва с самого начала оказывается благоприятной для сеяния идеи всемирной миссии Православия и идеи примата, первенства, водительства, гегемонии в этом деле. Если сравнительно скоро надвинувшаяся на Русь катастрофа монгольского ига и заглушила дерзновенные зачатки такой претенциозной идеологии, то они оказались все-таки настолько глубоко укорененными и живучими, что несмотря на умаление культурных сил и внешнего престижа русской церкви в длительные столетия татарщины, восходящая линия постепенного русского освобождения от орды включила в себя очень отчетливо нарастающее убеждение русских, что явно умалявшая и гаснувшая в те же столетия государственная мощь Византии обратно пропорционально уполномочивала русское христианство, русскую церковь воспринимать на себя, по зову Провидения, и первенство чести, и первенство ответственности за судьбы всего Православия во всем мире.
Зерно этой схемы содержит в себе еще апостольское и первохристианское убеждение, что Даниилово «царство святых», т. е. внегосударственная беззащитная кучка первобытной Церкви, живет в рамках четвертой Данииловой империи, и именно Римской империи. Сам родившийся Богочеловек вписывается в римское гражданство. А империя, вопреки гонениям, в конце концов обращается ко Христу и становится хранилищем, броней, орудием Царства Божия. В этом парадокс, чудо истории. Православная Византия по своему государственному и династическому самоопределению сознавала себя прямым продолжением Римской Империи с сохранением ее имени и официального латинского языка, который лишь с VII века стал постепенно сменяться на греческий. Граждане до самого завоевания Константинополя турками (1453 г.) назывались «ромеями», т. е. римлянами, вся держава и воинство были «ромаики», т. е. ромейскими — римскими. Константинополь мыслился не риторически, а буквально, юридически Вторым, или «Новым Римом». По мере того, как старый Рим, благодаря догматическому новшеству — filioque и росту папской власти, сам отходил от единства с Новым Римом, религиозно «падал» в глазах последнего, да и политически откололся от него, увенчав священным титулом «Римского Императора» «варвара» — Карла Великого (800 г.), Новый Рим все более убежденно исповедовал, что «служение» Рима Царству Божию в качестве вселенского центра и главы окончательно перешло к нему. Но уже дальнейшего передвижения центра христианской империи — защитницы православной церкви, византийские греки не допускали. Знаменитейший из патриархов Нового Рима Фотий исповедовал веру, что «царство от нас — греков не отнимется до конца времен»...
Увы, это не суждено было Предвечным Светом Божиим. Человеческая близорукость не в силах предусмотреть конкретной исторической реальности. Новый Рим не без длительной агонии пал в 1453 г. В период его агонизирования другие православные народы, молодые балканские славяне, взяв пример с самих ромеев-греков, применили к себе принцип передвижения Римов и стали гадать, что из Второго Рима, из Града Вселенского Василевса на Босфоре, из Царя-Града столица Православия передвинется в столицы сербов или болгар, крали и князи коих предупредительно провозгласили себя василевсами, — царями чаемого ими и уже именуемого «Третьего Рима». Но сень смертная турецкого ига затенила их еще раньше, чем померкло солнце Второго Рима.
Беглецы с Балкан конца XIV в. в Москву оживили тлевшую у русских, под покровом смиренной лояльности греческому возглавлению, мечту, что затопляемая потопом орд Ислама Православная Империя к счастью теперь имеет заместительницу и преемницу по охране Православия в лице новоявленной Москвы, с помощью Божией этап за этапом освобождающейся от власти татарской орды. И символически это становилось ясным, знаменательным, даже для толпы после того, как в одну и ту же роковую годину 1380 г. южные славяне похоронили свою свободу на многоплачевном Коссовом поле, а русские под знаменами велик. князя Димитрия Ивановича (Донского) и с благословением преп. Сергия одержали решительную победу над Мамаем на Куликовом поле. После этого по древнерусскому выражению «Бог изменил Орду», т. е. ослабил ее гнет над Русью, сведя его постепенно на нет.
Но Москва все еще лелеяла в сердце своем крепкую думу о наступающем часе ее высокого призвания и покрывала ее молчанием, пока воистину великая духовная катастрофа не потрясла Москву до глубины души. Произошло нечто невероятное, неожиданное, непостижимое, подобное светопреставлению. Глава и вождь православия, патриарх вселенский вместе с василевсом, а за ним официально и представители других восточных патриархов «пали», приняв унию на Флорентийском соборе 1439 г. А Русская Московская церковь, под водительством своего благоверного вел. князя Василия Васильевича, имела мужество отвергнуть этот вселенский латинский собор, одновременно отвергнуть и свою каноническую зависимость от «падшего» патриарха и сознать себя от сего мистически-искусительного момента законно и праведно преемницей павшего Второго Рима Третьим Римом, уполномоченным соблюсти светоч вселенского православия неомраченным и неповрежденным до второго пришествия Господня. Это был решающий переломный момент в самосознании русской церкви, русской нации и русского государства. Подобно Павлу, томимому внутренним кризисом на Дамасской дороге и как громом сраженному ослепляющим светом Христовым, Россия, т.е. ее высокосознательная верхушка — иерархия, великий князь и мыслители, владеющие пером, вмиг открыли в себе смелость по-новому осознать и оценить себя и свое не просто высокое, но и высочайшее, единственное в мире предназначение, как бы новозаветную, даже эсхатологическую «свободу славы чад Божиих». В миг родилась блестящим фейерверком особая литература об этом внезапном перерождении русского православия из дитяти и ученика «в мужа совершенна», в Новый Царьград, слава и преимущества которого Божиею милостию, за испытанную верность православию, отныне перенеслись и почили на челе верной исповедницы православия церкви русской и ее покровителя, невидимо благодатно уже «боговенчанного царя вселенского православия». Москва стала Третьим Ртом, ее вел. князь — царем всего православия, а русскому митрополиту предстоит украситься «патриаршеским великим чином во времена своя».
Посольский толмач Дмитрий Герасимов в своей «Повести о белом клобуке» доказывал, что эта святыня потому чудесным образом перешла на Русь, «что ветхий Рим отпаде славы и от веры Христовы гордостию и своею волею; в новом же Риме, еже есть в Коньстяньтине граде насилием агарянским такоже християнская вера погибнет. На третьем же Риме, еже есть на русской земли, благодать Св. Духа воссия, яко», — говорится далее в форме пророчества, изрекаемого папой Сильвестром, — «вся християнская царства приидут в конец и снидутся во едино царство русское православия ради: яко же бо от Рима благодать и слава и честь объята бысть, тако же и от царствующего града благодать Св. Духа отымется в пленение агарянское, и вся святая предана будут от Бога велицей рустей земли во времена своя, и царя русского возвеличит Господь над многими языки и под властью его мнозие царие будут от иноязычных и патриаршеский великий чин от царствующего сего града такожде дан будет рустей земли во времена своя, и страна та наречется светлая Россия. Богу тако изволившу прославити тацеми благодарении русскую землю, исполнити православия величество и честнейшу сотворити паче первых сих». Примечательно здесь возвышение поэтического вдохновения до буквального пророчества за сто лет до появления русского патриаршества. Окончательную и самую сильную формулировку сложившихся в русском обществе высоких представлений о новых теократических правах и обязанностях русского государства и его самодержавных (т. е. независимых от чужой власти) правителей дает учительный старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей в своих посланиях к дьяку Мисюрю Мунехину и вел. князьям Василию III и затем Ивану IV. Церковь православная, как апокалиптическая жена, сначала бежала из старого Рима в новый, «еже есть Констаньтин град, но ни тамо покоя обреть, съединения их ради с латынею на осьмом соборе». «И оттоле Константинопольская церковь разрушися и положися в попрание, яко овощное хранилище». «И паки в Третий Рим бежа, иже есть в новую великую Русию. Се есть пустыня, понеже святыя веры пусти беша, и иже божественнии апостоли в них не проповедаша, но последи всех просветися на них благодать Божия». Судьба церкви тесно связана с судьбою христианских государств: «вся христианская царства потопишася от неверных; токмо единого государя нашего царство едино благодатию Христовою стоит». Стало быть, оно и есть богоизбранное царство — последний сосуд православия до дня наступления вечного царства Божия. «Внимай Господа ради, — обращается Филофей к вел. князю, — яко вся христианская царства снидошася в твое царство: посем чаем царства, ему же несть конца»; или иначе: »вся христианская царства снидошася в твое едино: яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти; твое христианское царство инем не останется».
Отсюда сама собою понятной становится и провиденциально-церковная роль русского великого князя. «Един ты, — пишет наш старец Василию III, — во всей поднебесной христианам царь». «Един есть православный русский великий царь во всей поднебесной, — говорит он в послании к Ивану Васильевичу, — якоже Ной в ковчеге, спасенный от потопа, правя и окормляя Христову церковь и утверждая православную веру». Последним выражением ясно дается знать, что самая существенная функция царской власти — это — защита веры и церкви Христовой; великий князь московский поэтому является «браздодержателем святых Божиих престол, святыя вселенския, соборныя апостольския церкви Пресвятыя Богородицы честного и славного ее Успения, иже вместо костянтинопольския просияла». Вместе с «вселенским» царем на Москве, титул «вселенской» здесь приписывается и символу церкви — Успенскому собору, заменившему «вселенскую» св. Софию, лишенную креста. Другими словами, и русская Церковь есть «вселенская» в смысле главенства и первенства чести «вместо Констянтинопольския».
Ни до, ни после этого не было в истории русского народа момента, когда он взглянул бы на свою судьбу с такой орлиной высоты и так четко определил бы ее смысл. Выражаясь по Гегелю, это был момент «самоопределения его духа». Дух народа, увидев свою сущность, перешагнул из своего детства в свое совершеннолетие и необратимо, незабываемо занял место внутренне, духовно, в преемственном ряду великих народов, вождей истории.
Так произошла встреча и не сливающееся, но и неразделимое соединение России и Православия в их максимальном значении, как соединение духа и плоти, формы и содержания, цели и средства, сосуда и священного елея в нем. Народ, не участвовавший непосредственно в этом литературно-богословском оформлении национального самосознания, в процессе трудно уловимого духовного взаимообщения, совместно с своими интеллигентными верхами, параллельно прочувствовал ту же проблему историософии и дал на нее свой параллельный утверждающий отклик на своем языке. Он назвал себя, свой народ, свою землю, свое государство, свою церковь совокупным именем «Святая Русь». Ни один из христианских народов не дерзнул на это. Но русский народ облюбовал и присвоил себе это имя не из гордыни, а в смиренном значении посвящения себя на служение святости. Как бы крещальное имя, или имя иноческого пострига, напоминающие нам о данных обетах. «Во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Стали «род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел» (I Петр. 2. 9.). До конца XVI в. книжные и литературные люди, мыслившие в категориях Третьего Рима, не пользовались термином Св. Русь. Он пришел к ним из народных недр. Это был одобрительный народный вотум за программу национального подвига, выраженного передовыми его вождями в критическую минуту бытия Руси. Устная народная словесность стала пользоваться им, когда, изживая невзгоды и унижения татарского ига и острее самоопределяясь по инстинкту самосохранения, как особая нация, русский народ опытно пережил и осознал свой святой контраст с нечистой азиатской тьмой, охватившей его. Сознал связь временно утраченной им свободы с верой христианской. С оскорблением отталкиваясь от «поганой» (т. е. языческой – paganus) басурманщины (т. е. мусульманщины), Русь благородство своей свободы и достоинства ощутила в Святом Православии. Облеклась в его святую ризу и запечатлела себя в самом имени своем его святостью.
Итак в самом зарождении своего национального, культурного и государственного самосознания, в самой купели своего крещения и колыбельных пеленах своих Русь обрела в себе православную, а не иную какую душу и нашла в ней откровение своего исторического пути раз навсегда. Собирательная душа наций не фантазия, а реальность. Если индивидуальная душа человека одна на всю жизнь, то и собирательная душа по аналогии с ней — также одна на все тысячелетия исторической жизни и творчества нации. Как глубокая и нормальная индивидуальная душа однолюбива, однобрачна, так и творческие таланты нации раскрываются при условии верности ее первой любви к своему идеалу. Полигамически, легкомысленно, революционно меняющие свои идеалы коллективная национальная душа обезличивает народ, обеспложивает его творчество и просто обращает его в потерявшие смысл своего существования обломки бывшей нации, приводит его к истинной смерти. Исторический опыт не знает ни одной нации, которая прожила бы свои века и тысячелетия так сказать на разные темы, меняя свои души, свои идеалы, свое творчество. Был один пример творческого разрушения. Это — пришествие христианства. И все-таки оно, дав новую душу старым народам, старые национально-государственные оболочки обрекло на распад. Ушла из них старая душа и они естественно отмерли. Умерли античные Рим и Эллада. И их гегемония над старыми народами Передней Азии, Северной Африки унаследована была христианской Византийско-Ромейской Державой.
Перед этим ответственным вопросом русские мыслители XV и XVI вв. (многоязычный посольский дьяк — Димитрий Герасимов, старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей, митрополит Макарий, сам Грозный, кн. А. Курбский, игумен Артемий) стояли не со слепыми глазами. Они видели, что русское государство и русская церковь технически еще недостаточно оснащена для выполнения свалившихся на их плечи мировых задач. И понятно, что прежде всего возревновали о восполнении внешних символических атрибутов, соответствующих почетному праву России — быть вождем Православия. Нет еще ни царя, ни патриарха, ни высшей богословской школы. Начинается некраткий период публицистической проповеди и дипломатических усилий к созданию этих великодержавных и сакраментальных ценностей. Создалась и особая литература о переходе на Россию царского титула и короны и, наконец, реализовано над Грозным и формальное царское венчание. Параллельно шли мероприятия для восстановления канонического мира с Вселенским Престолом, затем хлопоты об учреждении русского патриаршества, что и было достигнуто в 1587 г. Трудно было не символически, а реально чего-то достичь в области богословского просвещения. Бесшкольность и малограмотность на Св. Руси были вопиющими. На этом труднейшем поле возможны были, ради престижа русской церкви, пока только символические достижения. И этот героический символ создал в половине XVI в. митрополит Макарий в виде его циклопических Четиих-Миней, внешне собравших и наглядно издавших всю накопившуюся за века христианства церковную письменность.
Но всех этих достижений, главным образом внешних, символических, было слишком мало для выполнения русским Православием его вселенской теократической миссии. Самый колосс новосозданной царской власти поставлен был еще на глиняные ноги. Истерическая натура Грозного, террористическими и кровавыми мерами торопившегося закрепить централизованное самодержавие и этим извращавшая его до деспотического абсолютизма, глубоко поколебала налаженные социальные скрепы молодого государства. Пришла так называемая смута. Казалось, Св. Русь кончилась. И она кончилась бы под пятой завоевателей, кольцом сжимавших ее — Швеции, Балтийских немцев, Польши, Турции и даже Персии, если бы... народное, низовое (не говорим уже об интеллигентном) национальное самосознание не отожествлялось с самосознанием православным. Для историков — почти чудо начавшееся государственное восстановление из развалин под лозунгом: «Умрем за веру православную, за дом Пресвятой Богородицы, за гробы святителей московских!». И — восстали, и создали новую династию, и вновь укрепили православное царство. Так на опыте православная душа спасла Россию от физической смерти. И, в лице московских церковных идеологов Россия вновь быстро вознеслась на высоты помыслов о гегемонии во вселенском Православии и даже о кресте на куполе цареградской Св. Софии! Патриарх Никон поторопился устроить в своем подмосковном Воскресенском монастыре храм, назвав его «Новым Иерусалимом», храм с пятью престолами, чтобы совершать литургию, по освобождении Цареграда, соборне всеми пятью патриархами под предстоятельством патриарха московского. Поторопился Никон, ради единства культа с восточными коллегами-патриархами, ускорить правку русских обрядов и церковных текстов применительно к букве новейших греческих богослужебных книг. Поначалу единомышленники Никона, одинаковые энтузиасты идеала Москвы – Третьего Рима, передовые московские протопопы не пошли этим прямолинейным путем. Они сочли, что Никон, а за ним и Царь и Двор и малодушные иерархи предали первенство русского православия в руки испортивших и облатинивших его греков. Очень ценная, полная энтузиазма часть народа пошла за ослепленными таким национализмом вождями. Произошел несчастный раскол в самом центре русского церковно-государственного сознания. По убеждению раскольников, и Третий Рим «пал», а «Четвертому не бывать», наступили последние времена антихриста и вот-вот грянет страшный суд.
Смутное время, приводившее Россию на край гибели, не потрясло так веры в Третий Рим, как потряс этот раскол, эта междоусобица внутри самого Третьего Рима. Соблазняющая мысль о возможности «падения» Третьего Рима умалила его обаяние. Покров смущенного молчания был накинут впредь на эту идею обеими расколовшимися течениями русской церкви. Хвалебные гимны Третьему Риму исчезли со страниц литературы и даже из высокопоставленного языка официальных актов. Открылся путь для великого духовного отступления от теократического идеала Св. Руси.
Роковую роль тут сыграл великий ревнитель теократии, великий по природе умник, но, увы, лишенный необходимой науки, патриарх Никон. Он патриаршие претензии к царской власти аргументировал между прочим подкинутой в русскую письменность в XV в. латинской доктриной двух мечей. Этим искривлением древнерусского, по существу традиционно-византийского идеала, великий Никон, в оболочке своей страстной и путаной тактики сугубо напугал и царя Алексея и восточных иерархов и создал в царской семье передававшуюся с детства Петру Великому традицию отталкивания от теократического духа и мечты о Третьем Риме и от самой патриаршей власти, как таковой.
Но Никон, несмотря на внесенную и им самим идейную путаницу, все же тоньше и дальновиднее всех своих церковных современников (не говоря уже о слепых в этом чужом для них деле восточных иерархов), угадал дух и корень начавшегося отступления вождей России XVII в. (в Уложении царя Алексея 1649 г.) от начал священной теократии. А власть и правящий класс России действительно были захвачены инстинктивно (и еще более чем Никон слепо, бессознательно) светским, мирским вдохновением — наращивать государственную, в частности, военную силу путем усвоения утилитарных прикладных наук и строить не Третий Рим для целей небесных, а град земной, так называемое «общее благо». Без ясного сознания правящий русский класс второй половины XVII ст. пленен был общепринятой в Европе теорией «естественного права» и незаметно ушел из-под власти исконно-теократического мировоззрения и встал на рельсы новой философии. А для последней нет высших ценностей, кроме гуманистических. В материальной и культурной сытости заключается «общее благо», которому и обязано служить государство. Власть государственная абсолютна. Религия, как одна из функций человеческой природы, регулируется и контролируется государством. Это не прежняя теократия, а антропократия, не боговластие, а человековластие, не примат церкви, а примат государства. Соправители царя Алексея и детей его — Федора, Софьи и младшего Петра бессознательно врезались в чуждую Св. Руси философию, не понимая этого. Но Петр сначала чутьем, а затем настойчивым осведомлением вплоть до книжных пособий, которые приказал и перевести на русский, уже сознательно выбрал светскую философию права и, найдя нужных людей и пособников, не без осторожности и выжидания, произвел революцию сверху. Сломал канонический строй высшего управления русской церковью, упразднил патриаршество и в форме новоучрежденной Духовной Коллегии, наименованной Святейшим Синодом подчинил церковь государству по протестантскому образцу. Начался 200-летний Императорский период жизни русской Церкви, основные законы которого опирались и молчаливо и явно, по букве, на «естественное право» и на западную теорию «просвещенного абсолютизма».
Что касается превращения православного царя в светского монарха, то для церкви и иерархии императоры по-прежнему остались теми же боговенчанными царями, помазуемыми св. миром на свое специальное служение в Церкви по произнесении ими прежней присяги на верность православию. А если почитать коронационные проповеди наших выдающихся витий, как Платон и Филарет Московские, то в них с особым пафосом изображаются благодатные дары, достоинства и долг служения царей православных, как если бы ничего не случилось в смысле измены традиционному духу православия. Если иерархию можно заподозрить в словесном ритуализме, то самих носителей русской короны, кроме революционера Петра, нельзя упрекнуть ни в удалении от православия, как веры всенародной, праотеческой, любимой, ни в небрежении по отношению к интересам церкви. Лично они сознавали себя верными и покорными сынами своей церкви, по царскому долгу обязанными быть ее защитниками и благотворителями. В заботах о вселенском православии по-прежнему были попечителями святых мест, благотворителями из государственной казны бедным и утесняемым православным грекам, арабам, славянам. Задача освобождения находящихся под игом Ислама христианских народов была с усилением империи, еще более заметным пунктом международно-государственной программы России. Русское воинство, хотя и одетое в европейские рейтузы, кивера и парики, всегда подчеркнуто сознавало себя святорусским «христолюбивым воинством»; да по народной, крепко-православной психологии оно и не могло быть иным. Внешние изменения государственного быта и европеизм правящих верхов не задели еще толщи народной. Там залегли еще глубокие пласты старого теократического сознания. Они-то и питали героической стойкостью силы народа, долготерпеливо вынесшего тяжесть построения великой империи, внешне как бы эмансипированной от целей религиозных, а внутренне только на них и державшейся. Иллюстрацией синтеза европеизированной политики и внутреннего православия императорской России может служить фельдмаршал А. В. Суворов, в напудренном парике и треуголке в атласном петушином камзольчике, в чулках и башмаках с пряжками и, как старец с неумолкнувшим именем Божиим на устах, с Часословом и Псалтирью на ночном столике и с дьячковским чтением и пением на деревенском клиросе. Императоры и императрицы в менее яркой и талантливой форме были такими же в смысле стиля как бы двуликими существами, обращенными к Европе и внешнему миру лицом культурно- интернациональным, а к своей церкви и народу лицом традиционного теократического царя вселенского православия, над которым не переставало открыто реять ромео-византийское знамя двуглавого орла с мечтой о кресте на куполе Св. Софии. Не умножаем здесь ради экономии места иллюстраций православного лика наших императоров. Это — общеизвестно. Невзирая на брачную связь с протестантским Курляндским Домом, Анна Ивановна была обрядово-усердной старомосковской боярыней. Елизавета ездила с бала прямо к заутрени. Чужестранка по воспитанию, вольнодумная, но умная Екатерина II считала своим царским долгом следовать православному уставу, ездила по монастырям, на открытие мощей, пешком ходила в Троице-Сергиеву Лавру. Павел I был теократ до границ безумия. Александр I — пример напряженного мистического благочестия. И так все императоры вплоть до благочестивого и богомольного Николая вопреки неправославному Петровскому Духовному Регламенту и неправославной букве Основных Законов, субъективно, по подспудной тысячелетней традиции, оставались носителями заветов русского и вселенского Православия. Перефразируя слова Филарета, можно было бы сказать: Петр сокрушил религиозный лик русского царя и переделал его на лик утилитарного диктатора, «но Промысл Божий и дух церковный» обратили этого нового диктатора, выражаясь словами Основных Законов, в «Благочестивейшего блюстителя православных догматов и всякого в церкви святой благочиния».
Так за 200 истекших лет Императорского Периода Россия продержалась на прежнем духовном внутреннем союзе государственного тела с православной душой, единственно понятной и душе народной массы. Но воздействие православной души на тело было поколеблено, ослаблено и затуманено в русском сознании подавлявшими его диссонансами и дисгармонией с иноприродными по духу Основными Законами, вытекавшими из Идей секулярного внерелигиозного абсолютизма. Эту светскую государственность мощно поддержало эмансипированное от религии общее просвещение и его огромная активная армия — русская интеллигенция. Народ поддался духовной стерилизации и с примитивной резкостью и грубостью усвоил соблазнительные для примитивов пропагандные псевдоистины: «все зло в старых устоях, в царе и церкви, в установившихся классовых разделениях. Спасение — в замене всего до основания народоправием и уравнительным переделом». Померкло, затмилось на время сознание православной души России, и Россия провалилась в черную бездну большевистского ада...
Это вопрос не только наш — русский, а вопрос мировой, общечеловеческий. Не со вчерашнего дня передовое, ведущее человечество, а именно человечество христианское врезалось в новый духовно мучительный период потери религиозной веры, отступления от всех ее догматов и жизни по инстинктивным влечениям ради ближайших бесспорных, как хлеб насущный, достижений. Жизнь гордого своим разумом, наукой и техникой человечества. Но жизнь по существу бессмысленная, ибо без разумной причины, без разумной цели. Просто голый факт, неустранимый фатум. Это — ниже уровня жизни животного мира. Животный мир, без критерия самопознания и самокритики, живет по инстинктам по-своему правильно и праведно, следуя законам смутно ведомого ему Творца. Отступник же человек, пользуясь богоподобным орудием познания, свободы и творчества, но озлобленный богоненавистничеством, коверкает материалы, силы и законы природы, создавая вместо обещаемого им рая ад на земле. Если новое, эмансипированное от религии человечество желает и впредь отвязаться от надоевшего ему строительства Царства Божия, Града Христова, то фатально оно обречено строить град диавола, антибога, антихриста. И в СССР оно уже дало блестящую иллюстрацию, к чему ведет будто бы только внерелигиозное, только агностическое культурное строительство. И это сатанинское столпотворение — увы — до какого-то предела удается, укрепляется, вооружается до зубов и угрожает всему миру и соблазняет наиболее отступнические народы. Но гордое своей безрелигиозной «просвещенностью» человечество, неспособно оценить всей ядовитости для него — именно поскольку оно само безрелигиозно — соблазна царства сатаны, засевшего в крепость СССР. Опасность грандиозна в мировом масштабе. Для нас остается тайной воля Провидения: доколе Господь попустит преуспеяние антихристовых завоеваний? Для нас ясен только долг наш — быть до конца активными воинами Христа. Мы не имеем права быть пассивными созерцателями завоеваний антихриста. А для этого мы чем-то должны питать и нашу веру, и нашу надежду.
Во-первых, в самой временной резиденции антихристовых слуг, в оскверненном кровавыми пятиконечными звездами Кремле не все обстоит благополучно. Обнадеживающий симптом неистребимости веры православной в русской народной массе заключается еще в том, что кремлевские властители в горькую минуту вынуждены были, во имя собственного шкурного спасения, признать свободу проконтролированных культов, включая и русскую православную церковь, под условием оскопления ее народно-учительных, общественно-воспитательных, вообще миссионерских в широком смысле функций. В оскопленном виде, как жалкая карикатура на полное, свободное, а стало быть и теократическое православие, современная русская иерархия обращена пока на службу коммунизму, и, как аппарат духовного укрощения угнетенных масс, и как орудие международной псевдо-пацифистской пропаганды. Но... все-таки этот кошмарный маскарад православия есть факт, не дающий спокойно спать господам над бескрестным Кремлем. Это напоминание о наличности неостывшей подземной клокочущей лавы, могущей взорвать и перевернуть все. И это относится не только к религии, но и ко всей человеческой природе, искаженной и закованной в кандалы противоестественной доктриной и тиранией коммунизма. Вся свободная природа человека страждет, клокочет, томится жаждой освобождения и... вся взорвется, возвращаясь к самой себе через какую придется катастрофу. Во всяком случае, через переворот по существу революционный. Мирная эволюция тут исключена, как исключен компромисс между раем и адом, где непереходимая «пропасть велика утвердися» (Лук. 16:26). И это — опять повторяем — проблема не наша только, частная, русская, а проблема всемирная. Всем народам придется на нее ответить решительно и окончательно. И не словами, а делами. Вопрос идет о «быть или не быть», о жизни или смерти всего периода христианской цивилизации, хотя бы и опресневшей и себя ослабившей примирением с безбожием. Вопрос идет не о данном, а о должном, не о том, что случилось и что есть, а что должно быть и что мы должны делать, несмотря ни на что. Стало быть, это вопрос нашей веры и верности слову Христову. А Он сказал: «Сын Человеческий, прийдя, обрящет ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Открыто это нам не для отчаяния и фатализма, как программа неизбежной гибели, а как призыв к спасению через веру и верность, хотя бы и немногих, «претерпевших до конца» (Мрк. 13:13. Мф. 24:13). Предположим, что мы уже вдвинуты в эсхатологические времена, и безверие все время crescendo расширяется, а вера идет на умаление. Тем более тревожно мы призываемся к крепчайшему стоянию со знаменем Христовым даже в ариергардных боях. Но это крайнее, необязательное предположение. Нам не открыты «времена и сроки», и мы обязаны вести себя активно, как воины Христовы в длящемся историческом процессе. Цели «воинствующей Церкви» на земле остаются прежними, независимо от исторических перемен. И раз «избранные» органы строительства царства Божия, как Россия, если они не отступили тотально, остаются на своих духовных местах. Вот глубинный смысл пророческого стиха Тютчева: «В Россию можно только верить». Т. е. несмотря на колебания, измены, разрухи, извращения, уничижения России в нынешнем ее безымянном, неузнаваемом виде, она для очей веры продолжает существовать как неотменяемо призванная быть «Святой Русью», державной хранительницей Святого Православия до второго пришествия.
Как же сочетать нашу красивую «веру в Россию» с ужасающе безобразной действительностью? Наше теперешнее физическое бессилие с силой торжествующего зла? А главное, как реально, фактически, конкретно действовать, как и чем служить нашей вечной Святой Руси «в роде сем прелюбодейнем и грешнем», т. е. среди исковерканной коммунизмом и — признаемся — духовно отвратительной для нас плоти теперешней России? Если главный тезис нашей программы — Святая Русь, то как мы собираемся бороться за него в настоящем положении в злободневной политике, столь далекой от него? Каковы наши методы, какова тактика? Может показаться людям безрелигиозным, что мы собираемся строить из ничего, на голом поле что-то донкихотски-фантастическое, даже не серьезное? Кто — мы? Импотентные романтики привидений прошлого, или опасные и вредные «реакционеры»? Все эти вопросы далеко не праздные и в разветвлениях своих очень жизненные, интересные. Легко сказать «Святая Русь», но как ее сделать? Тут тысячи конкретных вопросов и на них должны быть даны тысячи ясных ответов. И, конечно, даже при единстве программного идеала, неизбежны методологические тактические расхождения. Словом, за общим нашим программным утверждением по категории «что?» ( «Православная Россия») следует категория «как?». Как теперь нам строить Св. Русь на развалинах и при уроках прошлого? Это предмет особого исследования и не столь краткого, ибо полемического и инструкционно-детального. Но чтобы отвести от себя ряд подозрений и элементарных недоразумений, в заключение считаем полезным сделать ряд оговорок и просто заявлений.
А. Подымая знамя Православной России и воздавая ей подобающую честь за ее достижения в прошлом, мы не считаем ни обязательным, ни мудрым брать на себя неблагодарную и утопическую роль реставраторов. «Все течет» говорила древнеэллинская философия, т. е. история есть непрестанное движение, эволюционное изменение. Живое начало, управляющее каждой связной цепью явлений, не разрушается переменой их оболочки. Наоборот, оно в этих феноменах воплощается, закрепляется, живет. По французской поговорке, «чем более изменяется, тем более остается той же самой вещью». В преобладающем количестве случаев закономерные феноменологические изменения свидетельствуют о росте и совершенствовании данного явления, иногда о цикле: — зарождения, расцвета, увядания, смерти. Суть явления, примат его в его живом, творческом, производящем начале, а не в его формах, оболочках, имеющих второстепенное значение. Таков, например, вопрос о форме правления в нормальной Православной России. Исторически, мы имели его, начиная с Ромейско-Византийской Державы, в форме монархии, и при том миропомазанной и включенной формально в каноническую систему внешнего управления делами церкви. Это не было захватом силы внешней для церкви, а видом служения внутри самой церкви. И для богословского разумения связи церкви с государством, по аналогии связи души с телом, это была самая естественная и нормальная форма, ибо она воплощалась в живой личности, в личной совести и личной ответственности перед Богом. Для церкви василевс-царь был преданным сыном, по долгу присяги хранителем православия, живой личной христианской совестью, на которую церковь имела право духовнически влиять, в которую, как в сосуд, для того и предназначенный, она могла вкладывать благодать своих таинств. Как церковь могла бы реализовать благодатную связь не с единоличной, а с коллективной властью? Как миропомазать разноверный сенат или все время сдуваемый политическими ветрами, как осенние листья с деревьев, летучий состав министерств, и тоже разноверных и просто антирелигиозных? Кроме библейского закала мысли и бездумного традиционализма, надо же серьезно понять тяготение иерархии к монархическому строю в христианском государстве. Начисто отбрасываем при этом пошлый аргумент ничего не смыслящих в делах религиозного сознания позитивистов, будто все тут объясняется классовыми вожделениями об утраченных привилегиях. Сила и правда церкви не в приражении к ней греха в виде классовой лености и корысти, охотно замечаемой глазами врагов, а в неведомой врагам неистребимой силе апостольства. Даже лишенные своего прежнего блеска, сосланные на Соловки, иерархи босыми пошли и всегда пойдут по пути Апостолов. Церковь родилась в гонениях, окрепла в гонениях и до сих пор мужает в гонениях и никогда не умрет, а воскреснет от гонений. Воочию видно, как врата адовы ее не одолеют. Она победила СССР-ию и прямым мученичеством и катакомбным своим ликом. Победила в некотором смысле даже и своим рабьим уничижением, показала ее неистребимость!
Итак, с крушением монархии и искажением всего лика России подвиг церкви, как души России, продолжается. Он только требует глубокой перестройки системы и методов отношения Православия к формально расправославленному государству и народу. Старых форм просто уже нет. Нужно думать о новых и быть готовыми и способными — создать их.
Б. Мужественно считаясь с фактом безвозвратного крушения старого строя и смотря в будущее через голову противоестественного большевистского строя, хотя он и длится уже 35 лет, нужно предвидеть и заранее подготовить церковное сознание не к краткому периоду исканий и опытов строя нового, чтобы церкви всегда занимать достойную позицию. Не раболепную и безгласную, а свободную и принципиально героическую. Церковь знает куда вести человечество. Ей нельзя идти в хвосте за политическими и культурными «искателями». Но церкви чуждо и насилие. Нельзя палкой загонять в ограду церковную. Отсюда вытекает ее внутренний долг долготерпения и приспособления к обстоятельствам. Это не значит, что православие отказывается от своего идеала, от своей канонической нормы — симфонии церкви и государства. Церкви не свойственна такая изменчивость, такой релятивизм. Мы, православные, не суетливые «искатели», мечущиеся из стороны в сторону. Мы — нашедшие, и верно хранящие найденное сокровище, т. е. буквально — консерваторы «идеала симфонии». Нас сейчас же освищут и реакционерами и реставраторами люди, у которых у самих нет ничего святого в прошлом и которые с легкостью заполняют эту пустоту какими угодно призраками будущего. Вообще христиане обречены на поношение со стороны неверующего большинства. И не ради объяснений пред ним, а в своей собственной среде православной, мы начисто отрицаем применение к себе этих укоров-ругательств. Реставрации мы считаем противоисторичными, нереальными, фантастичными, а потому и реакционный активизм считаем неразумной донкихотской борьбой с мельницами. Но мы думаем, что наш консерватизм открывает перед нами перспективы и надежды, глубоко отличные от безграничного революционизма и новаторства. Безрелигиозные политические и социальные новаторы считаются только с «телом» России. «Души» России для них нет. Они несутся «без руля и без ветрил». У нас есть и руль и ветрила и — якорь спасения. Мы на нем стоим, переживая штормы истории. Мы знаем православную душу России, и мы приложим все наши честные старания высвободить эту душу из подполья, в какое загоняют ее безрелигиозные режимы с тем, чтобы она, потеряв свое старое внешнее оформление или воплощение, нашла себе новое и по возможности полное, или во всяком случае при всех режимных вариантах проникала бы их хотя частично своими радиолучами.
Таким образом, не имея права поступаться своими догматами, нормами и идеалами, православие в эти искусительные исторические времена своего внешнего умаления должно быть готово к ряду больших не принципиальных, а только тактических «вычитаний» из своей полноты. Мы уже указали на один, бросающийся каждому в глаза пункт. Не стало у православия царя, миропомазанного защитника. Может быть долго не будет. А может быть и совсем не будет. Какое православное сердце не оплачет эту незаменимую потерю! И какое не обрадуется, если бы неведомыми судьбами Промысла, этот слуга церкви вновь был поставлен на прежнее место его теократического служения! Во всяком случае, нам не по пути с политиками, садистически забивающими осиновые колы в могилу православного царства. Но историческая плоть смертна. Лишь само Православие бессмертно и переживает все вычитания из исторических форм его воплощения.
В. Одно из этих безвозвратных «вычитаний» касается привилегии православия — быть «господствующим исповеданием» в государстве. Настолько эта привилегия, естественная в период первоначального созидания России, устарела к нашему времени и обратилась силою вещей из полезной во вредную для морального престижа православия, что даже при наличности самодержавия, когда поставлен был вопрос о подготовке к реформам в церкви и подготовке к собору, сама иерархия во главе со Св. Синодом просила изменить и переформулировать правовое положение православной церкви в родном государстве из положения «господствующего» только в «первенствующее». Как вере исторического большинства народонаселения России, ей это первенство принадлежит даже на объективном арифметическом основании, а не как привилегия. В этом смысле был подготовлен и законопроект новой конституции собором 1917—18 гг.
Г. Мотивы, которые толкали русскую церковь отказаться от privilegium odiosum «господства», были мотивы миссионерские. В новом государстве, по элементарному закону равной для всех религий и культов свободы, православию свое наследственно-историческое первенство в России можно отстоять только в постоянной, неусыпающей конкуренции с какой-то и для кого-то привлекательностью других вероисповеданий, не преувеличивая до трагизма никаких отдельных групповых, тем более индивидуальных, отступничеств. В наше время приходится ценить какую бы то ни было религиозность положительнее, чем равнодушие, которое становится легкой жертвой воинствующего безбожия.
Д. Последняя наша оговорка относится к вопросу о православии в многонационально-федеративной России. Как и скоро ли разрешится вопрос о национальных свободах в послебольшевистской России, предсказывать не беремся, но нам, православным, необходимо продумать отношение нашей веры в единство и единственность православной души России к характерному для русского политического организма его многоплеменной ткани. Большевистский опыт вздыбил очень глубокие пласты плоти России с целью разложения старого государства. Он декларировал всем без различия национальностям право так называемого «самоопределения вплоть до отделения». Игра в федерацию — «союз советских социалистических республик» поставлена, и из жизни неустранима. Ложь ее должна быть отброшена, а правда должна быть очищена и выправлена. Любая демократическая конституция признает право национальностей на культурное самоопределение, т. е. на свободу языка в церкви, в школе, в местном суде и администрации. Но вопрос о привилегии политической автономии или даже федеративной полунезависимости уже должен базироваться не на элементарных, природных свободах, а на основаниях иного, историко-политического порядка. Ибо нет такой естественной, прирожденной потребности, чтобы каждая национальность, отличная от другой по языку или только диалекту, нуждалась бы в особом, сепаратном государстве и имела бы на него право. Как в природе разные роды и виды животного мира, с вариантами по климатическим поясам, живут совместно на одном пространстве, так и человеческие общежития, выросшие из племенного быта и ставшие государствами, по своей высшей задаче объединения в единый высший организм — политический естественно должны охранять и развивать достигнутую ступень эволюции от элементарного к сложному, а не разламывать усовершенствованное целое на составные части. Это — ретроградство, поворот культуры к примитивизму, к одичанию. Уроки исторического опыта неотразимо ярки. Собирание простейших и племенных организмов в великие тела империй всегда было средством и спутником высших достижений для общей культуры человечества. По закону превосходства великого над малым и все части, входящие в состав великого целого, именуемого Россией, только выигрывают в мощной защите их свободы, получая все блага и преимущества pax Russica. Конечно, повторяю, система культурно-национальных свобод, местных и областных самоуправлений и автономий должна быть не в большевистско-карикатурной видимости (при полном рабстве и безличии), а реально, честно и твердо обеспечена основными законами. Тогда люди местного национального вдохновения могут спокойно и удовлетворенно работать на благоденствие своей области, своего народа. Именно из лагеря сепаратистов несется проклятие империям за их милитаризм, а их маленькие государства будто бы ведут к миру. Или это грубейшая попытка обмана или не свидетельствующий о государственном уме — самообман. Именно размножение-то мелких тел без единого купола и есть пекло непрестанных пограничных столкновений, требующих от небольшого числа налогоплательщиков непосильной потогонной кабалы для производства непосильных орудий — защиты от соседа и нападения на него. Кто знаменоносец так называемого «ада милитаризма» — «империалисты» или сепаратисты»?
Следовательно, практический вывод, вытекающий из этих простейших бесспорных предпосылок, сводится к тому, что нормальное и счастливое разрешение вопроса о национальностях в России должно быть, как и логика и законы естества того требуют, в совмещении разнообразия с единством и единства с разнообразием. Другими словами, conditio sine qua non — решения задачи это — азбучный догмат единства России, а «прочая вся приложатся», Тогда бессмертная душа России временно находящаяся как бы в анабиозе, из своего радиоцентра вновь осветит и осмыслит обновленное после катастроф, болезней и операций тело России. Свободное православие, стоящее на своих собственных ногах, наряду с другими верами, своей внутренней силой вновь вернет России, как собирательному имперскому и культурному целому, свою печать, свой лик, свою икону, — икону Св. Руси.
Тютчев
Коротенький трактат на данную тему мы не можем потратить ни на полемику, ни даже на издалека идущую апологию. В рамки его мы предполагаем вместить только положительные утверждения для лиц, уже приемлющих и православие и Россию и желающих лишь сосредоточиться на осознании и формулировке их взаимоотношения. По французской поговорке хотим «проповедовать уже обращенным», людям одной с нами веры и любви, одного откровения совести. Это «переписка с друзьями». Дай Бог, если она сможет поколебать или переубедить кого-нибудь и из посторонних, или даже врагов нашей веры. Это — проповедь на «литургии верных». Непосвященным уже провозглашено: «оглашеннии изыдите»! А «елицы вернии паки и паки» полюбуемся на нашу светлую и радостную истину!
* * *
Православие и Россия это для нас — священная нераздельная двоица. Не просто исторический факт в смысле случайной комбинации. Хотя для верующего в Бога-Творца и Промыслителя нет в мире в полном смысле случайного. Все на глубине провиденциально. И связь России с Православием и Православия с Россией, при всех исторических, т. е. относительных сторонах этого факта, на глубине вскрывается и остается не случайной, а провиденциальной, нормативной. Рассуждая принципиально-богословски, вне истории, мы, конечно, должны не забывать, что Православие есть самодовлеющая мистическая реальность, сама по себе не нуждающаяся ни в России, ни в Греции, ни в Болгарии, ни в какой другой «плоти и крови»! Православие могло обойтись без России. Но обратное соотношение исключено: России нет без Православия. Мыслимо исторически, что Россия могла стать и мусульманской, и буддийской. Но это была бы какая-то иная Россия, с другой душой, с другой историей. Равно, если бы Россия была действительно навсегда переделана, например, нынешними интернационалистами-марксистами и, утратив свою прежнюю христианскую душу, душу «Святой Руси», заменила бы ее атеистической душой, она перестала бы по существу быть Россией. Признаком этой переделки-подделки является для богоненавистнической так называемой «советской» власти ее отвращение от священного имени «Россия»; и прикрытие анонимной, демонической трагикомедии буквенной абракадаброй СССР.Библия нам предписывает видеть в истории пути и средства спасения рода человеческого. История — провиденциально сотериологична. А сотериология — конкретно-исторична. Наша библейская вера устанавливает для нас и твердый компас, чтобы не заблуждаться в дебрях исторического хаоса. Библия узаконяет иерархию ценностей. Она открывает нам догмат избранности, сверхрациональное таинственное предызбрание одних факторов и лиц к служению дела спасения, а других к заблуждению и погибели. Нам открыта центральная, красная нить истории, сердцевина ее высшего, вечного смысла. Наша сотериологическая историософия — не рационалистична, а догматична, если хотите — мистична.
* * *
Итак, осмыслим путь, заданный Провидением России. Не путь только материальных, экономических, политических, имперских и культурных достижений, взятых самих по себе. Это только средства и орудия, данные для служения России в обширных перспективах Царствия Божия в мире, в данном случае — в земной истории. Тут всем народам отведена своя роль, ибо даже «волос с головы не падет без воли Божией», тем более судьба целого народа. И религиозно-моральный долг каждого народа: — распознать «перст Божий» в своей судьбе, принять и выполнить отведенное ему предназначение.Библия развернула перед нами исходную схему смысла мировой истории, вручила нам карту ее ветров и ее подспудных великих океанических течений. В этой схеме все вращается около центральной точки боговоплощения вхождения Бога в рамки позитивно данной и определимой исторической хронологии. На таинственной грани двух эпох, двух заветов, пророк Даниил указывает чудесную роль маленького, физически почти ничтожного Израиля, но избранного «Ветхим Днями» для низвержения мирового колосса на глиняных ногах. «Камень нерукосечный от несекомые горы» Всемогущею Десницею отделенный, в прах сокрушил носителей гордыни мирового империализма. По Данииловой схеме (Дан. гл. 2) четыре богопротивящихся империализма сменяют один другого: Ассирийский, Вавилонский, Македонский и Римский. Сменяют, поглощая в себе каждый своего предшественника. Последний Римский остается на сцене. Но в середину его вкатился сравнительно небольшой камень «нерукосечный», залег среди общих развалин и «сделался великой горой и наполнил всю землю» (2, 35). Этот причудливый образ растущего камня в ст. 44 поясняется более прозрачным пророчеством о том, что «Бог небесный воздвигнет царство, которое... букет стоять вечно».
Эта библейско-мессианская, затем первохристиански-эсхатологическая и, наконец, святоотеческая концепция стала священным преданием церкви. Особенно ярко и четко запечатлелась она в византийском летописании. Византийская хронологическая литература, бывшая предметом интереса и попечений имперской власти, по духу и исполнению принадлежала в подавляющем большинстве труду монахов и епископов и потому оставалась идеологически продолжением библейской священной истории. В ней все освещалось и оценивалось священно-историческим смыслом, судьбами Царства Христова на земле.
Такое стройное историософское мировоззрение было целиком усвоено верным учеником Византии — Киевским Летописцем. Этот коллективный и личный Нестор, включением милой его сердцу крещенной христианской Руси в величественную священно-историческую раму византийских хронографов, придал и самой нашей летописи столь возвышенный, универсальный исторический характер, что, по признанию наших ученых обрусевших немцев — Шлецера и Гильфердинга, поставил ее несравнимо выше всех других западноевропейских летописей той эпохи, ограниченных узким горизонтом местных, национальных и просто областных интересов. Высокий вселенский полет мысли Киевского летописца не был исключением Он был общепринятым в кругу христиански образованной элиты русского киевского общества. Блестящим свидетельством тому служит знаменитое «Слово о законе и благодати», сказанное около 1050 г. и принадлежащее выдающемуся ораторскому перу митр. Илариона, первого известного нам по имени писателя — русского патриота. Он воспитан на мировых перспективах византийской хронографии и пишет победную песнь новозаветной эпохе («благодати»), пришедшей на смену эпохи ветхозаветной («закона»). Иудейство замыкается в узости обрезания, плоти и крови, расизма и национализма и — теряет все. Спасение разливается благодатным наследием по вселенной в обладание всем языкам и народам. Избранником Христовым становится всякий, кто только этого захочет. В самом заголовке «слова» уже дана эта тема: «Слово о законе Моисеем данном, о благодати же и истине, Иисус Христом бывших; и како закон отыде, благодать же и истина во всю землю простреся и доиде и до нашего языка русского; и како крещени быхом». Итак Византия привила высшему сознательному слою русских людей идею великой задачи, великого служения Руси. Найдено, указано и усвоено место в истории и в промыслительном плане спасения всего мира крещеному, христианизированному русскому народу, пока без всякого выделения из ряда других православных народов. Академик Шахматов и его ученик проф. М. Д. Приселков усматривают в Иларионовом слове дипломатически прикрытую аллегорию, внушающую мысль, что, по примеру замены когда-то избранного ветхозаветного Израиля новым Израилем в лице христианских народов, и в дальнейшем избранничество, за небрежение и отступление, может быть, отнимаемо Провидением у одного народа и передаваемо другому, достойнейшему. Если бы даже и не было такой тенденции в Иларионовом слове, то все равно оно, наравне с Киевским летописным сводом, является бесспорным манифестом еще юной, новокрещенной русской церкви, но уже сознающей себя рядом с Византией, носительницей универсальной сотериологической миссии. Показательно, что русская почва с самого начала оказывается благоприятной для сеяния идеи всемирной миссии Православия и идеи примата, первенства, водительства, гегемонии в этом деле. Если сравнительно скоро надвинувшаяся на Русь катастрофа монгольского ига и заглушила дерзновенные зачатки такой претенциозной идеологии, то они оказались все-таки настолько глубоко укорененными и живучими, что несмотря на умаление культурных сил и внешнего престижа русской церкви в длительные столетия татарщины, восходящая линия постепенного русского освобождения от орды включила в себя очень отчетливо нарастающее убеждение русских, что явно умалявшая и гаснувшая в те же столетия государственная мощь Византии обратно пропорционально уполномочивала русское христианство, русскую церковь воспринимать на себя, по зову Провидения, и первенство чести, и первенство ответственности за судьбы всего Православия во всем мире.
* * *
Пишущему эти строки не раз приходилось печатно излагать эту концепцию православной миссии Св. Руси, как Третьего Рима, а потому он вправе здесь не повторяться, ограничившись сухой схемой.Зерно этой схемы содержит в себе еще апостольское и первохристианское убеждение, что Даниилово «царство святых», т. е. внегосударственная беззащитная кучка первобытной Церкви, живет в рамках четвертой Данииловой империи, и именно Римской империи. Сам родившийся Богочеловек вписывается в римское гражданство. А империя, вопреки гонениям, в конце концов обращается ко Христу и становится хранилищем, броней, орудием Царства Божия. В этом парадокс, чудо истории. Православная Византия по своему государственному и династическому самоопределению сознавала себя прямым продолжением Римской Империи с сохранением ее имени и официального латинского языка, который лишь с VII века стал постепенно сменяться на греческий. Граждане до самого завоевания Константинополя турками (1453 г.) назывались «ромеями», т. е. римлянами, вся держава и воинство были «ромаики», т. е. ромейскими — римскими. Константинополь мыслился не риторически, а буквально, юридически Вторым, или «Новым Римом». По мере того, как старый Рим, благодаря догматическому новшеству — filioque и росту папской власти, сам отходил от единства с Новым Римом, религиозно «падал» в глазах последнего, да и политически откололся от него, увенчав священным титулом «Римского Императора» «варвара» — Карла Великого (800 г.), Новый Рим все более убежденно исповедовал, что «служение» Рима Царству Божию в качестве вселенского центра и главы окончательно перешло к нему. Но уже дальнейшего передвижения центра христианской империи — защитницы православной церкви, византийские греки не допускали. Знаменитейший из патриархов Нового Рима Фотий исповедовал веру, что «царство от нас — греков не отнимется до конца времен»...
Увы, это не суждено было Предвечным Светом Божиим. Человеческая близорукость не в силах предусмотреть конкретной исторической реальности. Новый Рим не без длительной агонии пал в 1453 г. В период его агонизирования другие православные народы, молодые балканские славяне, взяв пример с самих ромеев-греков, применили к себе принцип передвижения Римов и стали гадать, что из Второго Рима, из Града Вселенского Василевса на Босфоре, из Царя-Града столица Православия передвинется в столицы сербов или болгар, крали и князи коих предупредительно провозгласили себя василевсами, — царями чаемого ими и уже именуемого «Третьего Рима». Но сень смертная турецкого ига затенила их еще раньше, чем померкло солнце Второго Рима.
Беглецы с Балкан конца XIV в. в Москву оживили тлевшую у русских, под покровом смиренной лояльности греческому возглавлению, мечту, что затопляемая потопом орд Ислама Православная Империя к счастью теперь имеет заместительницу и преемницу по охране Православия в лице новоявленной Москвы, с помощью Божией этап за этапом освобождающейся от власти татарской орды. И символически это становилось ясным, знаменательным, даже для толпы после того, как в одну и ту же роковую годину 1380 г. южные славяне похоронили свою свободу на многоплачевном Коссовом поле, а русские под знаменами велик. князя Димитрия Ивановича (Донского) и с благословением преп. Сергия одержали решительную победу над Мамаем на Куликовом поле. После этого по древнерусскому выражению «Бог изменил Орду», т. е. ослабил ее гнет над Русью, сведя его постепенно на нет.
Но Москва все еще лелеяла в сердце своем крепкую думу о наступающем часе ее высокого призвания и покрывала ее молчанием, пока воистину великая духовная катастрофа не потрясла Москву до глубины души. Произошло нечто невероятное, неожиданное, непостижимое, подобное светопреставлению. Глава и вождь православия, патриарх вселенский вместе с василевсом, а за ним официально и представители других восточных патриархов «пали», приняв унию на Флорентийском соборе 1439 г. А Русская Московская церковь, под водительством своего благоверного вел. князя Василия Васильевича, имела мужество отвергнуть этот вселенский латинский собор, одновременно отвергнуть и свою каноническую зависимость от «падшего» патриарха и сознать себя от сего мистически-искусительного момента законно и праведно преемницей павшего Второго Рима Третьим Римом, уполномоченным соблюсти светоч вселенского православия неомраченным и неповрежденным до второго пришествия Господня. Это был решающий переломный момент в самосознании русской церкви, русской нации и русского государства. Подобно Павлу, томимому внутренним кризисом на Дамасской дороге и как громом сраженному ослепляющим светом Христовым, Россия, т.е. ее высокосознательная верхушка — иерархия, великий князь и мыслители, владеющие пером, вмиг открыли в себе смелость по-новому осознать и оценить себя и свое не просто высокое, но и высочайшее, единственное в мире предназначение, как бы новозаветную, даже эсхатологическую «свободу славы чад Божиих». В миг родилась блестящим фейерверком особая литература об этом внезапном перерождении русского православия из дитяти и ученика «в мужа совершенна», в Новый Царьград, слава и преимущества которого Божиею милостию, за испытанную верность православию, отныне перенеслись и почили на челе верной исповедницы православия церкви русской и ее покровителя, невидимо благодатно уже «боговенчанного царя вселенского православия». Москва стала Третьим Ртом, ее вел. князь — царем всего православия, а русскому митрополиту предстоит украситься «патриаршеским великим чином во времена своя».
* * *
Трудно воздержаться и не процитировать здесь истинные перлы этой русской литературы о Москве — Третьем Риме. Они очень симптоматичны. По ним можно наблюдать, как слагается самосознание великой нации, великой не количественно, а качественно. Израиль маленький народ, а своим религиозным творчеством поставил себя в ряд великих наций. Эллины стали великой нацией не числом, а своей гениальной культурой. Великие по своему духовному калибру нации и предметом своего интереса избирают великие общечеловеческие идеи и инстинктивно ставят себе мировые задачи и претендуют не на заурядные, а на героические достижения. Калибр народа узнается уже по его национальной мечте и претензии. Малому и на ум не приходит мечта о великом. Уже Киевская Русь, как мы видели, потянулась к великой роли под крылом своей духовной матери — Византии. Азиатское завоевание прервало рост и расцвет киевской нации. Но возродившаяся и окрепшая вновь на северо-востоке в областях владимиро-суздальщины древняя Русь, далеко еще не великая ни по своей территории, ни по количеству населения, ни по своей зависимости от татар, вдруг, в роковой момент кризиса православия (XV в.), осознала себя спасительницей и самого православия, а через это и всей вселенной. Так родилось самосознание великого народа, установился высший смысл его существования, накопление сил его государственности и культуры не для простого зоологического потребления и размножения, а ради служения Царству Божию и не самочинно, а по особому избранию Божию.Посольский толмач Дмитрий Герасимов в своей «Повести о белом клобуке» доказывал, что эта святыня потому чудесным образом перешла на Русь, «что ветхий Рим отпаде славы и от веры Христовы гордостию и своею волею; в новом же Риме, еже есть в Коньстяньтине граде насилием агарянским такоже християнская вера погибнет. На третьем же Риме, еже есть на русской земли, благодать Св. Духа воссия, яко», — говорится далее в форме пророчества, изрекаемого папой Сильвестром, — «вся християнская царства приидут в конец и снидутся во едино царство русское православия ради: яко же бо от Рима благодать и слава и честь объята бысть, тако же и от царствующего града благодать Св. Духа отымется в пленение агарянское, и вся святая предана будут от Бога велицей рустей земли во времена своя, и царя русского возвеличит Господь над многими языки и под властью его мнозие царие будут от иноязычных и патриаршеский великий чин от царствующего сего града такожде дан будет рустей земли во времена своя, и страна та наречется светлая Россия. Богу тако изволившу прославити тацеми благодарении русскую землю, исполнити православия величество и честнейшу сотворити паче первых сих». Примечательно здесь возвышение поэтического вдохновения до буквального пророчества за сто лет до появления русского патриаршества. Окончательную и самую сильную формулировку сложившихся в русском обществе высоких представлений о новых теократических правах и обязанностях русского государства и его самодержавных (т. е. независимых от чужой власти) правителей дает учительный старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей в своих посланиях к дьяку Мисюрю Мунехину и вел. князьям Василию III и затем Ивану IV. Церковь православная, как апокалиптическая жена, сначала бежала из старого Рима в новый, «еже есть Констаньтин град, но ни тамо покоя обреть, съединения их ради с латынею на осьмом соборе». «И оттоле Константинопольская церковь разрушися и положися в попрание, яко овощное хранилище». «И паки в Третий Рим бежа, иже есть в новую великую Русию. Се есть пустыня, понеже святыя веры пусти беша, и иже божественнии апостоли в них не проповедаша, но последи всех просветися на них благодать Божия». Судьба церкви тесно связана с судьбою христианских государств: «вся христианская царства потопишася от неверных; токмо единого государя нашего царство едино благодатию Христовою стоит». Стало быть, оно и есть богоизбранное царство — последний сосуд православия до дня наступления вечного царства Божия. «Внимай Господа ради, — обращается Филофей к вел. князю, — яко вся христианская царства снидошася в твое царство: посем чаем царства, ему же несть конца»; или иначе: »вся христианская царства снидошася в твое едино: яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти; твое христианское царство инем не останется».
Отсюда сама собою понятной становится и провиденциально-церковная роль русского великого князя. «Един ты, — пишет наш старец Василию III, — во всей поднебесной христианам царь». «Един есть православный русский великий царь во всей поднебесной, — говорит он в послании к Ивану Васильевичу, — якоже Ной в ковчеге, спасенный от потопа, правя и окормляя Христову церковь и утверждая православную веру». Последним выражением ясно дается знать, что самая существенная функция царской власти — это — защита веры и церкви Христовой; великий князь московский поэтому является «браздодержателем святых Божиих престол, святыя вселенския, соборныя апостольския церкви Пресвятыя Богородицы честного и славного ее Успения, иже вместо костянтинопольския просияла». Вместе с «вселенским» царем на Москве, титул «вселенской» здесь приписывается и символу церкви — Успенскому собору, заменившему «вселенскую» св. Софию, лишенную креста. Другими словами, и русская Церковь есть «вселенская» в смысле главенства и первенства чести «вместо Констянтинопольския».
Ни до, ни после этого не было в истории русского народа момента, когда он взглянул бы на свою судьбу с такой орлиной высоты и так четко определил бы ее смысл. Выражаясь по Гегелю, это был момент «самоопределения его духа». Дух народа, увидев свою сущность, перешагнул из своего детства в свое совершеннолетие и необратимо, незабываемо занял место внутренне, духовно, в преемственном ряду великих народов, вождей истории.
Так произошла встреча и не сливающееся, но и неразделимое соединение России и Православия в их максимальном значении, как соединение духа и плоти, формы и содержания, цели и средства, сосуда и священного елея в нем. Народ, не участвовавший непосредственно в этом литературно-богословском оформлении национального самосознания, в процессе трудно уловимого духовного взаимообщения, совместно с своими интеллигентными верхами, параллельно прочувствовал ту же проблему историософии и дал на нее свой параллельный утверждающий отклик на своем языке. Он назвал себя, свой народ, свою землю, свое государство, свою церковь совокупным именем «Святая Русь». Ни один из христианских народов не дерзнул на это. Но русский народ облюбовал и присвоил себе это имя не из гордыни, а в смиренном значении посвящения себя на служение святости. Как бы крещальное имя, или имя иноческого пострига, напоминающие нам о данных обетах. «Во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Стали «род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел» (I Петр. 2. 9.). До конца XVI в. книжные и литературные люди, мыслившие в категориях Третьего Рима, не пользовались термином Св. Русь. Он пришел к ним из народных недр. Это был одобрительный народный вотум за программу национального подвига, выраженного передовыми его вождями в критическую минуту бытия Руси. Устная народная словесность стала пользоваться им, когда, изживая невзгоды и унижения татарского ига и острее самоопределяясь по инстинкту самосохранения, как особая нация, русский народ опытно пережил и осознал свой святой контраст с нечистой азиатской тьмой, охватившей его. Сознал связь временно утраченной им свободы с верой христианской. С оскорблением отталкиваясь от «поганой» (т. е. языческой – paganus) басурманщины (т. е. мусульманщины), Русь благородство своей свободы и достоинства ощутила в Святом Православии. Облеклась в его святую ризу и запечатлела себя в самом имени своем его святостью.
Итак в самом зарождении своего национального, культурного и государственного самосознания, в самой купели своего крещения и колыбельных пеленах своих Русь обрела в себе православную, а не иную какую душу и нашла в ней откровение своего исторического пути раз навсегда. Собирательная душа наций не фантазия, а реальность. Если индивидуальная душа человека одна на всю жизнь, то и собирательная душа по аналогии с ней — также одна на все тысячелетия исторической жизни и творчества нации. Как глубокая и нормальная индивидуальная душа однолюбива, однобрачна, так и творческие таланты нации раскрываются при условии верности ее первой любви к своему идеалу. Полигамически, легкомысленно, революционно меняющие свои идеалы коллективная национальная душа обезличивает народ, обеспложивает его творчество и просто обращает его в потерявшие смысл своего существования обломки бывшей нации, приводит его к истинной смерти. Исторический опыт не знает ни одной нации, которая прожила бы свои века и тысячелетия так сказать на разные темы, меняя свои души, свои идеалы, свое творчество. Был один пример творческого разрушения. Это — пришествие христианства. И все-таки оно, дав новую душу старым народам, старые национально-государственные оболочки обрекло на распад. Ушла из них старая душа и они естественно отмерли. Умерли античные Рим и Эллада. И их гегемония над старыми народами Передней Азии, Северной Африки унаследована была христианской Византийско-Ромейской Державой.
* * *
Каковы дальнейшие судьбы открытой и осознанной Россией истины, что ее душа — Православие и что все ее материальные и духовные силы посему должны быть направлены в конечном счете на служение Православию? Т. е., чтобы все земное благоустройство, вся государственность, вся культура внутренне ориентировались на цели Царствия Божия, проникались духом Православия, преображались его радиолучами, насколько это преображение пока возможно в «веке сем».Перед этим ответственным вопросом русские мыслители XV и XVI вв. (многоязычный посольский дьяк — Димитрий Герасимов, старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей, митрополит Макарий, сам Грозный, кн. А. Курбский, игумен Артемий) стояли не со слепыми глазами. Они видели, что русское государство и русская церковь технически еще недостаточно оснащена для выполнения свалившихся на их плечи мировых задач. И понятно, что прежде всего возревновали о восполнении внешних символических атрибутов, соответствующих почетному праву России — быть вождем Православия. Нет еще ни царя, ни патриарха, ни высшей богословской школы. Начинается некраткий период публицистической проповеди и дипломатических усилий к созданию этих великодержавных и сакраментальных ценностей. Создалась и особая литература о переходе на Россию царского титула и короны и, наконец, реализовано над Грозным и формальное царское венчание. Параллельно шли мероприятия для восстановления канонического мира с Вселенским Престолом, затем хлопоты об учреждении русского патриаршества, что и было достигнуто в 1587 г. Трудно было не символически, а реально чего-то достичь в области богословского просвещения. Бесшкольность и малограмотность на Св. Руси были вопиющими. На этом труднейшем поле возможны были, ради престижа русской церкви, пока только символические достижения. И этот героический символ создал в половине XVI в. митрополит Макарий в виде его циклопических Четиих-Миней, внешне собравших и наглядно издавших всю накопившуюся за века христианства церковную письменность.
Но всех этих достижений, главным образом внешних, символических, было слишком мало для выполнения русским Православием его вселенской теократической миссии. Самый колосс новосозданной царской власти поставлен был еще на глиняные ноги. Истерическая натура Грозного, террористическими и кровавыми мерами торопившегося закрепить централизованное самодержавие и этим извращавшая его до деспотического абсолютизма, глубоко поколебала налаженные социальные скрепы молодого государства. Пришла так называемая смута. Казалось, Св. Русь кончилась. И она кончилась бы под пятой завоевателей, кольцом сжимавших ее — Швеции, Балтийских немцев, Польши, Турции и даже Персии, если бы... народное, низовое (не говорим уже об интеллигентном) национальное самосознание не отожествлялось с самосознанием православным. Для историков — почти чудо начавшееся государственное восстановление из развалин под лозунгом: «Умрем за веру православную, за дом Пресвятой Богородицы, за гробы святителей московских!». И — восстали, и создали новую династию, и вновь укрепили православное царство. Так на опыте православная душа спасла Россию от физической смерти. И, в лице московских церковных идеологов Россия вновь быстро вознеслась на высоты помыслов о гегемонии во вселенском Православии и даже о кресте на куполе цареградской Св. Софии! Патриарх Никон поторопился устроить в своем подмосковном Воскресенском монастыре храм, назвав его «Новым Иерусалимом», храм с пятью престолами, чтобы совершать литургию, по освобождении Цареграда, соборне всеми пятью патриархами под предстоятельством патриарха московского. Поторопился Никон, ради единства культа с восточными коллегами-патриархами, ускорить правку русских обрядов и церковных текстов применительно к букве новейших греческих богослужебных книг. Поначалу единомышленники Никона, одинаковые энтузиасты идеала Москвы – Третьего Рима, передовые московские протопопы не пошли этим прямолинейным путем. Они сочли, что Никон, а за ним и Царь и Двор и малодушные иерархи предали первенство русского православия в руки испортивших и облатинивших его греков. Очень ценная, полная энтузиазма часть народа пошла за ослепленными таким национализмом вождями. Произошел несчастный раскол в самом центре русского церковно-государственного сознания. По убеждению раскольников, и Третий Рим «пал», а «Четвертому не бывать», наступили последние времена антихриста и вот-вот грянет страшный суд.
Смутное время, приводившее Россию на край гибели, не потрясло так веры в Третий Рим, как потряс этот раскол, эта междоусобица внутри самого Третьего Рима. Соблазняющая мысль о возможности «падения» Третьего Рима умалила его обаяние. Покров смущенного молчания был накинут впредь на эту идею обеими расколовшимися течениями русской церкви. Хвалебные гимны Третьему Риму исчезли со страниц литературы и даже из высокопоставленного языка официальных актов. Открылся путь для великого духовного отступления от теократического идеала Св. Руси.
Роковую роль тут сыграл великий ревнитель теократии, великий по природе умник, но, увы, лишенный необходимой науки, патриарх Никон. Он патриаршие претензии к царской власти аргументировал между прочим подкинутой в русскую письменность в XV в. латинской доктриной двух мечей. Этим искривлением древнерусского, по существу традиционно-византийского идеала, великий Никон, в оболочке своей страстной и путаной тактики сугубо напугал и царя Алексея и восточных иерархов и создал в царской семье передававшуюся с детства Петру Великому традицию отталкивания от теократического духа и мечты о Третьем Риме и от самой патриаршей власти, как таковой.
Но Никон, несмотря на внесенную и им самим идейную путаницу, все же тоньше и дальновиднее всех своих церковных современников (не говоря уже о слепых в этом чужом для них деле восточных иерархов), угадал дух и корень начавшегося отступления вождей России XVII в. (в Уложении царя Алексея 1649 г.) от начал священной теократии. А власть и правящий класс России действительно были захвачены инстинктивно (и еще более чем Никон слепо, бессознательно) светским, мирским вдохновением — наращивать государственную, в частности, военную силу путем усвоения утилитарных прикладных наук и строить не Третий Рим для целей небесных, а град земной, так называемое «общее благо». Без ясного сознания правящий русский класс второй половины XVII ст. пленен был общепринятой в Европе теорией «естественного права» и незаметно ушел из-под власти исконно-теократического мировоззрения и встал на рельсы новой философии. А для последней нет высших ценностей, кроме гуманистических. В материальной и культурной сытости заключается «общее благо», которому и обязано служить государство. Власть государственная абсолютна. Религия, как одна из функций человеческой природы, регулируется и контролируется государством. Это не прежняя теократия, а антропократия, не боговластие, а человековластие, не примат церкви, а примат государства. Соправители царя Алексея и детей его — Федора, Софьи и младшего Петра бессознательно врезались в чуждую Св. Руси философию, не понимая этого. Но Петр сначала чутьем, а затем настойчивым осведомлением вплоть до книжных пособий, которые приказал и перевести на русский, уже сознательно выбрал светскую философию права и, найдя нужных людей и пособников, не без осторожности и выжидания, произвел революцию сверху. Сломал канонический строй высшего управления русской церковью, упразднил патриаршество и в форме новоучрежденной Духовной Коллегии, наименованной Святейшим Синодом подчинил церковь государству по протестантскому образцу. Начался 200-летний Императорский период жизни русской Церкви, основные законы которого опирались и молчаливо и явно, по букве, на «естественное право» и на западную теорию «просвещенного абсолютизма».
* * *
Упразднены ли, забыты ли были во время этого длительного отступления исконные начала византийской теократии, идея Св. Руси и третьего Рима? Официально и формально — да, фактически — нет. Природа, выгнанная в дверь, силой инерции влилась опять в окно. Что касается, например, Св. Синода, то, подводя итог его внешней и особенно внутренней эволюции, премудрый Филарет со свойственным ему дипломатическим изяществом сказал, что Петр Великий идею Духовной Коллегии «у протестанта взял, но... Промысл Божий и дух церковный обратили ее в Святейший Синод». Неканоническое по принципу учреждение, но ставшее формально каноническим по утверждении его восточными патриархами, и фактически жило и действовало — «по духу» православного сознания русских иерархов, как если бы оно было каноническим синодом при каноническом патриархе. Тут нет математического знака равенства, и лишь утверждается фактический «духовный корректив» к неканонической «плоти» учреждения.Что касается превращения православного царя в светского монарха, то для церкви и иерархии императоры по-прежнему остались теми же боговенчанными царями, помазуемыми св. миром на свое специальное служение в Церкви по произнесении ими прежней присяги на верность православию. А если почитать коронационные проповеди наших выдающихся витий, как Платон и Филарет Московские, то в них с особым пафосом изображаются благодатные дары, достоинства и долг служения царей православных, как если бы ничего не случилось в смысле измены традиционному духу православия. Если иерархию можно заподозрить в словесном ритуализме, то самих носителей русской короны, кроме революционера Петра, нельзя упрекнуть ни в удалении от православия, как веры всенародной, праотеческой, любимой, ни в небрежении по отношению к интересам церкви. Лично они сознавали себя верными и покорными сынами своей церкви, по царскому долгу обязанными быть ее защитниками и благотворителями. В заботах о вселенском православии по-прежнему были попечителями святых мест, благотворителями из государственной казны бедным и утесняемым православным грекам, арабам, славянам. Задача освобождения находящихся под игом Ислама христианских народов была с усилением империи, еще более заметным пунктом международно-государственной программы России. Русское воинство, хотя и одетое в европейские рейтузы, кивера и парики, всегда подчеркнуто сознавало себя святорусским «христолюбивым воинством»; да по народной, крепко-православной психологии оно и не могло быть иным. Внешние изменения государственного быта и европеизм правящих верхов не задели еще толщи народной. Там залегли еще глубокие пласты старого теократического сознания. Они-то и питали героической стойкостью силы народа, долготерпеливо вынесшего тяжесть построения великой империи, внешне как бы эмансипированной от целей религиозных, а внутренне только на них и державшейся. Иллюстрацией синтеза европеизированной политики и внутреннего православия императорской России может служить фельдмаршал А. В. Суворов, в напудренном парике и треуголке в атласном петушином камзольчике, в чулках и башмаках с пряжками и, как старец с неумолкнувшим именем Божиим на устах, с Часословом и Псалтирью на ночном столике и с дьячковским чтением и пением на деревенском клиросе. Императоры и императрицы в менее яркой и талантливой форме были такими же в смысле стиля как бы двуликими существами, обращенными к Европе и внешнему миру лицом культурно- интернациональным, а к своей церкви и народу лицом традиционного теократического царя вселенского православия, над которым не переставало открыто реять ромео-византийское знамя двуглавого орла с мечтой о кресте на куполе Св. Софии. Не умножаем здесь ради экономии места иллюстраций православного лика наших императоров. Это — общеизвестно. Невзирая на брачную связь с протестантским Курляндским Домом, Анна Ивановна была обрядово-усердной старомосковской боярыней. Елизавета ездила с бала прямо к заутрени. Чужестранка по воспитанию, вольнодумная, но умная Екатерина II считала своим царским долгом следовать православному уставу, ездила по монастырям, на открытие мощей, пешком ходила в Троице-Сергиеву Лавру. Павел I был теократ до границ безумия. Александр I — пример напряженного мистического благочестия. И так все императоры вплоть до благочестивого и богомольного Николая вопреки неправославному Петровскому Духовному Регламенту и неправославной букве Основных Законов, субъективно, по подспудной тысячелетней традиции, оставались носителями заветов русского и вселенского Православия. Перефразируя слова Филарета, можно было бы сказать: Петр сокрушил религиозный лик русского царя и переделал его на лик утилитарного диктатора, «но Промысл Божий и дух церковный» обратили этого нового диктатора, выражаясь словами Основных Законов, в «Благочестивейшего блюстителя православных догматов и всякого в церкви святой благочиния».
Так за 200 истекших лет Императорского Периода Россия продержалась на прежнем духовном внутреннем союзе государственного тела с православной душой, единственно понятной и душе народной массы. Но воздействие православной души на тело было поколеблено, ослаблено и затуманено в русском сознании подавлявшими его диссонансами и дисгармонией с иноприродными по духу Основными Законами, вытекавшими из Идей секулярного внерелигиозного абсолютизма. Эту светскую государственность мощно поддержало эмансипированное от религии общее просвещение и его огромная активная армия — русская интеллигенция. Народ поддался духовной стерилизации и с примитивной резкостью и грубостью усвоил соблазнительные для примитивов пропагандные псевдоистины: «все зло в старых устоях, в царе и церкви, в установившихся классовых разделениях. Спасение — в замене всего до основания народоправием и уравнительным переделом». Померкло, затмилось на время сознание православной души России, и Россия провалилась в черную бездну большевистского ада...
* * *
О чем же свидетельствует эта картина ослабления первоначально светившей России ее путеводной звезды — Православия и, наконец, ее как будто полного угасания? Не было ли все наше прошлое просто детством, полным сказочных фантазий? И лишь теперешняя горькая действительность есть пора нашего культурного и умственного возмужания, вынуждающая нас трезво ускромниться, смириться и со стыдом отодвинуть в сторону нашу наивную «манию величия», великодержавные претензии и тем более наши мечты о какой-то всемирной и даже сверхземной миссии?Это вопрос не только наш — русский, а вопрос мировой, общечеловеческий. Не со вчерашнего дня передовое, ведущее человечество, а именно человечество христианское врезалось в новый духовно мучительный период потери религиозной веры, отступления от всех ее догматов и жизни по инстинктивным влечениям ради ближайших бесспорных, как хлеб насущный, достижений. Жизнь гордого своим разумом, наукой и техникой человечества. Но жизнь по существу бессмысленная, ибо без разумной причины, без разумной цели. Просто голый факт, неустранимый фатум. Это — ниже уровня жизни животного мира. Животный мир, без критерия самопознания и самокритики, живет по инстинктам по-своему правильно и праведно, следуя законам смутно ведомого ему Творца. Отступник же человек, пользуясь богоподобным орудием познания, свободы и творчества, но озлобленный богоненавистничеством, коверкает материалы, силы и законы природы, создавая вместо обещаемого им рая ад на земле. Если новое, эмансипированное от религии человечество желает и впредь отвязаться от надоевшего ему строительства Царства Божия, Града Христова, то фатально оно обречено строить град диавола, антибога, антихриста. И в СССР оно уже дало блестящую иллюстрацию, к чему ведет будто бы только внерелигиозное, только агностическое культурное строительство. И это сатанинское столпотворение — увы — до какого-то предела удается, укрепляется, вооружается до зубов и угрожает всему миру и соблазняет наиболее отступнические народы. Но гордое своей безрелигиозной «просвещенностью» человечество, неспособно оценить всей ядовитости для него — именно поскольку оно само безрелигиозно — соблазна царства сатаны, засевшего в крепость СССР. Опасность грандиозна в мировом масштабе. Для нас остается тайной воля Провидения: доколе Господь попустит преуспеяние антихристовых завоеваний? Для нас ясен только долг наш — быть до конца активными воинами Христа. Мы не имеем права быть пассивными созерцателями завоеваний антихриста. А для этого мы чем-то должны питать и нашу веру, и нашу надежду.
Во-первых, в самой временной резиденции антихристовых слуг, в оскверненном кровавыми пятиконечными звездами Кремле не все обстоит благополучно. Обнадеживающий симптом неистребимости веры православной в русской народной массе заключается еще в том, что кремлевские властители в горькую минуту вынуждены были, во имя собственного шкурного спасения, признать свободу проконтролированных культов, включая и русскую православную церковь, под условием оскопления ее народно-учительных, общественно-воспитательных, вообще миссионерских в широком смысле функций. В оскопленном виде, как жалкая карикатура на полное, свободное, а стало быть и теократическое православие, современная русская иерархия обращена пока на службу коммунизму, и, как аппарат духовного укрощения угнетенных масс, и как орудие международной псевдо-пацифистской пропаганды. Но... все-таки этот кошмарный маскарад православия есть факт, не дающий спокойно спать господам над бескрестным Кремлем. Это напоминание о наличности неостывшей подземной клокочущей лавы, могущей взорвать и перевернуть все. И это относится не только к религии, но и ко всей человеческой природе, искаженной и закованной в кандалы противоестественной доктриной и тиранией коммунизма. Вся свободная природа человека страждет, клокочет, томится жаждой освобождения и... вся взорвется, возвращаясь к самой себе через какую придется катастрофу. Во всяком случае, через переворот по существу революционный. Мирная эволюция тут исключена, как исключен компромисс между раем и адом, где непереходимая «пропасть велика утвердися» (Лук. 16:26). И это — опять повторяем — проблема не наша только, частная, русская, а проблема всемирная. Всем народам придется на нее ответить решительно и окончательно. И не словами, а делами. Вопрос идет о «быть или не быть», о жизни или смерти всего периода христианской цивилизации, хотя бы и опресневшей и себя ослабившей примирением с безбожием. Вопрос идет не о данном, а о должном, не о том, что случилось и что есть, а что должно быть и что мы должны делать, несмотря ни на что. Стало быть, это вопрос нашей веры и верности слову Христову. А Он сказал: «Сын Человеческий, прийдя, обрящет ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Открыто это нам не для отчаяния и фатализма, как программа неизбежной гибели, а как призыв к спасению через веру и верность, хотя бы и немногих, «претерпевших до конца» (Мрк. 13:13. Мф. 24:13). Предположим, что мы уже вдвинуты в эсхатологические времена, и безверие все время crescendo расширяется, а вера идет на умаление. Тем более тревожно мы призываемся к крепчайшему стоянию со знаменем Христовым даже в ариергардных боях. Но это крайнее, необязательное предположение. Нам не открыты «времена и сроки», и мы обязаны вести себя активно, как воины Христовы в длящемся историческом процессе. Цели «воинствующей Церкви» на земле остаются прежними, независимо от исторических перемен. И раз «избранные» органы строительства царства Божия, как Россия, если они не отступили тотально, остаются на своих духовных местах. Вот глубинный смысл пророческого стиха Тютчева: «В Россию можно только верить». Т. е. несмотря на колебания, измены, разрухи, извращения, уничижения России в нынешнем ее безымянном, неузнаваемом виде, она для очей веры продолжает существовать как неотменяемо призванная быть «Святой Русью», державной хранительницей Святого Православия до второго пришествия.
Как же сочетать нашу красивую «веру в Россию» с ужасающе безобразной действительностью? Наше теперешнее физическое бессилие с силой торжествующего зла? А главное, как реально, фактически, конкретно действовать, как и чем служить нашей вечной Святой Руси «в роде сем прелюбодейнем и грешнем», т. е. среди исковерканной коммунизмом и — признаемся — духовно отвратительной для нас плоти теперешней России? Если главный тезис нашей программы — Святая Русь, то как мы собираемся бороться за него в настоящем положении в злободневной политике, столь далекой от него? Каковы наши методы, какова тактика? Может показаться людям безрелигиозным, что мы собираемся строить из ничего, на голом поле что-то донкихотски-фантастическое, даже не серьезное? Кто — мы? Импотентные романтики привидений прошлого, или опасные и вредные «реакционеры»? Все эти вопросы далеко не праздные и в разветвлениях своих очень жизненные, интересные. Легко сказать «Святая Русь», но как ее сделать? Тут тысячи конкретных вопросов и на них должны быть даны тысячи ясных ответов. И, конечно, даже при единстве программного идеала, неизбежны методологические тактические расхождения. Словом, за общим нашим программным утверждением по категории «что?» ( «Православная Россия») следует категория «как?». Как теперь нам строить Св. Русь на развалинах и при уроках прошлого? Это предмет особого исследования и не столь краткого, ибо полемического и инструкционно-детального. Но чтобы отвести от себя ряд подозрений и элементарных недоразумений, в заключение считаем полезным сделать ряд оговорок и просто заявлений.
А. Подымая знамя Православной России и воздавая ей подобающую честь за ее достижения в прошлом, мы не считаем ни обязательным, ни мудрым брать на себя неблагодарную и утопическую роль реставраторов. «Все течет» говорила древнеэллинская философия, т. е. история есть непрестанное движение, эволюционное изменение. Живое начало, управляющее каждой связной цепью явлений, не разрушается переменой их оболочки. Наоборот, оно в этих феноменах воплощается, закрепляется, живет. По французской поговорке, «чем более изменяется, тем более остается той же самой вещью». В преобладающем количестве случаев закономерные феноменологические изменения свидетельствуют о росте и совершенствовании данного явления, иногда о цикле: — зарождения, расцвета, увядания, смерти. Суть явления, примат его в его живом, творческом, производящем начале, а не в его формах, оболочках, имеющих второстепенное значение. Таков, например, вопрос о форме правления в нормальной Православной России. Исторически, мы имели его, начиная с Ромейско-Византийской Державы, в форме монархии, и при том миропомазанной и включенной формально в каноническую систему внешнего управления делами церкви. Это не было захватом силы внешней для церкви, а видом служения внутри самой церкви. И для богословского разумения связи церкви с государством, по аналогии связи души с телом, это была самая естественная и нормальная форма, ибо она воплощалась в живой личности, в личной совести и личной ответственности перед Богом. Для церкви василевс-царь был преданным сыном, по долгу присяги хранителем православия, живой личной христианской совестью, на которую церковь имела право духовнически влиять, в которую, как в сосуд, для того и предназначенный, она могла вкладывать благодать своих таинств. Как церковь могла бы реализовать благодатную связь не с единоличной, а с коллективной властью? Как миропомазать разноверный сенат или все время сдуваемый политическими ветрами, как осенние листья с деревьев, летучий состав министерств, и тоже разноверных и просто антирелигиозных? Кроме библейского закала мысли и бездумного традиционализма, надо же серьезно понять тяготение иерархии к монархическому строю в христианском государстве. Начисто отбрасываем при этом пошлый аргумент ничего не смыслящих в делах религиозного сознания позитивистов, будто все тут объясняется классовыми вожделениями об утраченных привилегиях. Сила и правда церкви не в приражении к ней греха в виде классовой лености и корысти, охотно замечаемой глазами врагов, а в неведомой врагам неистребимой силе апостольства. Даже лишенные своего прежнего блеска, сосланные на Соловки, иерархи босыми пошли и всегда пойдут по пути Апостолов. Церковь родилась в гонениях, окрепла в гонениях и до сих пор мужает в гонениях и никогда не умрет, а воскреснет от гонений. Воочию видно, как врата адовы ее не одолеют. Она победила СССР-ию и прямым мученичеством и катакомбным своим ликом. Победила в некотором смысле даже и своим рабьим уничижением, показала ее неистребимость!
Итак, с крушением монархии и искажением всего лика России подвиг церкви, как души России, продолжается. Он только требует глубокой перестройки системы и методов отношения Православия к формально расправославленному государству и народу. Старых форм просто уже нет. Нужно думать о новых и быть готовыми и способными — создать их.
Б. Мужественно считаясь с фактом безвозвратного крушения старого строя и смотря в будущее через голову противоестественного большевистского строя, хотя он и длится уже 35 лет, нужно предвидеть и заранее подготовить церковное сознание не к краткому периоду исканий и опытов строя нового, чтобы церкви всегда занимать достойную позицию. Не раболепную и безгласную, а свободную и принципиально героическую. Церковь знает куда вести человечество. Ей нельзя идти в хвосте за политическими и культурными «искателями». Но церкви чуждо и насилие. Нельзя палкой загонять в ограду церковную. Отсюда вытекает ее внутренний долг долготерпения и приспособления к обстоятельствам. Это не значит, что православие отказывается от своего идеала, от своей канонической нормы — симфонии церкви и государства. Церкви не свойственна такая изменчивость, такой релятивизм. Мы, православные, не суетливые «искатели», мечущиеся из стороны в сторону. Мы — нашедшие, и верно хранящие найденное сокровище, т. е. буквально — консерваторы «идеала симфонии». Нас сейчас же освищут и реакционерами и реставраторами люди, у которых у самих нет ничего святого в прошлом и которые с легкостью заполняют эту пустоту какими угодно призраками будущего. Вообще христиане обречены на поношение со стороны неверующего большинства. И не ради объяснений пред ним, а в своей собственной среде православной, мы начисто отрицаем применение к себе этих укоров-ругательств. Реставрации мы считаем противоисторичными, нереальными, фантастичными, а потому и реакционный активизм считаем неразумной донкихотской борьбой с мельницами. Но мы думаем, что наш консерватизм открывает перед нами перспективы и надежды, глубоко отличные от безграничного революционизма и новаторства. Безрелигиозные политические и социальные новаторы считаются только с «телом» России. «Души» России для них нет. Они несутся «без руля и без ветрил». У нас есть и руль и ветрила и — якорь спасения. Мы на нем стоим, переживая штормы истории. Мы знаем православную душу России, и мы приложим все наши честные старания высвободить эту душу из подполья, в какое загоняют ее безрелигиозные режимы с тем, чтобы она, потеряв свое старое внешнее оформление или воплощение, нашла себе новое и по возможности полное, или во всяком случае при всех режимных вариантах проникала бы их хотя частично своими радиолучами.
Таким образом, не имея права поступаться своими догматами, нормами и идеалами, православие в эти искусительные исторические времена своего внешнего умаления должно быть готово к ряду больших не принципиальных, а только тактических «вычитаний» из своей полноты. Мы уже указали на один, бросающийся каждому в глаза пункт. Не стало у православия царя, миропомазанного защитника. Может быть долго не будет. А может быть и совсем не будет. Какое православное сердце не оплачет эту незаменимую потерю! И какое не обрадуется, если бы неведомыми судьбами Промысла, этот слуга церкви вновь был поставлен на прежнее место его теократического служения! Во всяком случае, нам не по пути с политиками, садистически забивающими осиновые колы в могилу православного царства. Но историческая плоть смертна. Лишь само Православие бессмертно и переживает все вычитания из исторических форм его воплощения.
В. Одно из этих безвозвратных «вычитаний» касается привилегии православия — быть «господствующим исповеданием» в государстве. Настолько эта привилегия, естественная в период первоначального созидания России, устарела к нашему времени и обратилась силою вещей из полезной во вредную для морального престижа православия, что даже при наличности самодержавия, когда поставлен был вопрос о подготовке к реформам в церкви и подготовке к собору, сама иерархия во главе со Св. Синодом просила изменить и переформулировать правовое положение православной церкви в родном государстве из положения «господствующего» только в «первенствующее». Как вере исторического большинства народонаселения России, ей это первенство принадлежит даже на объективном арифметическом основании, а не как привилегия. В этом смысле был подготовлен и законопроект новой конституции собором 1917—18 гг.
Г. Мотивы, которые толкали русскую церковь отказаться от privilegium odiosum «господства», были мотивы миссионерские. В новом государстве, по элементарному закону равной для всех религий и культов свободы, православию свое наследственно-историческое первенство в России можно отстоять только в постоянной, неусыпающей конкуренции с какой-то и для кого-то привлекательностью других вероисповеданий, не преувеличивая до трагизма никаких отдельных групповых, тем более индивидуальных, отступничеств. В наше время приходится ценить какую бы то ни было религиозность положительнее, чем равнодушие, которое становится легкой жертвой воинствующего безбожия.
Д. Последняя наша оговорка относится к вопросу о православии в многонационально-федеративной России. Как и скоро ли разрешится вопрос о национальных свободах в послебольшевистской России, предсказывать не беремся, но нам, православным, необходимо продумать отношение нашей веры в единство и единственность православной души России к характерному для русского политического организма его многоплеменной ткани. Большевистский опыт вздыбил очень глубокие пласты плоти России с целью разложения старого государства. Он декларировал всем без различия национальностям право так называемого «самоопределения вплоть до отделения». Игра в федерацию — «союз советских социалистических республик» поставлена, и из жизни неустранима. Ложь ее должна быть отброшена, а правда должна быть очищена и выправлена. Любая демократическая конституция признает право национальностей на культурное самоопределение, т. е. на свободу языка в церкви, в школе, в местном суде и администрации. Но вопрос о привилегии политической автономии или даже федеративной полунезависимости уже должен базироваться не на элементарных, природных свободах, а на основаниях иного, историко-политического порядка. Ибо нет такой естественной, прирожденной потребности, чтобы каждая национальность, отличная от другой по языку или только диалекту, нуждалась бы в особом, сепаратном государстве и имела бы на него право. Как в природе разные роды и виды животного мира, с вариантами по климатическим поясам, живут совместно на одном пространстве, так и человеческие общежития, выросшие из племенного быта и ставшие государствами, по своей высшей задаче объединения в единый высший организм — политический естественно должны охранять и развивать достигнутую ступень эволюции от элементарного к сложному, а не разламывать усовершенствованное целое на составные части. Это — ретроградство, поворот культуры к примитивизму, к одичанию. Уроки исторического опыта неотразимо ярки. Собирание простейших и племенных организмов в великие тела империй всегда было средством и спутником высших достижений для общей культуры человечества. По закону превосходства великого над малым и все части, входящие в состав великого целого, именуемого Россией, только выигрывают в мощной защите их свободы, получая все блага и преимущества pax Russica. Конечно, повторяю, система культурно-национальных свобод, местных и областных самоуправлений и автономий должна быть не в большевистско-карикатурной видимости (при полном рабстве и безличии), а реально, честно и твердо обеспечена основными законами. Тогда люди местного национального вдохновения могут спокойно и удовлетворенно работать на благоденствие своей области, своего народа. Именно из лагеря сепаратистов несется проклятие империям за их милитаризм, а их маленькие государства будто бы ведут к миру. Или это грубейшая попытка обмана или не свидетельствующий о государственном уме — самообман. Именно размножение-то мелких тел без единого купола и есть пекло непрестанных пограничных столкновений, требующих от небольшого числа налогоплательщиков непосильной потогонной кабалы для производства непосильных орудий — защиты от соседа и нападения на него. Кто знаменоносец так называемого «ада милитаризма» — «империалисты» или сепаратисты»?
Следовательно, практический вывод, вытекающий из этих простейших бесспорных предпосылок, сводится к тому, что нормальное и счастливое разрешение вопроса о национальностях в России должно быть, как и логика и законы естества того требуют, в совмещении разнообразия с единством и единства с разнообразием. Другими словами, conditio sine qua non — решения задачи это — азбучный догмат единства России, а «прочая вся приложатся», Тогда бессмертная душа России временно находящаяся как бы в анабиозе, из своего радиоцентра вновь осветит и осмыслит обновленное после катастроф, болезней и операций тело России. Свободное православие, стоящее на своих собственных ногах, наряду с другими верами, своей внутренней силой вновь вернет России, как собирательному имперскому и культурному целому, свою печать, свой лик, свою икону, — икону Св. Руси.
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).