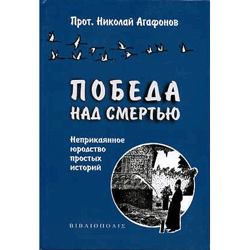ПРОПОВЕДЬ ЗА ЦЕРКОВНОЙ ОГРАДОЙ
Беседуя со священниками, всегда радостно изумляюсь их совершенно иному взгляду на окружающий мир. Бывало, скажешь о какой-нибудь проблеме, а батюшка вдруг так повернет разговор или заговорит, казалось бы, даже о другом, что вся твоя проблема неожиданно предстает в совершенно ином свете, становится яснее, понятнее, а то и вовсе перестает проблемой быть.
Все-таки предстоящих пред Богом в алтаре освещает особый Свет. Да батюшки наши и живут-то в ином измерении, вернее сказать, на грани измерений. Вот здесь, в алтаре, — соприкосновение с Вечностью, а вот за вратами храма начинается мир, кипящий и бурлящий своими кратковременными страстями.
И мне как писателю по мирскому, видимо, недомыслию хотелось, чтобы священники запечатлели это свое иное видение мира на бумаге. Уж больно многое открывается после их бесхитростных бесед. А мне говорят: «Что нам писать, читай вон Тихона Задонского».
Конечно, соглашаюсь я, духовных писателей читать надо, но, как кажется порой, не хватает сейчас слова для нынешней обмирщенной паствы, которая уже и язык-то Тихона Задонского с трудом понимает!
Да и в храм не каждый зайдет. Может, просит душа, да слишком тернием многое заросло.
Я даже апостола Павла вспоминал, когда он обращался к афинянам в ареопаге и говорил на их языке, хваля за «жертвенник, на котором написано «неведомому Богу»: «Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17, 23).
Апостол Павел снисходил до язычников и рассказывал им о Христе на понятном для них языке. Конечно, это не был Божественный язык, который доводилось слышать Павлу, будучи восхищенным на Небо, но его искренность, истинность и в то же время простота и доступность приводили к тому, что многие уверовали.
Вот и мне мнилось, что священникам надо выйти на паперть и проповедовать просто и искренне, как апостол Павел, нашему вновь впадающему в язычество народу.
И тут я услышал песни иеромонаха Романа и подумал: вот оно. Потом прочитал великолепные рассказы отца Ярослава Шилова. Стали появляться и другие хорошие произведения наших батюшек. В Самаре, пожалуй, много для такой проповеди делает протоиерей Евгений Шестун.
Но я также понял, что не каждому священнослужителю дан дар проповеди людям, находящимся вне церковной ограды.
А тут совсем недавно, весной 2002 г., на площади Славы в Самаре в первую очередь молитвами и трудами архиепископа Сергия открылся храм святому Георгию Победоносцу и сразу стал не просто символом города, но для многих — вратами в церковную жизнь.
Площадь Славы — одно из самых красивых и любимых мест горожан. Сюда обязательно заезжают свадебные кортежи, здесь отмечают свои праздники ветераны, считает долгом побывать здесь каждая экскурсия гостей, сюда ходят гулять родители с детишками, здесь рядом Дума и губернатор. Вот в каком значимом месте укоренился храм.
И хоть тернии многое заглушили в душах, но вот заходят люди в храм — и то светлое, что есть в каждом человеке, обязательно отзывается. Потом заходят еще и еще. Так, порой даже незаметно для самого человека, происходит его воцерковление. И опять же мудростью Владыки Сергия да Промыслом Божиим исполняющим обязанности настоятеля этого, можно сказать, форпоста Православия в Самаре является протоиерей Николай Агафонов. Отец Николай как раз и обладает даром проповеди, о которой я писал ранее.
Родился Николай Агафонов в 1955 г. в семье инженера. Поиск смысла жизни привел его в лоно Русской Православной Церкви. После службы в армии поступил в Московскую Духовную семинарию. Став священником, служил на приходах Куйбышевской, Пензенской и Саратовской епархий. По окончании Санкт-Петербургской Духовной академии Священным Синодом был назначен ректором Саратовской Духовной семинарии.
В 1998 г., будучи заведующим миссионерским отделом Волгоградской епархии, разработал идею «Храм приходит к людям» и воплотил ее в жизнь, построив плавучую церковь «Святитель Иннокентий», которая вот уже пять лет ходит по реке Дон.
В 1993 г. Патриархом Алексием II за труды по возрождению Саратовской Духовной семинарии удостоен права ношения наперсного креста с украшениями, а в 1999 г. за миссионерскую деятельность награжден орденом Святителя Иннокентия 111 степени.
Таков пастырский «послужной список» протоиерея Николая. Но мне хотелось сейчас сказать о другом: о его писательстве.
Перед нами больше житейские были, чем разукрашенные разными хитросплетениями новомодные вещи. Проза отца Николая Агафонова — это в первую очередь свидетельство эпохи. Правдивое, искреннее и вместе с тем обладающее именно тем иным взглядом «из алтаря», который могут иметь только священнослужители.
Это, в первую очередь, и делает его прозу исключительно полезной, а главное — нравственной. В его рассказах нет прямых проповеднических назиданий, но навсегда запоминаются добродушный отец Федор, озорной от радости открывающемуся миру отец Никита и, конечно, великолепный образ Владыки Пимена, да и многие другие. Но отец Николай не только показывает нам людей, которые вольно-невольно вселяют веру в добро, в любовь и в Бога, он еще точно передает дух эпохи: это и гибельные 20-е годы, это и давшие надежду 80-90-е, это и нынешнее, еще не совсем осознанное время.
Написав «еще не совсем осознанное», я тут же поймал себя на мысли, которую высказал в начале, что у священника-то совершенно иной взгляд на мир. И многим прочитавшим эту книгу, может, станет понятнее, что же наше время сегодня.
Искренне благодарен протоиерею Николаю Агафонову, что он дерзнул вынести свои произведения на суд мирского читателя. Почему «дерзнул»? Да потому, что мир будет особенно строг к священнику. Мир порой так и хочет уловить на какой-нибудь пусть малой оплошности. Но я уверен, что книга отца Николая такого повода не даст.
А еще — низкий поклон издательству при храме преподобного Сергия Радонежского, настоятелем которого является протоиерей Евгений Шестун, за выпуск этой книги.
Дай Бог автору и издателям и дальше крепости духа за то, что они несут в мир Свет Истины.
Александр Громов, член Союза писателей России
ОТ АВТОРА
Если бы меня спросили, почему я пишу художественные рассказы, я бы ответил: потому что не могу не писать. Сколько себя помню — всегда что-нибудь писал и сочинял. Естественно, все написанное предназначалось для домашних и узкого круга друзей как некое развлечение.
Выходом сборника моих рассказов на широкий суд читателей я обязан двум людям. Прежде всего нашему Владыке — архиепископу Сергию, который, прочитав мои рассказы в рукописях, просто сказал: «Отец Николай, тебе надо печататься». То же самое я услышал от протоиерея Евгения Шестуна, который взял на себя труд по изданию этого сборника. Низкий им за это поклон и благодарность.
Не могу не сказать о влиянии на мое творчество игумена Серафима (Глушакова). Написанием рассказов «Красное крещение» и «Друзья» я обязан его поддержке и дружеским советам.
Протоиереи Николай Агафонов
ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ (некриминальная история)
Нет больше той любви, как, если кто положит душу свою за друзей своих.
Евангелие от Иоанна (15, 13)И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, — скажет, — и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! Почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…».
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»Было уже десять часов вечера, когда в епархиальном управлении раздался резкий звонок. И только что прилегший отдохнуть Степан Семенович, ночной сторож, недовольно ворча: «Кого это нелегкая носит», — шаркая стоптанными домашними тапочками, поплелся к двери. Даже не спрашивая, кто звонит, он раздраженно крикнул, остановившись перед дверью:
— Здесь никого нет, приходите завтра утром. Но за дверью бесстрастный голос ответил:
— Срочная телеграмма, примите и распишитесь. Получив телеграмму, сторож принес ее в свою каморку, включил настольную лампу и, нацепив очки, стал читать: «27 июля 1979 года протоиерей Федор Миролюбов трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, ждем дальнейших указаний. Церковный совет Никольской церкви села Бузихина».
— Царство Небесное рабу Божьему отцу Федору, — сочувственно произнес Степан Семенович и еще раз перечитал телеграмму вслух. Смущала формулировка: «погиб при исполнении…». Это совершенно не клеилось со священническим чином.
«Ну, там, милиционер или пожарный, в крайнем случае, сторож, не приведи, конечно, Господи, — это еще понятно, но отец Федор?» — пожал в недоумении плечами Степан Семенович.
Отца Федора он знал хорошо, когда тот еще служил в кафедральном соборе. Батюшка отличался от прочих клириков собора отзывчивым сердцем и простотой в общении, за что и был любим прихожанами. Десять лет назад у отца Федора случилось большое горе в семье — убит был его единственный сын Сергей. Произошел этот случай, когда Сергей шел домой порадовать родителей выдержанным экзаменом в медицинский институт. Хотя отец Федор мечтал, что сын будет учиться в семинарии.
— Но раз выбрал путь не духовного, а телесного врача, все равно дай ему Бог счастья… Меня будет на старости лечить, — говорил отец Федор Степану Семеновичу, когда они сидели за чаем в сторожке собора. Там-то их и застала эта страшная весть.
По дороге из института увидел Сергей, как четверо парней избивают пятого прямо рядом с остановкой автобуса. Женщины криками пытались урезонить хулиганов, но те, не обращая внимания, уже лежащего молотили ногами. Мужчины, стоящие на остановке, стыдливо отворачивались. Сергей, не раздумывая, кинулся на выручку. Кто его потом ножом пырнул, следствие только через месяц разобралось. Да что от этого проку, сына отцу Федору уже никто вернуть не мог.
Сорок дней после смерти сына отец Федор служил каждый день заупокойные обедни и панихиды. А как сорок дней прошло, стали частенько замечать отца Федора во хмелю. Бывало, и к службе приходил нетрезвым. Но старались не укорять, понимая его состояние, сочувствовали ему. Однако со временем это становилось делать все труднее. Архиерей несколько раз даже переводил его на должность псаломщика для исправления. Но один случай заставил Владыку пойти на крайние меры и уволить отца Федора за штат.
Как-то, получив месячную зарплату, отец Федор зашел в рюмочную, что находилась недалеко от собора. Завсегдатаи этого заведения относились к батюшке почтительно, ибо по своей доброте он часто потчевал их за свой счет. В этот раз была годовщина смерти сына, и отец Федор, кинув на прилавок всю зарплату, приказал угощать всех, кто пожелает, весь вечер. Буря восторгов, поднявшаяся в распивочной, вылилась в конце пьянки в торжественную, процессию. С соседней строительной площадки были принесены носилки, на них водрузили отца Федора и, объявив его «Великим Папой Рюмочной», понесли через весь квартал домой. После этого случая отец Федор и угодил за штат. Два года он был без служения — до назначения его на Бузихинский приход.
Степан Семенович в третий раз перечитал телеграмму и, повздыхав, стал набирать номер домашнего телефона Владыки. Трубку поднял келейник Владыки Слава.
— Его Высокопреосвященство занят, зачитайте мне телеграмму, я запишу, потом передам.
Содержание телеграммы Славу озадачило не меньше, чем сторожа. Он стал размышлять: «Трагически погибнуть в наше время — пара пустяков, что весьма часто и происходит. Вот, например, в прошлом году погибли в автомобильной катастрофе протодиакон с женой. Но при чем здесь служебные обязанности? Что может произойти во время богослужения? Наверное, эти бузихинцы что-то напутали».
Слава был родом из тех мест и село Бузихино знал хорошо. Оно было знаменито строптивым характером сельчан. С необузданным нравом бузихинцев пришлось столкнуться и архиерею. Бузихинский приход доставлял ему хлопот более, чем все остальные приходы епархии вместе взятые. Какого бы священника к ним архиерей ни назначал, долго тот там не задерживался. Прослужит год, ну, от силы другой — и начинаются жалобы, письма, угрозы. Никто на бузихинцев угодить не мог. Одно время за год три настоятеля пришлось сменить. Рассердился архиерей — вообще два месяца к ним никого не назначал. Бузихинцы эти два месяца, как беспоповцы, сами читают и поют в церкви. Только от этого мало утешения: обедню-то без батюшки не отслужишь. Стали просить священника. Архиерей говорит им:
— Нет у меня для вас священника, к вам на приход уже никто не желает ехать…
Но те не отступают, просят, умоляют:
— Хоть кого-нибудь, хоть на время, а то Пасха приближается! Как в такой великий праздник без батюшки? Грех.
Смилостивился над ними архиерей, вызвал к себе бывшего в то время за штатом протоиерея Федора Миролюбова и говорит ему: «Даю тебе, отец Федор, последний шанс для исправления, назначаю настоятелем в Бузихино. Продержишься там три года — все прощу».
Отец Федор от радости в ноги архиерею поклонился и, побожившись, что уже месяц, как в рот не берет ни грамма, довольный поехал к месту своего назначения.
Проходит месяц, полгода, год. Никто к архиерею жалобы не шлет. Это радует его Высокопреосвященство, но в то же время и беспокоит: странно, что жалоб нет. Посылает благочинного отца Леонида Звякина узнать, как обстоят дела. Отец Леонид съездил, докладывает:
— Все в порядке, прихожане довольны, церковный совет доволен, отец Федор тоже доволен.
Подивился архиерей такому чуду, а с ним и все епархиальные работники, но стали ждать: не может такого быть, чтобы второй год продержался. Но прошел еще год, пошел третий. Не вытерпел архиерей, вызывает отца Федора, спрашивает:
— Скажи, отец Федор, как это тебе удалось с бузихин-цами общий язык найти?
— А это нетрудно было, — отвечает батюшка. — Я как приехал к ним, так сразу смекнул их главную слабость, на ней и сыграл.
— Это как же? — удивился архиерей.
— А понял я, Владыко, что бузихинцы — народ непомерно гордый, не любят, когда их поучают. Вот я им и сказал на первой проповеди: так, мол, и так, братья и сестры, знаете ли вы, с какой целью меня к вам архиерей назначил? Они сразу насторожились: «С какой такой целью?» — «А с такой целью, мои возлюбленные, чтобы вы меня на путь истинный направили». Тут они совсем рты разинули от удивления, а я дальше валяю: «Семинариев я никаких не кончал, а с детских лет пел и читал на клиросе и потому в священники вышел как бы полуграмотным. И по недостатку образования пить стал непомерно, за что и был уволен со службы за штат». Тут они сочувственно закивали головами. «И, оставшись, — говорю, — без средств к пропитанию, я влачил жалкое существование за штатом. В довершение ко всему моя жена покинула меня, не желая разделять со мной такой участи». Как все это сказал, так у меня на глазах слезы сами собой навернулись. Смотрю, и у прихожан глаза на мокром месте. «Так бы мне и пропасть, — продолжаю я, — да наш Владыко, дай Бог ему здоровья, своим светлым умом смекнул, что надо меня для моего же спасения назначить к вам на приход, и говорит: «Никто, отец Федор, тебе во всей епархии не может помочь, окромя бузихинцев, ибо в этом селе живет народ мудрый, добрый и благочестивый. Они тебя наставят на путь истинный». А потому прошу вас и молю, дорогие братья и сестры, не оставьте меня своими мудрыми советами, поддержите, а где ошибусь — укажите. Ибо отныне вручаю в руки ваши судьбу свою». С тех пор мы и живем в мире и согласии.
На архиерея этот рассказ, однако, произвел удручающее впечатление.
— Что такое, отец Федор? Как вы смели приписывать мне слова, не произносимые мной? Я вас послал как пастыря, а вы приехали на приход овцой заблудшей. Выходит, не вы паству пасете, а она вас?
— А по мне, — отвечает отец Федор, — все равно, кто кого пасет, лишь бы мир был и все были довольны.
Этот ответ совсем вывел архиерея из себя, и он отправил отца Федора за штат.
Бузихинцы вновь присланного священника вовсе не приняли и грозились, что если отца Федора им не вернут, то они до самого Патриарха дойдут, но от своего не отступят. Самые ретивые предлагали заманить архиерея на приход и машину его вверх колесами поставить, а назад не перевертывать, пока не вернут отца Федора. Но архиерей уже сам поостыл, решив скандала далеко не заводить, и отца Федора бузихинцам вернул.
Пять лет прошло с того времени. И вот теперь Слава держал телеграмму, недоумевая, что же могло произойти в Бузихине.
А в Бузихине произошло вот что.
Отец Федор просыпался всегда рано и никогда не залеживался в постели, умывшись, прочитывал правило. Так начинался каждый его день. Но в это утро, открыв глаза, он почти полчаса понежился в постели с блаженной улыбкой: ночью видел свою покойную мать. Сны отец Федор видел редко, а тут — такой необычный, такой легкий и светлый.
Сам отец Федор во сне был просто мальчиком Федей, скакавшим на коне по их родному селу, а мать вышла к нему из дома навстречу и крикнула: «Федя, дай коню отдых, завтра поедете с отцом на ярмарку». При этих словах отец Федор проснулся, но сердце его продолжало радостно биться, и он мечтательно улыбался, вспоминая детство. Видеть мать во сне он считал хорошим признаком, значит, душа ее спокойна, потому как в церкви за нее постоянно возносятся молитвы об упокоении.
Бросив взгляд на настенные ходики, он кряхтя встал с постели и побрел к умывальнику. После молитвы по обыкновению пошел пить чай на кухню, а напившись, расположился тут же читать только что принесенные газеты. Дверь приоткрылась, и показалась вихрастая голова Петьки, внука церковного звонаря Парамона.
— Отец Федор, а я вам карасей принес, свеженьких, только что наловил.
— Ну проходи, показывай свой улов, — добродушно пробасил отец Федор.
Приход Пети был всегда для отца Федора радостным событием, он любил этого мальца, чем-то напоминавшего ему своего собственного покойного сына. «О, если бы он прошел мимо, не осиротил бы своего отца, сейчас бы у меня были, наверное, внуки. Но так, значит, Богу угодно», — мучительно размышлял отец Федор. Петьку без гостинца не оставлял, то конфет ему полные карманы набьет, то пряников. Но, конечно, понимал, что Петя не за этим приходит к нему, а уж больно любопытный, обо всем расспрашивает отца Федора да такие вопросы иногда мудреные задает, что и не сразу ответишь.
— Маленькие карасики, — оправдывался Петя, в смущении протягивая целлофановый мешочек с дюжиной небольших, с ладонь, карасей.
— Всякое даяние благо, — прогудел отец Федор, кладя карасей в холодильник. — Да и самое главное, что от труда рук своих принес подарок. А это я для тебя припас, — и с этими словами он протянул Петьке большую шоколадную плитку.
Поблагодарив, Петя повертел шоколад в руке, попытался сунуть в карман, но шоколад не полез, и тогда он проворно сунул его за пазуху.
— Э-э, брат, так дело не пойдет, пузо у тебя горячее, шоколад растает, и до дому не донесешь, лучше в газету заверни. А теперь, коли не торопишься, садись, чаю попьем.
— Спасибо, батюшка, мать корову подоила, так молока уже напился.
— Все равно садись, что-нибудь расскажи.
— Отец Федор, мне дед говорит, что когда я вырасту, получу от вас рекомендацию и поступлю в семинарию, а потом буду священником, как вы.
— Да ты еще лучше меня будешь. Я ведь неграмотный, в семинариях не учился, не те годы были, да и семинариев тогда уже не было.
— Вот вы говорите «неграмотный», а откуда же все знаете?
— Читаю Библию, еще книжки кое-какие есть. Немного и знаю.
— А папа говорит, что нечего в семинарии делать, так как скоро Церковь отомрет, а лучше идти в сельхозинститут и стать агрономом, как он.
— Ну сказанул твой батя! — усмехнулся отец Федор. — Я умру, отец твой умрет, ты когда-нибудь помрешь, а Церковь будет вечно стоять, до скончания века.
— Я тоже так думаю, — согласился Петя. — Вот наша церковь сколько лет стоит — и ничего ей не деется, а клуб вроде недавно построили, а уж трещина по стене пошла. Дед говорит, что раньше прочно строили, на яйцах раствор замешивали.
— Тут, брат, дело не в яйцах. Когда я говорил, что Церковь будет стоять вечно, то имел в виду не наш храм — это дело рук человеческих, может и разрушиться. Уж сколько на моем веку храмов да монастырей взорвали и поломали, а Церковь живет. Церковь — это все мы, верующие во Христа, и Он — глава нашей Церкви. Вот так, хоть твой отец грамотным на селе слывет, но речи его не мудрые.
— А как стать мудрым? Сколько надо учиться, больше, чем отец, что ли? — озадачился Петя.
— Да как тебе сказать, я встречал людей совсем неграмотных, но мудрых. «Начало премудрости — страх Господень», — так сказано в Священном Писании.
Петя хитро сощурил глаза:
— Вы, батюшка, в прошлый раз говорили, что Бога
любить надо. Как это можно: и любить, и бояться одновременно?
— Вот ты мать свою любишь?
— Конечно.
— А боишься ее?
— Нет, она же не бьет меня, как отец.
— А боишься сделать что-нибудь такое, отчего мама твоя сильно бы огорчилась?
— Боюсь, — засмеялся Петя.
— Ну тогда, значит, должен понять, что это за «страх Господень».
Их беседу прервал стук в дверь. Вошла теща парторга колхоза, Ксения Семеновна. Перекрестилась на образа и подошла к отцу Федору под благословение.
— Разговор у меня, батюшка, наедине к тебе, — и бросила косой взгляд на Петьку.
Тот, сообразив, что присутствие его нежелательно, распрощавшись, юркнул в дверь.
— Так вот, батюшка, — заговорщицким голосом начала Семеновна, — ты же знаешь, что моя Клавка мальчонку родила, вот два месяца, как некрещеный. Сердце-то мое все изболелось, и сами невенчанные, можно сказать, в блуде живут, так хоть внучка покрестить, а то не дай Бог до беды.
— Ну а что не несете крестить? — спросил отец Федор, прекрасно понимая, почему не несут сына парторга в церковь.
— Что ты, батюшка, Бог с тобой, разве это можно? Должность-то у него какая! Да он сам не против. Давеча мне и говорит: «Окрестите, мамаша, сына так, чтобы никто не видел».
— Ну что же, благое дело, раз надо — будем крестить тайнообразующе. Когда наметили крестины?
— Пойдем, батюшка, сейчас к нам, все готово. Зять на работу ушел, а евоный брат, из города приехавший, будет крестным. А то уедет — без крестного как же?
— Да-а, — многозначительно протянул отец Федор, — без кумовьев крестин не бывает.
— И кума есть, племянница моя, Фроськина дочка. Ну я пойду, батюшка, все подготовлю, а ты приходи следом задними дворами, через огороды.
— Да уж не учи, знаю…
Семеновна вышла, а отец Федор стал неторопливо собираться. Перво-наперво проверил принадлежности для крещения, посмотрел на свет пузырек со святым миром — уже было почти на дне. «Хватит на сейчас, а завтра долью». Уложил все это в небольшой чемоданчик, положил Евангелие, а поверх всего — облачение. Надел свою старую ряску и, выйдя, направился через огороды с картошкой по тропинке к дому парторга.
В просторной, светлой горнице уже стоял тазик с водой, а к нему прикреплены три свечи. Зашел брат парторга.
— Василий, — представился он, протягивая отцу Федору руку.
Отец Федор, пожав руку, отрекомендовался:
— Протоиерей Федор Миролюбов, настоятель Никольской церкви села Бузихина.
От такого длинного титула Василий смутился и, растерянно заморгав, спросил:
— А как же по отчеству величать?
— А не надо по отчеству, зовите проще: отец Федор или батюшка, — довольный произведенным эффектом, ответил отец Федор.
— Отец Федор-батюшка, вы уж мне подскажите, что делать. Я ни разу не участвовал в этом обряде.
— Не обряд, а таинство, — внушительно поправил отец Федор совсем растерявшегося Василия. — А вам ничего не надо делать, стойте здесь и держите крестника.
Зашла в горницу и кума, четырнадцатилетняя Анютка, с младенцем на руках. В комнату с беспокойным любопытством заглянула жена парторга.
— А маме не положено здесь, на крестинах, быть, — строго сказал отец Федор.
— Иди, иди, дочка, — замахала на нее руками Семеновна. — Потом позовем.
Отец Федор не спеша совершил крещение, затем позвал мать мальчика и после краткой проповеди о пользе воспитания детей в христианской вере благословил ее, прочитав над ней молитву.
— А теперь, батюшка, к столу просим, надо крестины отметить и за здоровье моего внука выпить, — захлопотала Семеновна.
В такой же просторной, как горница, кухне был накрыт стол, на котором одних разносолов не пересчитать: маринованные огурчики, помидорчики, квашеная белокочанная капуста, соленые груздочки под сметанкой и жирная сельдь, нарезанная крупными ломтиками, посыпанная колечками лука и политая маслом. Посреди стола была водружена литровая бутыль с прозрачной, как стекло, жидкостью. Рядом в большой миске дымился вареный картофель, посыпанный зеленым луком. Было от чего разбежаться глазам. Отец Федор с уважением посмотрел на бутыль. Семеновна, перехватив взгляд отца Федора, торопясь пояснила:
— Чистый первак, сама выгоняла, прозрачный, как слезинка. Ну что же ты, Вася, приглашай батюшку к столу.
— Ну, батюшка, садитесь, по русскому обычаю трахнем по маленькой за крестника, — довольно потирая руки, сказал Василий.
— По русскому обычаю надо сперва помолиться и благословить трапезу, а уж потом садиться, — назидательно сказал отец Федор и, повернувшись к переднему углу, хотел осенить себя крестным знамением, однако рука, поднесенная ко лбу, застыла, так как в углу висел лишь портрет Ленина.
Семеновна запричитала, кинулась за печку, вынесла оттуда икону и, сняв портрет, повесила ее на освободившийся гвоздь.
— Вы уж простите нас, батюшка, они ведь молодые, все партийные.
Отец Федор прочел «Отче наш» и широким крестом благословил стол:
— Христе Боже, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко Свят еси всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь.
Слово «питие» он как-то выделил особо, сделав ударение на нем. Затем они сели, и Василий тут же разлил по стаканам самогон. Первый тост провозгласили за новокрещеного младенца. Отец Федор, выпив, разгладил усы, прорек:
— Хорош первач, крепок, — и стал закусывать квашеной капустой.
— Да разве можно его сравнить с водкой, гадость такая, на химии гонят, а здесь свой чистоган, — поддакнул Василий. — Только здесь, как приедешь из города домой, и можно нормально отдохнуть, расслабиться. Недаром Высоцкий поет: «Если водку гнать не из опилок, то чаво б нам было с трех-четырех, пяти бутылок…», — и засмеялся. — И как верно подметил, после водки у меня голова болит, а вот после первака — хоть бы хны, утром опохмелишься, и опять пить целый день можно.
Отец Федор молча отдавал должное закускам, лишь изредка кивая в знак согласия головой.
Выпили по второй, за родителей крещеного младенца. Глаза у обоих заблестели, и пока отец Федор, густо смазав горчицей холодец, заедал им вторую стопку, Василий, перестав закусывать, закурил папиросу и продолжил разглагольствовать:
— Раньше люди хотя бы Бога боялись, а теперь, — он досадливо махнул рукой, — теперь никого не боятся, каждый что хочет, то и делает.
— Это откуда ты знаешь, как раньше было? — ухмыльнулся отец Федор, глядя на захмелевшего кума.
— Так старики говорят, врать-то не станут. Нет, рано мы религию отменили, она ох как бы еще пригодилась. Ведь чему в церкви учат: не убий, не укради… — стал загибать пальцы Василий. Но на этих двух заповедях его запас знаний о религии кончился, и он, ухватившись за третий палец, стал мучительно припоминать еще чего-нибудь, повторяя вновь: — Не убий, не укради…
— Чти отца своего и матерь свою, — пришел ему на выручку отец Федор.
— Во-во, это я и хотел сказать: чти. А они разве чтут? Вот мой балбес в восьмой класс пошел, а туда же, понимаешь ли, отец для него — не отец, мать — не мать. Все по подъездам шляется с разной шпаной, домой не загонишь, школу совсем запустил, — и Василий, в бессилии хлопнув руками по коленям, стал разливать по стаканам. — А ну их всех, батюшка, — и, схватившись рукою за рот, испуганно сказал: — Чуть при вас матом не ругнулся, а я ведь знаю: это грех… при священнике… меня Семеновна предупреждала. Ты уж прости меня, отец Федор, мы — народ простой, у нас на работе без мата дело не идет, а с матом — так все понятно. А это грех, батюшка, на работе ругаться матом? Вот ты мне ответь.
— Естественно, грех, — сказал отец Федор, заедая стопку груздочком.
— А вот не идет без него дело. Как рассудить, если дело не идет? — громко икнув, развел в недоумении руками Василий. — А как ругнешься хорошенько, — рубанул он рукой воздух, — так пошло — и все дела, вот такие пироги. А вы говорите «грех».
— А что я должен сказать, что это богоугодное дело — матом ругаться? — недоумевал отец Федор.
— Э-э, да не поймете вы меня, вот так и хочется выругаться, тогда б поняли.
— Ну выругайся, если так хочется, — согласился отец Федор.
— Вы меня на преступление толкаете, чтобы я, да при святом отце выругался, да ни за что!
Отец Федор видел, что сотрапезник его изрядно закосел, выпивая без закуски, и стал собираться домой. Василий, окончательно сморенный, уронил голову на стол, бормоча:
— Чтобы я выругался, да ни х… от меня не дождетесь, я всех в…
В это время зашла Семеновна:
— У, нажрался, как скотина, пить культурно, и то не умеет! Ты уж прости нас, батюшка.
— Ну что ты, Семеновна, не стоит.
— Сейчас, батюшка, тебя Анютка проводит. Я тебе тут яичек свежих положила, молочка, сметанки да еще кое-чего. Анютка снесет.
Отец Федор благословил Семеновну и пошел домой. Настроение у него было прекрасное, голова чуть шумела от выпитого, но при такой хорошей закуске для него это были пустяки.
На лавочке перед его домом сидела хромая Мария.
— Ох, батюшка, слава Богу, слава Богу, дождалась! — заковыляла Мария под благословение отца Федора. — А то ведь никто не знает, куда ты ушел, уж думала, в район уехал, вот беда была бы!
— По какому делу, голубушка? — благословляя, спросил отец Федор.
— Ах, батюшка, ах, родненький, да у Дуньки Кривошеиной горе, горе-то какое! Сынок ее Паша, да ты его знаешь, он прошлое летось привозил на тракторе дрова к церкви. Ну так вот, позавчера у Агриппины, что при дороге живет, огород пахали. Потом, знамо дело, расплатилась она с ними, как полагается, самогоном. Так они, заразы, всю бутыль выпили и поехали. «Кировец»-то, на котором Пашка работал, перевернулся, ты знаешь, какие высокие у трассы обочины, в прошлом году, помнишь, Семен перевернулся, но тот жив остался. А Паша наш, сердечный, в окно вывалился, и трактором-то его придавило. Ой, горе-то, горе матери евоной, Дуньке, совсем без кормильца осталась, мужа схоронила, теперь сынок! Уж, батюшка, дорогой наш, Христом Богом просим, поедем, послужим панихидку над гробом, а завтра в церковь повезут отпевать. Внучек мой тебя сейчас отвезет.
— Хорошо, поедем, поедем, — захлопотал отец Федор. — Только ладан да кадило возьму.
— Возьми, батюшка, возьми, родненький, все, что тебе надо, а я подожду здесь, за калиткой.
Отец Федор быстро собрался и через десять минут вышел. У калитки его ждал внук Марии на мотоцикле «Урал». Позади него примостилась Мария, оставив место в коляске для отца Федора. Батюшка подобрал повыше рясу, плюхнулся в коляску:
— Ну, с Богом, поехали.
Взревел мотор, и мотоцикл понес отца Федора навстречу его роковому часу. Около дома Евдокии Кривошеиной толпился народ. Дом маленький, низенький, батюшка, проходя в дверь, не нагнулся вовремя и сильно ударился о косяк, поморщившись от боли, пробормотал:
— Ну что за люди, такие низкие двери делают, никак не могу привыкнуть.
В глубине сеней толпились мужики.
— Отец Федор, подойди к нам, — позвали они. Подойдя, отец Федор увидел небольшой столик, в беспорядке уставленный стаканами и нехитрой закуской.
— Батюшка, давай помянем Пашкину душу, чтоб земля была ему пухом.
Отец Федор отдал Марии кадило с углем и наказал идти разжигать. Взял левой рукой стакан с мутной жидкостью, правой широко перекрестился:
— Царство Небесное рабу Божию Павлу, — и одним духом осушил содержимое стакана. «Уже не та, что была у парторга», — подумал он. От второй стопки, тут же ему предложенной, отец Федор отказался и пошел в дом.
В горнице было тесно от народа. Посреди комнаты стоял гроб. Лицо покойника, еще молодого парня, почему-то стало черным, почти как у негра. Но вид был значительный: темный костюм, белая рубаха, черный галстук, словно и не тракторист лежал, а какой-нибудь директор совхоза. Правда, руки, сложенные на груди, были руками труженика, мазут в них до того въелся, что уже не было никакой возможности отмыть.
Прямо у гроба на табуретке сидела мать Павла. Она ласково и скорбно смотрела на сына и что-то шептала про себя. В душной горнице отец Федор почувствовал, как хмель все больше разбирает его. Около двери и в переднем углу, за гробом, стояли бумажные венки. Отец Федор начал панихиду, бабки тонкими голосами подпевали ему. Как-то неловко махнув кадилом, он задел им край гроба. Вылетевший из кадила уголек подкатился под груду венков, но никто этого не заметил.
Только отец Федор начал заупокойную ектенью, как раздались страшные вопли:
— Горим, горим!
Он обернулся и увидел, как ярко полыхают бумажные венки. Пламя перекидывалось на другие. Все ринулись из избы, сразу же образовалась давка. Отец Федор скинул облачение, стал наводить порядок, пропихивая людей в узкие двери. «Вроде все, — мелькнуло у него в голове. — Надо выбегать, а то будет поздно». Он бросил последний взгляд на покойника, невозмутимо лежащего в гробу, и тут увидел за гробом сгорбившуюся фигуру матери Павла, Евдокии. Он кинулся к ней, поднял, хотел нести к выходу, но понял, что уже поздно: вся дверь был объята пламенем. Отец Федор подбежал к окну и ударом ноги вышиб раму, затем, подтащив уже ничего не соображавшую от ужаса Евдокию, буквально выпихнул ее из окна. Потом Попробовал выбраться сам, но понял, что в такой маленький проем его грузное тело не пролезет. Стало нестерпимо жарко, голова закружилась, и, падая на пол, отец Федор бросил взгляд на угол с образами — Спаситель был в огне. Захотелось перекреститься, но рука не слушалась, не поднималась для крестного знамения. Перед тем как окончательно потерять сознание, он прошептал: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, предаю дух мой, буди милостив мне грешному». Икона Спасителя стала коробиться от огня, но сострадательный взгляд Христа по-доброму продолжал взирать на отца Федора. Батюшка видел, что Спаситель мучается вместе с ним.
— Господи, — прошептал отец Федор, — как хорошо быть всегда с Тобой…
Все померкло, и из этой меркнущей темноты стал разгораться свет необыкновенной мягкости. Все, что было до этого, как бы отступило в сторону, пропало. Рядом с собой отец Федор услышал ласковый и очень близкий для него голос:
— Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
Через два дня приехал благочинный отец Леонид Звякин и, вызвав из соседних приходов двух священников, возглавил чин отпевания над отцом Федором. Во время отпевания церковь была заполнена народом до отказа, так что некоторым приходилось стоять на улице. Обнеся гроб вокруг церкви, понесли на кладбище. За гробом, рядом со звонарем Парамоном, шел его внук Петя. Взгляд мальчика был полон недоумения, ему не верилось, что отца Федора больше нет, что он хоронит его.
В Бузихине на день похорон были приостановлены все сельхозработы. Немного посторонясь, шли вместе с односельчанами председатель и парторг колхоза. Скорбные лица бузихинцев выражали сиротливую растерянность. Хоронили пастыря, ставшего за эти годы всем односельчанам родным и близким человеком. Они к нему шли со всеми своими бедами и нуждами, двери дома отца Федора всегда были для них открыты. К кому придут они теперь? Кто их утешит, даст добрый совет?
— Не уберегли мы нашего батюшку-кормильца, — причитали старушки, а молодые парни и девчата в знак согласия кивали головами: не уберегли.
В доме священника поминальные столы были накрыты лишь для духовенства и церковного совета. Для всех остальных столы поставили на улице в церковной ограде, благо погода была хорошая, солнечная. На земле стояли фляги с самогоном, мужики подходили и зачерпывали кто сколько хочет. Около одного стола стоял Василий, брат парторга. Уже изрядно захмелевший, он объяснял различие между самогоном и водкой.
— А что ты в деревню не вертаешься? — вопрошали мужики.
— Э-э, братки, а жена-то! Она же у меня городская, ядрена вошь! Так и хочется выругаться, но нельзя, покойник особый! Мировой был батюшка, он не велел, и не буду, но обидно, что умер, потому и ругаться хочется.
За другим столом Захар Матвеевич, сварщик с МТС, рассказывал:
— Приходит как-то ко мне отец Федор, попросил пилку. Ну, мне жалко, что ли? Я ему дал. Утром пошел в сад, смотрю: у меня все яблони обработаны, чин-чинарем. Тут я сообразил, для чего он у меня пилку взял: заметил, что я давно сад запустил, он его и обработал. Ну где вы еще такого человека встретите?
— Нигде, — соглашались мужики. — Такого батюшку, как наш покойный отец Федор, во всем свете не сыщешь.
В доме поминальная трапеза шла более благообразно, нежели на улице. Все молча кушали, пока, наконец, батюшка, сидевший рядом с благочинным, не изрек:
— Да, любил покойничек выпить, Царство ему Небесное, вот это его и сгубило. Был бы трезвый, непременно выбрался бы из дома, ведь никто больше не сгорел…
— Не пил бы отец Федор, так и пожара бы не случилось, — назидательно оборвал благочинный.
На сороковой день мужики снова устроили грандиозную пьянку на кладбище, проливая хмельные слезы на могилу отца Федора.
Прошел ровно год. Холмик над могилой отца Федора немного просел и зарос пушистой травкой. Рядом стояла береза, на ней в сооруженном Петькой скворечнике жили птицы. Они пели по утрам над могилой. По соседству был захоронен тракторист Павел. В день годовщины около его могилы сидела, сгорбившись, Евдокия Кривошеина. Она что-то беззвучно шептала, когда к могиле отца Федора подошел Петя. На плече у него была удочка, в руках — пустой мешочек.
— Эх, тетя Дуся, — с сокрушением вздохнул Петя, — хотел отцу Федору принести карасиков на годовщину, чтоб помянули, он ведь очень любил жареных карасей в сметане. Так на прошлой неделе Женька Путяхин напился и с моста трактор свалил в пруд вместе с тележкой, а она полная удобрений химических. Сам-то он жив остался, а рыба вся погибла.
Петя еще раз тяжело вздохнул, глядя на могилу отца Федора.
На могиле лежали яички, пирожки, конфеты и стоял наполовину налитый граненый стакан, покрытый сверху кусочком хлеба домашней выпечки. Петя молча взял стакан, снял с него хлеб — в нос ударил тошнотворный запах сивухи. Широко размахнувшись рукой, мальчик далеко от могилки расплеснул самогон. Затем достал из-за пазухи фляжку, в которую загодя набрал чистой воды из родника, что за селом в Большом овраге, наполнил водой стакан, положил снова на него хлеб и осторожно поставил на могильный холмик. Потом внимательно взглянул на портрет, укрепленный на дубовом восьмиконечном кресте: отец Федор смотрел на него, одобрительно улыбаясь. Петя улыбнулся батюшке в ответ, а по щекам его текли чистые детские слезы.
Волгоград, 1990 г.
ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
Анастасия Матвеевна, собираясь в церковь ко всенощной, с опаской поглядывала на своего супруга, полковника авиации в отставке Косицына Михаила Романовича. Михаил Романович сидел перед включенным телевизором с газетой в руках. Но ни на телевизионной передаче, ни на газете сосредоточить своего внимания он не мог. В его душе глухо росло раздражение, некий протест против намерения жены идти в церковь. Раньше, еще в молодые годы, она захаживала в церковь раза два-три в год. Он на это внимания не обращал: мало ли какая блажь у женщины. Но как вышла на пенсию, так зачастила в храм каждое воскресенье, каждый праздник.
«И сколько этих праздников у церковников — не пересчитать, — с раздражением думал Михаил Романович. — То ли дело красные дни гражданского календаря: Новый год, 8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября и уж совсем святой, особенно для него, фронтовика, День Победы — вот, пожалуй, и все. А тут каждый месяц по нескольку, с ума можно сойти».
Анастасия Матвеевна думала о том, что последнее время ее супруг очень раздражителен; оно понятно: бередят старые фронтовые раны, здоровье его все более ухудшается. Но почему-то больше всего его раздражает то, что она ходит в церковь. Чуть ли не каждый уход ее на службу в храм сопровождается скандалом и руганью.
— Миша, закройся, я пошла в храм.
— Ну чего, чего ты там потеряла, не можешь, как все нормальные люди посидеть дома с мужем, посмотреть телевизор! — с раздражением на ходу говорил Михаил Романович, чувствуя, как гнев начинает клокотать в его израненной старческой груди.
— Мишенька, так, может, нормальные-то люди, наоборот, те, кто в храм Божий ходят, — сказала и, поняв, что перегнула палку, сама испугалась сказанного, но слово не воробей.
— Так что, я, по-твоему, ненормальный? — переходя на крик, вознегодовал Михаил Романович. — Да, я — ненормальный, когда на своем истребителе все небо исколесил, но Бога там не увидел. А где был твой Бог, когда фашистские самолеты разбомбили наш санитарный поезд и из пулеметов добивали раненых, которые не могли укрыться и были беззащитны? Почему Бог их не укрыл? Я был ненормальный, когда летел под откос в санитарном вагоне и только чудом остался жив?
— Миша, но ведь это чудо Бог совершил, разве ты этого не понял ни тогда, ни сейчас?
Удивительное дело, но именно эта вылетевшая у Михаила Романовича фраза «чудом остался жив» вмиг иссушила его раздражение. Негодование куда-то исчезло, и, махнув рукой, уже успокаиваясь, он сказал:
— Иди к своим попам, раз тебе нравится, что тебя дурачат.
На всенощной Анастасия Матвеевна горячо молилась за Михаила. Несмотря ни на что, мужа своего она сильно любила. Когда приходила в храм, всегда становилась перед иконой Архистратига Михаила и всю службу молилась о том, чтобы Господь просветил ее мужа светом истины. У каждого человека есть какая-то главная мечта его жизни. Такая мечта была и у Анастасии Матвеевны. Она всем сердцем хотела, чтобы настал день, когда они вместе с Мишей под руку пошли бы в церковь к службе. После так же вместе возвращались бы домой. Вдвоем читали бы молитвенные правила перед сном и утром. Этого она желала больше всего на свете.
— Господи, если тебе угодно, забери мою жизнь, только приведи Мишеньку в храм для жизни вечной.
Когда Анастасия Матвеевна вернулась домой, Михаил уже лежал в кровати. Не было еще девяти часов вечера, так рано он не ложился, это сразу насторожило Анастасию Матвеевну.
— Мишенька, ты что, заболел, тебе плохо?
— Немного неважно себя чувствую, но ты, Настенька, не беспокойся, пройдет.
Анастасия Матвеевна не успокоилась, она-то хорошо знала: уж раз он лег — дело серьезное — и вызвала врача. Врач ничем не утешил, измерил давление, прослушал сердце, сделал укол и заявил, что необходима госпитализация. Но Михаил Романович категорически отказался ехать в госпиталь. На следующий день его состояние ухудшилось.
— Миша, может, батюшку позвать, ведь ты ни разу не исповедовался, ни разу не причащался. Он, открыв глаза, глянул сердито:
— Что, уже хоронишь меня?
— Да что ты, Мишенька, Господь с тобою, наоборот, верю, что через это на поправку пойдешь.
Он устало прикрыл глаза, а когда она собиралась отойти от постели на кухню, вдруг, не открывая глаз, произнес:
— Ладно, зови попа.
Сердце Анастасии Матвеевны зашлось в радостном волнении, она выбежала в соседнюю комнату, упала на колени перед иконами и расплакалась. Всю ночь она читала каноны и акафисты, чтобы Миша дожил до утра и дождался священника.
Батюшка пришел в половине девятого, как и договаривались. Она провела его к мужу и представила:
— Вот, Миша, батюшка пришел, как ты и просил, это наш настоятель отец Александр. Ну, я вас оставлю, буду на кухне, если понадобится какая помощь, позовете.
Отец Александр, мельком взглянув на фотографии, где Михаил Романович был в парадном мундире с орденами и медалями, бодро произнес:
— Не беспокойтесь, Анастасия Матвеевна, мы два старых вояки, как-нибудь справимся со всеми трудностями.
Михаил Романович глянул на молодого священника, сердито подумал: «Что он ерничает?»
Отец Александр, как бы отгадав его мысли, сказал:
— Пришлось немного повоевать, интернациональный долг в Афганистане исполнял. Служил в десанте, так небо полюбил, что после армии мечтал в летное пойти, был бы летчиком, как вы, да не судьба.
— Что же так?
— Медкомиссия зарубила, у меня ранение было.
— Понятно.
Священник Михаилу Романовичу после такого откровения не то чтобы понравился, а прямо как родной стал. Немного поговорили, потом отец Александр сказал:
— У вас, Михаил Романович, первая исповедь. Но вы, наверное, не знаете, в чем каяться?
— Вроде жил, как все, — пожал тот плечами. — Сейчас, правда, совесть мучает, что кричал на Настю, когда в церковь шла, она ведь действительно глубоко в Бога верит. А я ей разного наговорил, что, мол, летал, Бога не видел в небе и где, мол, был Бог, когда на войне невинные люди гибли.
— Ее вере вы этими высказываниями не повредите, она в своем сердце все ответы на эти вопросы знает, только разумом, может быть, объяснить не умеет. А вот для вас, по всей видимости, эти вопросы имеют значение, раз в минуту душевного волнения их высказали. По этому поводу вспомнить можно случай, происшедший с архиепископом Лукой (Войно-Ясинецким). Он был не только церковным иерархом, но и знаменитым ученым-хирургом. Во время Великой Отечественной войны, будучи назначенным главным консультантом военных госпиталей, он не раз, делая операции, самых безнадежных спасал от смерти. Как-то Владыка Лука ехал в поезде в одном купе с военными летчиками, возвращавшимися на фронт после ранения. Увидели они церковнослужителя и спрашивают: «Вы что, в Бога верите?» «Верю», — говорит Владыка. «А мы не верим, — смеются летчики, — потому что все небо облетали, но Бога так и не видели». Достает тогда архиепископ Лука удостоверение профессора медицины и говорит: «Я тоже не одну операцию сделал на мозге человека: вскрываю черепную коробку, вижу под ней мозговой жир, а ума там не вижу, значит ли это, что ума у человека нет?»
— Какой находчивый Владыка, — восхитился Михаил Романович.
— А насчет того, что невинные гибнут, это действительно непонятно, если нет веры в бессмертие, а если есть христианская вера, то все становится ясно. Страдания невинных обретают высший смысл прощения и искупления. В жизни вечной Господь каждую слезинку ребенка утрет. Всем Бог воздаст, если не в земной жизни, так в будущей, по заслугам каждого.
После исповеди и причащения отец Александр пособоровал Михаила Романовича. После соборования тот признался:
— Веришь ли, батюшка, на войне смерти не боялся, в лобовую атаку на фашиста шел, а теперь боюсь умирать:
что там ждет — пустота, холодный мрак? Приблизилась эта черта ко мне, а перешагнуть ее страшно, назад еще никто не возвращался.
— Страх перед смертью у нас от маловерия, — сказал отец Александр и, распрощавшись, ушел.
После его ухода Михаил Романович сказал жене:
— Хороший батюшка, наш человек, все понимает. Ободренная этим высказыванием, Анастасия Матвеевна робко сказала:
— Мишенька, нам бы с тобой повенчаться, как на поправку пойдешь, а то, говорят, невенчанные на том свете не увидятся.
— Ну вот, опять за старое! Да куда нам венчаться, это для молодых, засмеют ведь в церкви. Сорок лет прожили невенчанные, а теперь, здрасте, вот мы какие.
— Ради меня, Мишенька, если любишь. Пожалуйста.
— Любишь-не-любишь, — проворчал Михаил Романович. — Еще выздороветь надо. Иди, я устал, подремлю малость. Коли выздоровлю, там видно будет, поговорим.
— Правда? — обрадовалась Анастасия Матвеевна. — Обязательно выздоровеешь, быть другого не может, — и, чмокнув мужа в щеку, заботливо прикрыла его одеялом.
Произошло действительно чудо, в чем нисколько не сомневалась Анастасия Матвеевна: на следующий день Михаил пошел на поправку. Когда пришел участковый врач, то застал Михаила Романовича пьющим на кухне чай и читающим газету. Померив давление и послушав сердце, подивился:
— Крепкий вы народ, фронтовики!
Когда Анастасия Матвеевна напомнила мужу о венчании, он отмахнулся:
— Погоди, потом решим. Куда торопиться?
— Когда же потом? Скоро Великий пост, тогда венчаться аж до Красной горки нельзя.
— Сказал потом, значит, потом, — с ноткой раздражения в голосе ответил он.
Пробовала еще несколько раз заводить разговор о венчании, но, почувствовав, что нарывается на скандал, сразу умолкала. Так и наступило Прощеное воскресенье, и начался Великий пост. Анастасия Матвеевна старалась не пропускать ни одной службы, в первую неделю ходила вообще каждый день. Потом стала недомогать, снова, как раньше, появились сильные боли в правом боку. А к концу поста вовсе разболелась и слегла. Сын Игорь свозил ее в поликлинику, оттуда направили на обследование в онкологию. Когда вернулись, Игорь отвел отца в сторону:
— Папа, у мамы рак печени, уже последняя стадия, врачи сказали, осталось немного.
— Что значит немного? Точно проверили, может, ошибаются? Чем-то можно помочь? Операцию сделать, в конце концов, — растерянно произнес Михаил Романович.
Сын отрицательно покачал головой:
— Надо готовиться к худшему, папа. Не знаю, маме говорить или нет?
— Что ты, сынок, не надо раньше времени расстраивать, я сам с ней поговорю.
Он опустился на стул возле кухонного стола, обхватил свою седую голову руками и сидел так минут пять, потом решительно встал:
— Пойду к ней.
Подойдя, сел на краешек кровати, взял нежно за руку:,
— Что же ты расхворалась, моя верная подруга? Давай поправляйся скорей, Пасха приближается, куличи будем, печь, яички красить.
— Что сказали врачи, Миша? — прямо посмотрев ему в глаза, спросила она.
Михаил Романович суетливо завертел головой:
— Ну что-что сказали… Надо лечиться — и поправишься. Вон сколько лекарств тебе понавыписывали.
— Не ври, Мишенька, ты же не умеешь врать, я и так сама все понимаю. Умирать мне не страшно, надо только подготовиться достойно к смерти, по-христиански. Ты мне отца Александра приведи, поисповедует, причастит, да и пособороваться нужно. Так мы с тобой и не повенчались — как пред Богом предстанем?
— Милая Настенька, ты выздоравливай ради Бога, и сразу пойдем венчаться.
— Теперь уж, наверное, поздно. Страстная седмица начинается. Затем Светлая, до Фомина воскресенья я не дотяну. Значит, Богом не суждено.
Михаил Романович шел в церковь и про себя бормотал:
— Это как же не суждено? Что значит: не суждено? Ведь мы как-никак сорок лет прожили.
В церкви, повстречавшись с отцом Александром, условились, что утром он подъедет к ним. Поговорил с батюшкой и насчет венчания. Отец Александр сказал задумчиво:
— На Страстной однозначно нельзя, на Светлой, хоть и не принято по уставу, но исключение можно сделать, — посмотрел на осунувшегося Михаила Романовича, добавил: — Если будем усердно молиться, она доживет и до Красной горки, я в этом уверен.
— Буду, конечно, молиться, только не знаю, как. Отец Александр подвел его к иконе Михаила Архангела:
— Здесь ваша супруга постоянно стояла на службе, наверное, за вас молилась вашему Ангелу-хранителю. Я вам предлагаю, пока она болеет, заменить ее на этом боевом посту. Я не шучу, когда говорю про боевой пост, апостол Павел пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных».
От этих слов все сразу встало для Михаила Романовича на свои места. Его соратница, его боевая подруга, его милая жена, пока он дома отлеживался у телевизора с газетой, была на боевом посту. Она боролась за него, за свою семью против врагов невидимых, а потому более коварных, более опасных. Боролась одна, не имея от него никакой помощи. Мало того, что он не поддерживал ее в этой борьбе, он еще потакал врагу. Теперь, когда она лежит больная, он должен встать на этот боевой пост. И он встанет, ему ли, старому вояке, не знать, что такое долг воина-защитника? Он встанет, обязательно встанет, и ничто не помешает ему в этом.
Анастасия Матвеевна заметила, что муж вернулся из церкви какой-то подтянутый, собранный, решительный и даже помолодевший.
— Настя, завтра утром батюшка придет. Сейчас покажи мне, какие молитвы читать, я за тебя и за себя почитаю.
— Мишенька, что с тобой? — еще не веря всему, прошептала Анастасия Матвеевна.
— Ничего. Вместе воевать будем.
— С кем воевать, Миша? — она даже испугалась.
— С духами злобы поднебесной, — отчеканил полковник. — И раскисать не будем, — увидев слезы на глазах жены, добавил он.
— Да это я от радости, Миша, только от радости.
— Ну, это другое дело.
Каждый день на Страстной седмице Михаил Романович ходил в храм. Стоять приходилось подолгу, службы Страстной седмицы особые, длинные. Но он мужественно выстаивал их от начала до конца, хотя и не понимал, что и для чего происходит, но боевой пост есть боевой пост, приказано — стой, высшее командование само знает. Высшим командованием для него в данном случае был отец Александр. После службы Михаил Романович часто подходил к нему, что-нибудь спрашивал. Как-то поделился своими переживаниями.
— Сам-то я хожу сейчас в церковь, а вот сын со снохой — их разве заставишь? Наш грех: сами не ходили в молодости и детей не приучили.
— Да это проблема не только ваша, многие подходят с подобным вопросом. Честно признаться, не знаю, что и отвечать. Советую усиленно молиться за детей, молитва родителей много может. Мне как-то рассказывали такой случай. У одного верующего человека был неверующий сын. Отец, конечно, переживал сильно. А перед тем, как умереть, завещал сыну, чтобы тот после его смерти в течение сорока дней заходил в родительскую комнату каждый день на пятнадцать минут, ничего не делал, только молча сидел бы. Сын исполнил последнюю просьбу отца. А как сорок дней прошло, сын сам пришел в храм. Я думаю, просто отец понимал, что молодежь в суете живет, некогда над вечным подумать: о смысле жизни, о своей душе, о бессмертии, о Боге.
Великим четвергом Михаил Романович причастился, а вечером после чтения двенадцати Евангелий умудрился принести домой огонь в самодельном фонарике. От него зажгли лампадку в комнате Анастасии Матвеевны. В субботу сходил в церковь, освятил кулич и крашеные яйца. Кулич испекла им сноха, а яйца красил сам Михаил Романович, так как Анастасия Матвеевна, вконец обессиленная, не вставала с кровати. Врач-онколог, курирующий ее, был удивлен, узнав, что она до сих пор жива. После ночной Пасхальной службы Михаил Романович пришел весь сияющий, уже с порога закричал:
— Христос Воскресе! —
— Воистину Воскресе! — ответила чуть слышно Анастасия Матвеевна, любуясь мужем, который на Пасху нарядился в свой парадный мундир со всеми наградами. Раньше он надевал его только 9 Мая.
— Ты прямо как на День Победы, — улыбаясь, сказала она.
— А сегодня и есть День Победы, победы над смертью — так в проповеди отец Александр и сказал. Они поцеловались трижды.
— Ты давай поправляйся, в следующее воскресенье, на Красную горку, поедем в церковь венчаться.
— Как уж Бог даст, но я буду ждать.
В воскресенье подъехал сын вместе со снохой на своей машине. Сноха помогла Анастасии Матвеевне надеть ее лучшее платье. Михаил Романович с Игорем осторожно вывели под руки и усадили Анастасию Матвеевну в машину. В храме отец Александр разрешил поставить для нее стул. Так и венчались: Анастасия Матвеевна сидела, а рядом в парадном мундире стоял ее любимый супруг. Во время венчания он несколько раз поглядывал с заботливостью на нее, а она отвечала полным благодарности взглядом: мол, все со мною в порядке, не беспокойся и молись. Домой Анастасию Матвеевну привезли совсем ослабевшую, почти что на руках внесли и уложили в постель прямо в платье. Дети уехали, обещав вечером проведать. Михаил Романович сел на стул рядом с кроватью жены и взял ее за руку.
— Спасибо, Мишенька, я сегодня такая счастливая! Теперь можно спокойно помереть.
— А как же я? — растерялся Михаил Романович.
— Мы же с тобой повенчанные, нас смерть не разлучит. Я чувствую, что сегодня умру, но ты не скорби, как прочие, не имеющие упования, мы с тобой там встретимся непременно. Ты помнишь, как мы первый раз повстречались?
— Конечно, помню: в Доме офицеров, на вечере по случаю Дня Победы, ты еще все с капитаном Кравцовым танцевала, я тебя еле у него отбил.
— Дурачок, я как тебя увидела, сразу полюбила, и никакие Кравцовы мне не были нужны.
— Настенька, ты знаешь, мне очень стыдно, хоть и прошло много лет, все же совесть напоминает. Встретимся на том свете, говорят, там все откроется, так вот, чтобы для тебя не было неожиданностью, короче, хочу признаться: я ведь тогда с Клавкой, ну, словом, бес попутал…
— Я знала, Мишенька, все знала. В то время мне так больно было, так обидно, что жить не хотелось. Но я любила тебя. Вот тогда-то я впервые в церковь пошла. Стала молиться перед иконой Божией Матери, плакать. Меня священник поддержал, сказал, чтобы не разводилась, а молилась за тебя как за заблудшего. Не будем об этом больше вспоминать. Не было этого вовсе, а если было, то не с нами, мы теперь с тобой другие.
Михаил Романович наклонился и поцеловал руку супруги:
— Тебя любил, только тебя любил, всю жизнь только тебя одну.
— Почитай мне, Миша, Священное Писание.
— Что из него почитать?
— А что откроется, то и почитай.
Михаил Романович открыл Новый Завет и начал читать:
— Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает… — он вдруг заметил, что супруга перестала дышать и, подняв голову от книги, увидел застывший взгляд его милой жены, устремленный в угол с образами.
— Мы скоро увидимся, Настенька, — сказал он, закрывая ей глаза.
Затем Михаил Романович встал, подошел к столу, взял лист бумаги и стал писать:
«Дорогой мой сынок, прости нас, если что было не так. Похорони по-христиански. Сынок, выполни мою последнюю просьбу, а не выполнить последнюю просьбу родителей, ты же знаешь, — великий грех. После того, как похоронишь нас с мамой, в течение сорока дней заходи в эту комнату и посиди здесь минут пятнадцать-двадцать каждый день. Вот такая моя последняя просьба. Поцелуй за меня Люсю и внуков. Христос Воскресе! Твой отец».
Затем он подошел, поцеловал жену и, как был в мундире, лег с нею рядом, взял ее за руку и, закрыв глаза, сказал:
— Пойдем вместе, милая, я тебя одну не оставлю.
Когда вечером Игорь с женой приехали к родителям, то долго не могли дозвониться, так и открыли дверь своим ключом. Прошли в спальню и увидели, что мать с отцом лежат на кровати рядом, взявшись за руки, он в своем парадном мундире, а она в нарядном платье, в котором сегодня венчалась. Лица у обоих были спокойные, умиротворенные, даже какие-то помолодевшие. Казалось, они уснули, вот проснутся и так же, взявшись за руки, пойдут вместе к своей мечте, которая ныне стала для них реальностью.
Волгоград, январь 2002 г.
КРАСНОЕ КРЕЩЕНИЕ (рассказ-быль)
Отец Петр встал коленями на половичок, постланный на льду у самого края проруби, и, погрузив в нее большой медный крест, осипшим голосом затянул:
— Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… Тут же молодой звонкий голос пономаря Степана подхватил:
— Троическое явися поклонение…
Вместе с ними запели Крещенский тропарь крестьяне села Покровка, толпившиеся вокруг купели, вырубленной в виде креста. Вода успела затянуться тонкой корочкой льда, так как январь 1920 года выдался морозный. Но тяжелый крест, с треском проломив хрустальную преграду, продолжая в движении сокрушать хрупкие льдинки, чертил в холодной темной воде себе же подобное изображение.
Во время пения слов: «И Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение…» — Никифор Крынин, сунув руку за пазуху, вынул белого голубя и подбросил его вверх, прихлопнув ладошами. Голубь, вспорхнув, сделал круг над прорубью, полетел к небу. Крестьяне провожали птицу восторженными, по-детски обрадованными взглядами, как будто в самом деле в этом голубе увидели Святого Духа. Как только закончился молебен и отец Петр развернулся с крестным ходом, чтобы идти обратно в церковь, толпа весело загомонила, бабы застучали ведрами и бидонами, а мужики пошли ко второй проруби, вырубленной метрах в двадцати выше по течению, чтобы окунуться в «Иордань». Речка Пряда в этот день преобразилась в Иордан, протекающий за тысячи верст отсюда, в далекой и такой близкой для каждого русского сердца Палестине.
Пономарь Степан, подбежав к отцу Петру, сконфуженно зашептал:
— Батюшка, благословите меня в «Иордань» погрузиться.
— Да куда тебе, Степка, ты же простывший!
— В Иордане благодатном и вылечусь от хвори, — с уверенностью произнес Степан.
В глазах его светилась мольба, и отец Петр махнул рукой:
— Иди…
Подул восточный ветер. Снежная поземка, шевеля сухим камышом, стала заметать следы крестного хода. Когда подошли к церкви, белое марево застило уже все кругом, так что ни села, ни речки внизу разглядеть было невозможно.
Отец Петр с Никифором и певчими, обметя валенки в сенях и охлопав полушубки от снега, ввалились в избу и сразу запели тропарь Крещению. Батюшка, пройдя по дому, окропил все углы крещенской водой. Затем сели за стол почтить святой праздник трапезой. Прибежавший следом Степан, помолившись на образа, присел на краешек лавки у стола. Вначале все вкушали молча, но после двух-трех здравиц завели оживленную беседу. Никифор мрачно молвил:
— Слышал я, у красных их главный, Лениным вроде кличут, объявил продразверстку — так она у них называется.
— Что это такое? — заинтересовались мужики.
— «Прод» — это означает продукты. Ну, знамо дело, что самый главный продукт — это хлеб, вот они его и будут «разверстывать», в городах-то жрать нечего.
— Что значит «разверстывать»? — взволновались мужики, интуитивно чувствуя в этом слове уже что-то угрожающее.
— Означает это, что весь хлебушек у мужиков отнимать будут.
— А если я, к примеру, не захочу отдавать? — горячился Савватий. — У самого семеро по лавкам — чем кормить буду? Семенным хлебом, что ли? А чем тогда весной сеять?
— Да тебя и не спросят, хочешь или не хочешь, семенной заберут, все подчистую, — тяжко вздохнул Никифор. — Против рожна не попрешь, они с оружием.
— Спрятать хлеб, — понизив голос, предложил Кондрат.
— Потому и «разверстка», что развернут твои половицы, залезут в погреба, скопают амбары, а найдут припрятанное — и расстреляют, у них за этим дело не станет.
— Сегодня-то вряд ли они приедут, праздник, а завтра надо все же спрятать хлеб, — убежденно сказал Савватий.
— Это для нас праздник, а для них, супостатов, праздник — это когда можно пограбить да поозоровать над православным людом. Но сегодня, думаю, вряд ли, вон метель какая играет, — подытожил разговор, встревоживший мужиков, Никифор.
Тихо сидевшая до этого матушка Авдотья, жена отца Петра, всхлипнула и жалобно проговорила:
— От них, иродов безбожных, всего можно ожидать. Говорят, что в первую очередь монахов да священников убивают, а куда я с девятью детишками, мал мала меньше? — и матушка снова всхлипнула.
И — Да вы посмотрите только на нее, уже живьем хоронит! — осерчал отец Петр. — Ну что ты выдумываешь, я че, в революцию, что ли, их лезу? Службу правлю по уставу, вот и всех делов. Они же тоже, чай, люди неглупые.
— Ой, батюшка, не скажи, — вступила в разговор просфорница, солдатская вдова Нюрка Востроглазова. — Давеча странница одна у меня ночевала да такую страсть рассказала, что не приведи Господи.4
Все сидевшие за столом повернулись к ней послушать, что за страсть такая. Ободренная общим вниманием Нюрка продолжала:
— В соседней губернии в Царицынском уезде есть большое село названием Цаца. В этом селе церковь, в которой служат два священника: один старый уже — настоятель, другой помоложе, и детишек у него куча, не хуже как у нашего отца Петра. Дошел до сельчан тех слух, что скачет к ним отряд из буденновской конницы. А командует отрядом тем Григорий Буйнов. Молва об этом Буйнове шла нехорошая, что особенно он лютует над священниками и церковными людьми. Передали это батюшке-настоятелю и предложили ему уехать из села от греха подальше. А он говорит: «Стар я от врагов Божиих бегать, да и власы главы моей седой все изочтены Господом. Если будет Его Святая воля — пострадаю, но не как наемник, а как пастырь, который овец своих должен от волков защищать». Молодой священник быстро собрался: схватил жену, детишек, скарб на телегу кое-какой покидал — и в степь. Но не избег мученического венца, его Господь прямо на отряд Гришки вывел, и тут же порубили их сабельками. А как к селу подскакали ироды окаянные, к ним навстречу в белом облачении с крестом вышел батюшка-настоятель. Подлетает к нему на коне Григорий, как рубанет саблей со всего плеча, так рука-то, в которой крест держал, отлетела от батюшки. Развернул коня и рубанул во второй раз. Залилась белая риза кровью алой. Когда хоронили батюшку, то руку его в гроб вместе с крестом положили, так как не могли крест из длани батюшкиной вынуть. А за день до этого одной блаженной в их селе сон снился. Видит она батюшку в белых ризах, а рука в отдалении на воздусе с крестом. Когда рассказала сон людям, никто не мог понять, почему рука отдельно от тела.
— Ужасная кончина, — сокрушенно вздохнул отец Петр и перекрестился. — Не приведи, Господи. Степка, тоже перекрестившись, прошептал:
— Блаженная кончина… — и, задумавшись, загрустил.
Вспомнил, как ему, маленькому мальчику, мама по вечерам читала жития святых, в основном это были мученики или преподобные. Он, затаив дыхание, слушал и мысленно переносился во дворцы императоров-язычников и становился рядом с мучениками. Как-то он спросил маму:
— А можно нам тоже пойти во дворец к императору и сказать ему, что мы христиане? Пусть мучает.
— Глупенький, наш Император сам христианин и царствует на страх врагам Божиим. Мученики были давно, но и сейчас есть место для подвигов во имя Христа. Например, подвижники в монастырях, — и читала ему о преподобных Сергии Радонежском и Серафиме Саровском.
Воображение Степки переносило его в дремучие леса к святым кротким подвижникам, он вместе с ними строил деревянный храм, молитвой отгонял бесов и кормил из рук диких медведей. Степан стал мечтать о монастырской жизни. Грянувшие революция и гражданская война неожиданно приблизили эту детскую мечту. Николай Трофимович Коренев, вернувшись с германского фронта, недолго побыл в семье, ушел в белую добровольческую армию. Мать, бросив работу в местной больнице, ушла
вслед за отцом сестрой милосердия, оставив сына на попечение своего дяди, настоятеля монастыря архимандрита Тавриона. Вскоре монастырь заняла дивизия красных. Насельников выгнали, а отца Тавриона и еще нескольких монахов отвели в подвал, и больше они не возвращались. Степан скитался, голодал, пока не прибился к Покровской церкви в должности пономаря и чтеца.
Встав из-за стола, перекрестившись на образа, он прочел про себя благодарственную молитву и подошел к отцу Петру под благословение.
— Благослови, батюшка, пойти в алтарь прибраться.
— Иди, Степка, да к службе все подготовь. Завтра Собор Иоанна Предтечи.
Когда Степан вышел, удовлетворенно сказал:
— Понятливый юноша, на святках восемнадцать исполнилось, так вот беда: сирота, поди. От отца с матерью никаких вестей, а он все ждет их,
В это время к селу Покровка двигалась вереница запряженных саней. Санный поезд сопровождал конный отряд красноармейцев во главе с командиром Артемом Крутовым. В каракулевой шапке, перевязанной красной лентой, в щегольском овчинном полушубке, препоясанном кожаной портупеей, с маузером на правом боку и с саблей на левом, он чувствовал себя героем и вершителем человеческих судеб. Но истинным хозяином положения был не он, а человек, развалившийся в передних санях. Закутанный в длинный тулуп, он напоминал нахохлившуюся хищную птицу, какого-нибудь стервятника. Из-под пенсне поблескивал настороженный взгляд слегка выпуклых глаз, завершали его портрет крупный с горбинкой нос и маленькая бородка под пухлыми губами. Это был уполномоченный губкома по продразверстке Илья Соломонович Коган. Крутов, поравнявшись с его санями, весело прокричал:
— Ну, Илья Соломоныч, сейчас недалеко осталось, вон за тем холмом село, как прибудем, надо праздничек отметить, здесь хорошую бражку гонят! А с утречка соберем хлебушек — и домой.
— Пока вы, товарищ Крутов, праздники поповские будете отмечать, эти скоты до утра весь хлеб попрячут — ищи потом. Надо проявить революционную бдительность, контра не дремлет.
— Да какие они контра? Мужики простые, пару раз с маузера пальну — весь хлеб соберу.
— В этом видна, товарищ Крутов, ваша политическая близорукость. Как вы изволили выразиться, простые крестьяне — прежде всего собственники, с ними коммунизм не построишь.
— А без них в построенном коммунизме с голоду сдохнешь, — загоготал Крутов.
— Думайте, что говорите, товарищ Крутов, с такими разговорами вам с партией не по пути. Не посмотрим и на ваши боевые заслуги перед советской властью.
— Да я так, Илья Соломоныч, — примирительно сказал Крутов, — холодно, вот и выпить хочется, а с контрой разберемся, у нас не забалуешь. Вы мне задачу означьте — и будет все как надо, комар носу не подточит.
— Я уже вам говорил, товарищ Крутов, наш главный козырь — внезапность. Разбейте бойцов на группы по три человека к каждым саням, как въезжаем в село — сразу по избам и амбарам, забирайте все подряд, пока они не успели опомниться.
— А поскольку им на рот оставлять? — поинтересовался Крутов.
— Ничего не оставлять, у них все равно где-нибудь запас припрятан, не такие уж простые, как вы думаете. А пролетариат, движущая сила революции, голодает, вот о чем надо думать!
Не успел Коган договорить, как вдали словно гром прогремел колокол, а потом зачастил тревожно и гулко, всколыхнув тишину полей и перелесков.
— Набатом бьет, — заметил Крутов. — Это не к службе, что-то у них стряслось, пожар, может.
— Думаю, ваши такие «простые мужики» о нашем приближении предупреждают, контра, — и Коган зло выругался. — Только как они нас издали увидели? Распорядись, товарищ Крутов, ускорить передвижение.
А увидел отряд продразверстки Степан. Прибрав в алтаре, почистив семисвечник и заправив его лампадным маслом, разложил облачение отца Петра и решил подняться на колокольню. Любил он в свободные часы полюбоваться с высоты звонницы, откуда открывалась удивительная панорама перелесков и полей, на окрестности села. С собой брал всегда полевой бинокль — подарок отца. Отец вернулся с фронта как раз на Рождество, а на третий день у Степана день Ангела, в празднование памяти его небесного покровителя первомученика и архидиакона Стефана. После службы, когда все пришли домой и сели за именинный пирог, отец достал бинокль.
— На, Степка, подарок, трофейный немецкий, четырнадцатикратного приближения. Будет тебе память обо мне.
С тех пор Степан с биноклем не расставался, даже когда изгнанный из монастыря красными скитался голодный, все равно не стал отцов подарок менять на хлеб.
Любуясь с колокольни окрестностями, Степан заметил вдали за перелесками на холме какое-то движение. Он навел бинокль и аж отшатнулся от увиденного: остроконечные буденовки — сомнений не было: красные. «Наверное, продразверстка, о которой говорил Никифор Акимович». Первый порыв был бежать вниз предупредить, но на это не хватит времени, пока все село обежишь, они
уж тут будут. Рука машинально взялась за веревку иоль-шого колокола. Степан перекрестился и ударил в набат. Он видел сверху, как выбегают из изб люди, многие с ведрами, и растерянно озираются, но, не видя пожара, бегут к церкви. Убедившись, что набат созвал всех, Степан устремился вниз, навстречу ему, запыхавшись, бежали отец Петр и Никифор Акимович.
— Ты что, Степан, белены объелся?! — закричал отец Петр. Степан рассказал об увиденном.
— Значит, так, мужики, — коротко распорядился Никифор, — хлеб в сани, сколько успеете, и дуйте за кривую балку к лесу, там схороним до времени.
Въехав в село и наведя следствие, Коган распорядился посадить отца Петра и Степана под замок в сарай и приставить к ним часового. Прилетел на взмыленной лошади Крутов:
— Ну, Илья Соломоныч, гуляем и отдыхаем!
— Да ты что, товарищ Крутов, издеваешься, под ревтрибунал захотел?! — вспылил Коган. — Сорвано задание партии: хлеба наскребли только на одни сани.
— Да не горячись ты, Соломоныч, договорить не дал: нашелся весь хлеб, за оврагом он. Надо звонарю спасибо сказать, помог хлеб за нас собрать, — загоготал Крутов.
— Кому спасибо сказать разберемся, а сейчас вели хлеб привезти и — под охрану. — После уж примирительно спросил: — Как это тебе так быстро удалось?
Крутов, довольно хмыкнув, похлопал себя по кобуре:
— Товарищ маузер помог, кое-кому сунул его под нос — и дело в шляпе.
Когда уже сидел за столом, Крутов, опрокинув в рот стопку самогона и похрустев бочковым огурчиком, спросил:
— А этих, попа с монашком, отпустить что ли?
Коган как-то задумался, не торопясь и не обращаясь ни к кому, произнес:
— Этот случай нам на руку, надо темные крестьянские массы от религиозного дурмана освобождать. Прикажите привести попа, будем разъяснительную работу проводить.
Когда отца Петра втолкнули в избу, он перекрестился на передний угол и перевел вопросительный взгляд на Крутова, считая его за главного. Коган, прищурив глаза, презрительно разглядывая отца Петра, заговорил:
— Мы вас не молиться сюда позвали, а сообщить вам, что губком уполномочил вас, саботажников декрета советской власти о продразверстке, расстреливать на месте без суда и следствия.
— Господи, да разве я саботажник? Степка — он по молодости, по глупости, а так, никто и не помышлял против. Мы только Божью службу правим, ни во что не вмешиваемся.
— Ваши оправдания нам ни к чему, вы можете спасти себя только конкретным делом.
— Готов, готов искупить вину, — обрадовался отец Петр.
— Вот-вот, искупите. Мы соберем сход, где вы и ваш помощник перед всем народом откажетесь от веры в Бога и признаетесь людям в преднамеренном обмане, который вы совершали под нажимом царизма, а теперь, когда советская власть дала всем свободу, вы не намерены дальше обманывать народ.
— Да как же так? — забормотал отец Петр. — Это невозможно, это немыслимо.
— Вот идите и помыслите. Через полчаса дадите ответ.
— Иди, поп, да думай быстрей! — заорал изрядно захмелевший Крутов. — А то я тебя, контру, лично шлепну, и твою попадью, и вообще всех в расход пустим.
Отец Петр вспомнил заплаканную матушку и деток, сердце его сжалось, и он закричал:
— Помилуйте, а их-то за что?
— Как ваших пособников, — пронизывая колючим взглядом отца Петра, тихо проговорил Коган.
Но именно эти тихо сказанные слова на отца Петра подействовали больше, чем крик Крутова. Он осознал до глубины души, что это — не пустые обещания, и сердце его содрогнулось.
— Я согласен, — сказал он упавшим голосом.
— А ваш юный помощник? — спросил Коган.
— Он послушный, как я благословлю, так и будет.
— Кравчук, — обратился Коган к одному из красноармейцев, — собирай народ, а этого, — ткнул он пальцем в сторону отца Петра, — увести до времени.
Ошарашенный и подавленный отец Петр, когда его привели в сарай, молча уселся на бревно и, обхватив голову руками, стал лихорадочно размышлять. В сознании стучали слова Христа: «Кто отречется от меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным».
«Но ведь апостол Петр тоже трижды отрекся от Господа, а затем раскаялся. И я, как уедут эти супостаты, покаюсь перед Богом и народом. Господь милостивый — простит и меня. А то как же я матушку с детьми оставлю, а могут и ее… Нет, я не имею права распоряжаться их жизнями».
Степан сидел в стороне и молился. На душе его было светло и как-то торжественно. Дверь сарая открылась.
— Ну выходи, контра!
Отец Петр встал и на ватных ногах пошел, продолжая лихорадочно размышлять, ища выхода из создавшегося положения и не находя его. Он увидел на крыльце того самого комиссара, который угрожал ему расстрелом, сейчас он размахивал руками, что-то громко говорил толпе собравшихся крестьян. Подойдя поближе, отец Петр услышал:
— Сегодня вы протянули руку помощи голодающему пролетариату, а завтра пролетариат протянет руку трудовому крестьянству. Этот союз между рабочими и крестьянами не разрушить никаким проискам империализма, который опирается в своей борьбе со светлым будущим на невежество и религиозные предрассудки народных масс. Но советская власть намерена решительно покончить с религиозным дурманом, этим родом сивухи, отравляющим сознание трудящихся и закрывающим им дорогу к светлому царству коммунизма. Ваш священник Петр Трегубое как человек свободомыслящий больше не желает жить в разладе со своим разумом и совестью, которые подсказывают ему, что Бога нет, а есть лишь эксплуататоры-епископы во главе с главным контрреволюционером патриархом Тихоном. Об этом он сейчас вам сам скажет.
Мужики слушали оратора, понурив головы, и ровным счетом ничего не понимали. Услышав, что Бога нет, они встрепенулись и с недоумением воззрились на говорившего, а затем с интересом перевели взгляд на отца Петра: мол, что он скажет. Отец Петр, не поднимая глаз, проговорил:
— Простите меня, братья и сестры, Бога нет, и я больше не могу вас обманывать. Не могу, — вдруг навзрыд проговорил он, а затем прямо закричал: — Вы понимаете, не могу!
Ропот возмущения прокатился по толпе. Вперед отстраняя отца Петра, вышел Коган.
— Вы понимаете, товарищи, как трудно это признание далось Петру Аркадьевичу, бывшему вашему священнику, он мне сам признался, что думал об этом уже давно, но не знает, как вы к этому отнесетесь.
— Так же, как и к Иуде! — крикнул кто-то из толпы. Но Коган сделал вид, что не услышал этих слов, и продолжил:
— Вот и молодой церковнослужитель Степан думает так же, и это закономерно, товарищи: им, молодым, жить при коммунизме, где нет места церковному ханжеству и религиозному невежеству, — и он подтолкнул побледневшего Степана вперед. — Ну, молодой человек, скажите народу слово.
Отец Петр, как бы очнувшись, понял, что он не подготовил Степана и должен сейчас что-то сделать. Подойдя сбоку, он шепнул ему на ухо:
— Степка, отрекайся, расстреляют, ты молодой, потом на исповеди покаешься, я дам разрешительную.
К нему повернулись ясные, голубые глаза Степана, полные скорби и укора:
— Вы уже, Петр Аркадьевич, ничего не сможете мне дать, а вот Господь может мне дать венец нетленный — разве я могу отказаться от такого бесценного дара? — и, повернувшись к народу, твердо и спокойно произнес: — Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз…
Договорить ему не дали — Коган, переходя на визг, закричал:
— Митинг закончен, расходитесь! — и, выхватив револьвер, для убедительности пальнул два раза в воздух.
Зайдя в избу, Коган подошел к столу, налил полный стакан самогонки и залпом осушил его.
— Ого! — удивился Крутов. — Вы, Илья Соломоныч, так и пить научитесь по-нашему.
— Молчать! — взвизгнул тот.
— Но-но, — угрожающе произнес Крутов. — Мы не в царской армии, а вы не унтер-офицер. Хотите я шлепну этого сопляка, чтоб другим неповадно было?
— Не надо, — успокаиваясь, сел на лавку Коган. — Ни в коем случае теперь как раз нельзя из него мученика за веру делать. Надо сломить его упрямство, заставить, гаденыша, отречься. Это главная идеологическая задача на данный момент.
— Что тут голову ломать, Илья Соломоныч, — в прорубь этого кутенка пару раз обмакнуть, поостынет кровь молодая, горячая — и залопочет. Не то что от Бога, от всех святых откажется, — засмеялся Крутов.
— Хорошая мысль, товарищ Крутов, — похвалил Коган. — Так, говорите, сегодня у них праздник Крещения? А мы устроим наше, красное крещение. Возьми двух красноармейцев понадежней, забирайте щенка — и на речку.
— Брюханова с Зубовым возьму, брата родного в прорубь опустят — глазом не моргнут.
По дороге домой отец Петр ощущал странную опустошенность, прямо как будто в душе его образовалась холодная темная пропасть без дна. Войдя в избу, он с видом побитой собаки прошел по горнице и сел у стола на свое место в красном углу.
Матушка подошла и молча поставила перед ним хлеб и миску со щами. Он как-то жалостливо, словно ища поддержки, глянул на нее, но супруга сразу отвернулась и, подойдя к печи, стала греметь чугунками. Дети тоже не поднимали на него глаз. Младшие забрались на полати, старшие сидели на лавке, уткнувшись в книгу. Четырехлетний Ванятка ринулся было к отцу, но тринадцатилетняя Анютка перехватила брата за руку и, испуганно глянув на отца, увела его в горницу. Отцу Петру до отчаяния стало тоскливо и неуютно в доме. Захотелось разорвать это молчание, пусть через скандал. Он
вдруг осознал, что затаенно ждал от матушки упреков и укоров в свой адрес, тогда бы он смог оправдаться и все бы разъяснилось, его бы поняли, пожалели и простили, если не сейчас, то немного погодя. Но матушка молчала, а сам отец Петр не находил сил, чтобы заговорить первым, он словно онемел в своем отчаянии и горе. Наконец молчание стало невыносимо громким, оно стучало, как огромный молот, по сознанию и сердцу. Отец Петр пересилил себя, вышел из-за стола и, бухнувшись на колени, произнес:
— Простите меня Христа ради…
Матушка обернулась к нему, ее взгляд, затуманенный слезами, выражал не гнев, не упрек, а лишь немой вопрос: «Как нам жить дальше?»
Увидев эти глаза, отец Петр почувствовал, что не может находиться в бездействии, надо куда-то бежать, что-то делать. И, еще не зная, куда бежать и что делать, он решительно встал, накинул полушубок и торопливо вышел из дома. Ноги понесли его прямо через огороды к реке, туда, где сегодня до ранней зорьки он совершал Великое освящение воды. Дойдя до камышовых зарослей, он не стал их обходить, а пошел напрямую, ломая сухие стебли и утопая в глубоком снегу. Но, не дойдя до речки, вдруг сел прямо на снег и затосковал, причитая:
— Господи, почто Ты меня оставил? Ты ведь вся веси, Ты веси, яко люблю Тя! — славянский язык Евангелия ему представлялся единственно возможным для выражения своих поверженных чувств.
Крупные слезы потекли из его глаз, исчезая в густой темной с проседью бороде. Пока он так сидел, сумерки окончательно опустились на землю. Отец Петр стал пробираться к реке. Выходя из камыша, он услышал голоса, остановился, присматриваясь и прислушиваясь. Яркий месяц и крупные январские звезды освещали мягким голубым светом серебристую гладь замерзшей реки. Крест, вырубленный во льду, уже успел затянуться тонкой коркой, припорошенной снегом, только в его основании зияла темная прорубь около метра в диаметре. У проруби копошились люди. Приглядевшись, отец Петр увидел двух красноармейцев в длинных шинелях, державших голого человека со связанными руками, а рядом на принесенной коряге сидел еще один военный в полушубке и попыхивал папироской. Человек в полушубке махнул рукой, и двое красноармейцев стали за веревки опускать голого человека в прорубь. Тут сознание отца Петра пробило, он понял, что этот голый человек — Степка.
Брюханов с Зубовым, подержав Степана в воде, снова вытащили его и поставили перед Крутовым, полушубок на котором был расстегнут, шапка сидела набекрень, и по всему было видно, что он изрядно пьян.
— Ну, — громко икнув, сказал Крутов, — будем осознавать сейчас, или вам не хватает аргументов? Так вот они, — и он указал пальцем на прорубь.
Степан хотел сказать, что он не откажется от своей веры, но не мог открыть рот — все сковывал холод, его начало мелко трясти. Но он собрал все усилия воли и отрицательно покачал головой.
— Товарищ командир, что с ним возиться? Под лед его, на корм рыбам — и всех делов, — сказал Брюханов, грязно выругавшись.
— Нельзя под лед, — нахмурился Крутов. — Комиссар ждет от него отреченья от Бога, хотя хрен мы от него чего добьемся. Помню, в одном монастыре игумену глаза штыком выкололи, а он знай себе молитву читает да говорит: «Благодарю Тебя, Господи, что, лишив меня зрения земного, открыл мне очи духовные видеть Твою Небесную славу». Фанатики хреновы, у них своя логика, нам, простым людям, не понятная!
— Сам-то Соломоныч в тепло пошел, а нам тут мерзнуть, — заскулил Зубов и, повернувшись к Степану, заорал: — Ты че, гад ползучий, контра, издеваешься над нами!? — и с размаху ударил Степана в лицо.
Из носа хлынула горячая кровь, губы у Степана согрелись, и он тихо проговорил:
— Господи, прости им, не ведают, что творят… Не расслышав, что именно говорит Степан, но уловив слово «прости», Крутов захохотал:
— Видишь, прощения у тебя просит за то, что над тобой издевается, так что ты уж, Зубов, прости его, пожалуйста.
Холодная пропасть в душе отца Петра при виде Степана стала заполняться горячей жалостью к страдальцу.
Хотелось бежать к нему, как-то помочь. Но что он может против трех вооруженных людей? Безысходная отчаянность заполнила сердце отца Петра, и он, обхватив голову руками, тихо заскулил, словно пес бездомный, а потом нечеловеческий крик, скорее похожий на вой, вырвался у него из груди, унося к небу великую скорбь за Степана, за матушку и детей, за себя и за всех гонимых страдальцев земли русской. Этот вой был настолько ужасен, что вряд ли какой зверь мог бы выразить в бессловесном звуке столько печали и отчаяния.
Мучители вздрогнули и в замешательстве повернулись к берегу. Крутов выхватил маузер, Брюханов передернул затвор винтовки. Вслед за воем раздался вопль:
— Ироды проклятые, отпустите его, отпустите безвинную душу!
Тут красноармейцы разглядели возле камышей отца Петра.
— Фу, как напугал, — облегченно вздохнул Зубов, но тут же зло крикнул: — Ну погоди, поповская рожа! — и устремился к отцу Петру.
Брюханов с винтовкой в руках в обход отрезал отцу Петру путь к отступлению. Отец Петр побежал на лед, поскользнувшись, упал, тут же вскочил и кинулся сначала вправо, но чуть не наткнулся на Зубова, развернулся влево — а там Брюханов. Тогда отец Петр заметался, как затравленный зверь, — это рассмешило преследователей. Зубов весело закричал:
— Ату его!
И, покатываясь со смеху, они остановились. Зубов, выхватив нож и поигрывая им, стал медленно надвигаться на отца Петра. Тот стоял в оцепенении.
— Сейчас мы тебя, товарищ попик, покромсаем на мелкие кусочки и пошлем их твоей попадье на поминки.
Отцу Петру вдруг пришла отчаянная мысль. Он резко развернулся и что есть силы рванул к проруби в верхней части креста, о которой преследователи ничего не подозревали.
Не ожидая такой прыти от батюшки, Зубов с Брюхано-вым переглянулись недоуменно и бросились следом. Тонкий лед с хрустом проломился под отцом Петром, и уже в следующее мгновение Зубов оказался рядом с ним в темной холодной воде. Брюханов сумел погасить скорость движения, воткнув штык в лед, но, упавши, прокатился до самого края проруби. Зубов, вынырнув из воды с выпученными от страха глазами, — схватился за кромку льда и заверещал что было сил:
— Тону, тону, спасите! Брюханов, руку, дай руку Бога ради!
Брюханов протянул руку. Зубов судорожно схватился за нее сначала одной рукой, а потом и другой. Брюханов,
поднатужившись, стал уже было вытягивать Зубова, но подплывший сзади отец Петр ухватился за него. Такой груз Брюханов удержать не мог, но и освободиться от намертво вцепившегося в его руку Зубова тоже не мог и, отчаянно ругаясь, стал сползать в прорубь, в следующую минуту оказавшись в ледяной воде. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но в этот момент подбежал Кругов. Он подобрал валявшуюся винтовку и ударил прикладом в лицо отцу Петру. Отец Петр, отцепившись от Зубова, ушел под воду.
Кругов быстро вытянул красноармейцев на лед. Из-под воды снова показался отец Петр.
— Господи, Ты веси, Ты вся веси, яко люблю Тя! — с придыханием выкрикнул он.
— Вот ведь какая гадина живучая, — озлился Зубов. — Дайте я его сам, — и, взяв винтовку, ударил отца Петра, целясь прикладом в голову, но попал вскользь, по плечу.
Отец Петр подплыл к противоположному краю проруби, ухватившись за лед, поднапрягся, пытаясь вскарабкаться, непрестанно повторяя:
— Ты веси, яко люблю Тя!
— Ну ты, Зубов, ничего не можешь толком сделать, — осклабился Крутов и, достав маузер, выстрелил в спину уже почти выбравшегося отца Петра.
Тот, вздрогнув, стал сползать в воду, поворачиваясь лицом к Крутову. Глаза его выражали какое-то детское удивление. Он вдруг широко улыбнулся, проговорив:
— Но яко разбойника помяни мя…
Дальше он уже сказать ничего не мог, так с широко открытыми глазами и стал медленно погружаться в воду. Крутов лихорадочно стал стрелять вслед уходящему под воду отцу Петру, вгоняя в прорубь пулю за пулей, выстрелил всю обойму. Вода в проруби стала еще темнее от крови.
— И впрямь красное крещение, — пробормотал Крутов, сплюнув на снег и засунув маузер в кобуру, скомандовал: — Пошли в избу, выпьем за упокой души.
— А с этим как? — кивнул в сторону Степана Зубов.
— Пусть с ним комиссар разбирается, — махнул рукой Крутов.
Степан лежал в горнице дома отца Петра, и матушка меняла ему холодные компрессы на лбу: он весь горел от жара. Вдруг Степан открыл глаза и зашептал что-то. Матушка наклонилась к нему, чтобы расслышать.
— Что же, матушка, вы их в дом не приглашаете?
— Кого, Степа? — стала озираться матушка.
— Так вот они стоят у двери: мои папа, мама, отец Таврион.
— Бедный мальчик, он бредит, — всхлипнула матушка.
— Я не брежу, матушка, я просто их вижу, папа в белом нарядном мундире с Георгиевскими крестами, мама в белом платье и отец Таврион, тоже почему-то в белом, ведь монахи в черном только бывают. Вот и отец Петр с ними. Значит, Господь его простил! Они зовут меня, матушка, с собой. Почему вы их не видите, матушка? Помогите мне подняться, я пойду с ними, — и Степан, облегченно вздохнув и улыбнувшись промолвил: — Я пошел, матушка, до свидания…
— До свидания, Степа, — сказала, смахнув слезу матушка, и осторожно прикрыла веки больших голубых детских глаз, застывших в ожидании Второго и славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа.
Самара — с. Нероновка, август-сентябрь 2002 г.
ДРУЗЬЯ
Архиепископ Палладий сидел в своем любимом кресле, углубившись в чтение толстого литературного журнала. Вечерние часы по вторникам и четвергам он неизменно отдавал чтению современной прозы, считая, что архиерей обязан быть в курсе всех литературных новинок. Взглянув на часы, снял очки и, отбросив журнал, с раздражением подумал: «Чего это сын казахского народа полез в христианскую тему, какое-то наивное подражание Булгакову. Да и главный герой, семинарист Авель, какой-то неправдоподобный. Хотя бы съездил в семинарию, посмотрел. Наверное, когда мусульманину приходится читать писателя-христианина, пытающегося импровизировать на тему магометанства, тоже становится смешно от наивности».
Его размышления прервал телефонный звонок. Владыка поднял трубку и важно произнес:
— Я вас слушаю.
— А я вот говорю и кушаю, — раздалось в трубке, и следом послышался смех.
Владыка, растерявшись вначале от такой наглости, услышав смех, сразу признал своего друга и однокашника по семинарии митрополита Мелитона и, расплывшись в улыбке, в том же тоне отвечал:
— Приятного аппетита, Владыка, но будь осторожен: так подавиться недолго.
— Не дождетесь, не дождетесь, — рассмеялся митрополит.
— Ну не тяни резину, говори: с хорошим аль с плохим звонишь?
— А это с какой стороны посмотреть: для меня — так с хорошим, а тебе одни хлопоты.
— Чего это? — забеспокоился Палладий.
— Да вот в отпуск у Святейшего отпросился, еду к тебе в гости.
— О преславное чудесе! Мелитоша дорогой, наконец-то ты вспомнил своего друга.
— Не юродствуй, брат, мы с тобой каждый год в Москве видимся.
— На то она и Москва, но к себе в гости заманить тебя никак не удавалось, а уж как белый клобук получил, совсем занятым стал, ну да, видать, Господь услышал молитву мою.
Владыка лично поехал на вокзал встречать дорогого гостя. Митрополит вышел из вагона в длинном летнем плаще, лакированных черных ботинках и сером берете, без архиерейского облачения, так как визит его был неофициальным. Но шлейф запаха розового масла и дорогих бл. аговоний стелился за ним как невидимая архиерейская мантия. Палладий тоже был в цивильном. Они крепко обнялись, расцеловались и неторопливой походкой двинулись через вокзал к выходу. Архиерейский водитель Александр Павлович, взяв один из двух здоровенных чемоданов у келейника митрополита, обогнав Владыку, устремился вперед, к машине, келейник кинулся вслед за ним. Вокзал был полон народу, но архиереи, не обращая ни на кого внимания, шли с такой важностью и уверенностью, как будто они шествовали по своему собору к кафедре. И люди, чувствуя исходящую от этих двух импозантных бородачей власть, безропотно расходились, уступая дорогу.
Обед, начавшийся в архиерейских покоях, плавно перешел в ужин.
— А теперь, Владыка, отведай вот это блюдо, рецепт его ты не найдешь ни в одной поваренной книге.
— Сжалься надо мной, — взмолился митрополит. — Неужто решил меня сегодня прикончить таким способом? Все очень вкусно, просто нет слов, и ты знаешь, я никогда не страдал отсутствием аппетита, но, увы, это сверх моих сил.
— Тогда пойдем, Владыка, в беседку пить чай.
Круглый стол в беседке весь был уставлен сладостями и фруктами. Но оба архиерея, не притрагиваясь к десерту и попивая душистый чай с мятой, завели оживленную беседу на тему «А ты помнишь».
— А ты помнишь, — восклицал один, — профессора Георгиевского?
— А как же? — отвечал другой. — Умнейший был преподаватель, Царство ему Небесное, таких уж сейчас профессоров нет. А ты помнишь архимандрита Варсонофия?
— Конечно! Великий был старец. Помню, как-то подошел он ко мне и говорит…
Темный сад окутала ночная тьма, легкий ветерок разогнал сгустившийся над клумбою цветочный запах, который достиг беседки. Владыка вдохнул полной грудью прохладу вечера, произнес:
— Благодать у тебя, Палладий… Вели-ка ты постелить мне в саду.
— Ну что ты, Владыка, еще какая муха или комар укусит тебя, а мне потом отвечать перед Синодом. Пойдем, брат, наверх, там тоже прохладно и свежо. После завтрака поедем в лес за грибами.
Рано утром митрополит проснулся от громких голосов во дворе. Взглянув в окно, увидел, как Палладий лично отдает распоряжения своему водителю Александру Павловичу, чтобы тот чего не забыл. Увидев Мелитона, крикнул:
— Доброе утро, Владыка, через полчаса завтрак. Когда собрались, Палладий, посмотрев на ботиночки митрополита, сказал:
— Для леса обувка не подойдет, тащи, Александр Павлович, мои старые боты. Поедем в лес не на «Волге», а вот на этом вездеходе, — указал Владыка на стоящий во дворе темно-зеленый «УАЗик». — Военные списали, а я у них купил, специально, чтобы на рыбалку и по грибы ездить. Машина — зверь, никакого бездорожья не боится.
Отъехав километров сорок от города, водитель свернул прямо в лес, и по стеклам машины захлестали упругие ветви деревьев.
— Нет, ты только видел! — хвалился Владыка. — Все ей нипочем.
Заметив, что Александр Павлович собирается объезжать здоровую лужу, митрополит съехидничал:
— А вот и почем!
— Поворачивай, Павлович, прямо! — взревел уязвленный Палладий.
Водитель покорно поехал в лужу, «УАЗик» залез почти по брюхо в грязь и забуксовал.
— Что теперь прикажете делать? — кисло улыбнулся митрополит.
— Прикажу включить блокировку и пониженную передачу, — пряча свое волнение в нарочито спокойном тоне, произнес Палладий.
Водитель переключил два рычажка, и машина, зарычав сердито, поползла по грязи, все увереннее набирая ход.
— Действительно, машина — зверь, — восхитился митрополит.
— То-то, Владыка! — торжествовал Палладий. Выехав на солнечную поляну, окруженную с одной стороны елями, с другой — березами, остановились.
— Вот там, в ельничке, маслят пособираем, а в березовый за белыми пойдем.
Маслят действительно набрали за час по полной корзине. А вот белых архиепископ только пять нашел да с полкорзинки подберезовиков и подосиновиков. Митрополит и вовсе три гриба отыскал.
— Да, — сокрушался Палладий, — кто-то здесь до нас потрудился. В прошлом году, веришь ли, Владыка, пять полных корзин на этом месте взял. Пойдем обедать, а после еще в одно место проедем.
На поляне бессменный водитель, он же старший иподиакон архиепископа Александр Павлович уже накрыл обед на раскладном столике, приставив к нему два походных раскладных креслица. Из термоса разлил суп с фрикадельками из осетрины, на второе — судак, запеченный в яйце.
Владыка Палладий достал маленькую походную фляжку из нержавейки и разлил в пластмассовые кружечки душистый коньяк.
— Ну, Владыка митрополит, благослови нашу походную трапезу.
Митрополит повернулся на восток, прочел молитву и благословил стол.
— Что-то так хорошо здесь, может, не поедем больше никуда? — предложил он.
— Сделаем три кущи: мне, тебе и Александру Павловичу — и будем здесь жить, — засмеялся Палладий. —
Вчера в саду рвался остаться, сегодня в лесу. Из тебя не синодал, а анахорет-пустынник неплохой получился бы.
— Такое житие надо было от юности выбирать, а сейчас мы с тобой только в архиереи годимся. Из нас, наверное, и путных настоятелей не выйдет.
— Твоя правда, Владыка, никуда мы больше не годимся, — поддакнул Палладий, выпивая коньячок.
После обеда, попив кофейку, Владыки прогуливались по поляне, пока Александр Павлович убирал посуду и раскладную мебель в багажник. Затем все сели в зверь-машину и поехали по просеке в глубь леса. Побродили по лесу полчаса и, ничего не обнаружив, решили возвращаться домой.
Вдруг Владыка Палладий спросил водителя:
— Слушай, Александр Павлович, а что за этими холмами? Мы ни разу туда не ездили…
— Там, Владыка, прекрасная дубовая роща.
— Все, едем туда, — распорядился архиерей.
Прямо перед ними был высокий холм. Круто вверх на него уходила дорога, но было сразу заметно, что по ней мало кто ездил.
Измерив глазом дорогу, Александр Павлович предложил:
— Давайте, Владыка, в объезд, тут километров пятнадцать-двадцать будет. Подъем затяжной и очень крутой, можем не вытянуть: двигатель поизносился, слабоватый.
— Ну вот тебе и хваленая машина, — стал подтрунивать митрополит.
— Благословляю напрямую! — решительно сказал уязвленный архиепископ.
— Как скажете, Владыка, — покорно вздохнул Александр Павлович.
«УАЗик» взревел и понесся в гору, но с каждой минутой уверенный ход его становился все тише. Александр Павлович переключился на первую скорость. До спасительной вершины оставалось метров пятьдесят, когда на дорогу вышло стадо баранов. Автомобиль, дернувшись, заглох и остановился, затем покатился назад. Александр Павлович нажал до отказа на педаль тормоза, но автомобиль продолжал катиться вниз, набирая скорость. Водитель дернул ручник и резко вывернул влево. Автомобиль, качнувшись вправо, все же устоял и остановился поперек дороги. Александр Павлович, выскочив из машины, заглянул под днище и сразу понял причину: тормозной шланг лопнул.
Стали спускаться, притормаживая скоростью заведенной машины. Двигатель ревел, как раненый зверь, машину трясло, но все же она неслась вниз с ускорением. Уже в конце спуска как-то мягко покатилась по накатанной колее.
— Все, Владыка, кажется, приехали, — печально сказал Александр Павлович.
Архиереи прогуливались около машины, пока водитель, лежа под ней, что-то откручивал. Наконец он вылез и сокрушенно сообщил:
— Ну так и есть, как я предполагал, рассыпался диск сцепления. Сами мы, Владыка, ехать не сможем, только на буксире. Если вы благословите, то я схожу в ближайшую деревню за подмогой.
Архиепископ растерянно развел руками, а митрополит расхохотался:
— Ну, как там Александр Сергеевич Пушкин говаривал:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». Взял бы себе новую «Ниву» и сейчас бы беды не знал. А хвастал: военная, ничего не боится. Да ее потому и списали, что сама она ничего не боится, а на ней-то страшно уже ездить. — Перестав смеяться, спросил Александра Павловича: — Где тут ближайшая деревня?
— По дороге в ту сторону, километра три-четыре, Благодатовка будет, я быстро схожу.
— Нет, брат, ты оставайся здесь, а мы с твоим архиереем тряхнем стариной, прогуляемся. Погода хорошая, прогулка на пользу пойдет, а то весь мир только из окна автомобиля видим, так и ходить разучимся.
Владыка Палладий как-то вяло согласился:
— Ну раз желаешь, пойдем.
И два архиерея, надев подрясники и подпоясав их поясками, не торопясь зашагали в указанном направлении. С одной стороны дороги колосилась пшеница, на другой, холмистой, — трава да полевые цветы. Давно перевалило за полдень, солнце припекало не так сильно, легкий ветерок обдувал путников, а тихий шелест травы и стрекотание кузнечиков услаждали слух. Некоторое время шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Потом вдруг митрополит рассмеялся:
— Ты знаешь, я вспомнил, как студентами я, ты и Колька Терентьев угнали ректорский «ЗИМ» покататься, а он в дороге сломался — вот уж бледный у нас был вид! Все, думаю, вещи домой собирать надо, выгонят, как пить дать.
— Так и выгнали бы, если б не Николай, он же всю вину на себя взял.
— Оно, конечно, благородно, но я его не просил об этом, он сам захотел. Кстати, где он сейчас, ты ничего о нем не знаешь?
— Как же не знаю, он в моей епархии служит, и по стечению обстоятельств мы сейчас прямо к нему шагаем, в Благодатовку.
Митрополит резко остановился:
— Да не может быть!
— Почему же не может, если так и есть?
— Да-а, неисповедимы пути Господние, ну, значит, так Богу угодно, — и, как-то помрачнев, митрополит решительно зашагал дальше.
— Что с тобой, ты вроде как не рад предстоящей встрече с другом? Мы же, как три мушкетера, были неразлучными друзьями в семинарии.
— Были, так вот судьба разлучила, — печально сказал митрополит.
— Ну что ж, а теперь радуйся, что опять соединяет.
Митрополит ничего не ответил, лишь как-то засопел и ускорил шаг, так что Палладий, едва поспевая за ним, взмолился:
— Куда ты так припустил?! Мы не студенты, давно за шестой десяток перевалило, я так задохнусь.
Митрополит замедлил шаг. Вдруг, остановившись, он схватился за левый бок, повернул к Палладию побледневшее лицо, произнес почти шепотом:
— Ваня, мне чего-то нехорошо, и голова кружится.
Палладия давно уже никто не называл его мирским именем, и, услышав его, он вдруг увидел не грозного митрополита, постоянного члена Синода, а своего близкого и теперь такого родного друга — Мишку Короткова. Слезы покатились из его глаз и, подхватывая падающего Мели-тона, он воскликнул:
— Миша, друг, что с тобой, милый? Я сейчас… Ухватив под мышками обессиленного митрополита, он стал волочь его к стоящему у дороги стогу свежескошенного сена. Привалив друга к стогу и упав рядом с ним, Палладий стал лихорадочно шарить в глубоких карманах подрясника. Наконец достал металлическую колбочку:
— Вот, Миша, валидол, я его всегда с собой ношу, на, положи под язык.
Митрополит молча лежал на сене, устремив взгляд, затуманенный слезой, в бездонное синее небо, по которому бежали редкие пушистые белые облачка. Он вдруг вспомнил, как в далеком детстве любил лежать на траве и наблюдать движение облаков, представляя, что на этих облаках живут ангелы и святые. Много прошло с того времени лет, и сейчас он поймал себя на мысли, что ни разу с тех пор не смотрел вот так на небо — как-то было не до того. А теперь понял: надо было чаще смотреть на небо. Вся жизнь — в какой-то постоянной суете. Вот она прошла, эта жизнь, а он и не заметил.
— Ваня, ты заметил, как жизнь прошла?
— О чем ты говоришь, почему прошла, что за пессимизм? Ты всегда оптимистом был.
— Да я не о том, Ваня.
— А о чем? Ну как, тебе получше?
Палладий не сводил тревожного взгляда с лица своего друга, на щеке которого застыла слеза.
— Я всегда боялся умереть без покаяния, — сказал митрополит, — хорошо, что ты здесь, приими мою исповедь и разреши меня от греха моего.
— У меня епитрахили с собой нет, — растерялся Палладий.
— Эх, Ваня, на старости лет ты совсем в детство впал, дружище. Для чего же тебе дана благодать такого высокого сана? Или забыл уроки по литургике профессора Георгиевского? Да любую веревку или полотенце благослови, на шею надень — вот тебе и епитрахиль.
— Да где же я веревку возьму? — оправдывался архиепископ.
Митрополит стащил поясок со своего подрясника:
— Вот тебе епитрахиль, извини, что омофора нет, — он не удержался, чтобы не съязвить.
Видя растерянность друга, закричал:
— Господи, тебе еще святую воду принести, так я ее своими слезами окроплю! — и, утерев пояском глаза, накинул его на шею Палладия.
Архиепископ стал произносить молитвы, а митрополит повторял их вслед за ним, глядя в небо и часто осеняя себя широким крестным знамением.
Так, глядя в небо, он и заговорил, как будто сам для себя:
— Кроме многочисленных моих грехов, в которых я исповедуюсь регулярно перед своим духовником, есть один грех, который меня тяготит уже много лет. Кратко его можно назвать: малодушие и предательство друга. Когда рукоположили меня во епископы, вскоре приехал в Москву Николай Терентьев. Приехал за помощью и поддержкой. Его тогда уполномоченный регистрации лишил, и он приехал ко мне, чтобы я посодействовал ему устроиться на приходское служение. Я увидел его во время всенощной в патриаршем соборе. Он подошел ко мне под елеепомазание. В старом плаще, в сапогах, весь мокрый от дождя, и вид у него был какой-то жалкий. Я его даже сразу не узнал. А как узнал, обрадовался, спрашиваю: «Николай, ты ли это, каким ветром?» Он объясняет: «Надо, Владыка, встретиться, поговорить, я сейчас без места, может, чем поможешь?» Я в ответ: «Конечно, какой разговор, мы ведь друзья. Сегодня, — говорю, — не могу, ужин в Нидерландском посольстве, а завтра приходи к 14 часам в ОВЦС». На следующий день жду его у себя в кабинете, вдруг
заходит ко мне архимандрит Фотий и говорит: «Там, Владыка, вас дожидается священник Николай Терентьев, так вот, я не рекомендую вам его принимать». «Почему это?»
— удивился я. А Фотий говорит: «Я навел о нем справки через совет по делам религии — его уволили за антисоветскую деятельность». «Какую антисоветскую деятельность?» — совсем опешил я. «Он занимался с молодежью, вел, так сказать, подпольный кружок по изучению Священного Писания». «Не понимаю, — говорю, — Священное Писание — это что, антисоветская литература?» «Да все вы понимаете, Владыка, я же вам благо желаю. Вас собираются командировать в Америку служить, а это вам может сильно подпортить, но поступайте, как хотите». Я, конечно, подумал, все взвесил и не стал принимать Николая. Ему сказали, что я уехал по вызову Патриарха. Он неглупый, все понял и больше ко мне не приходил. Вот такой мой тяжкий грех… Немного помолчав, Мелитон добавил:
— А ведь тем, что митрополит, я ему, Николаю, обязан.
— Как так? — не понял Палладий.
— Так ведь я жениться собирался, влюбился в Ольгу Агапову, а Николай ее у меня отбил. Я вначале обижался на него, а потом думаю: хорошо, что не женился, семейная жизнь не для меня — и стал монахом, потому и митрополит сейчас. Как она теперь, кстати, матушка Ольга?
— Да уже лет пять, как померла от рака, — сказал Палладий и вдруг зарыдал во весь голос.
— Царство ей Небесное, — перекрестился митрополит.
— Теперь ее душа у Бога. Ты-то чего убиваешься?
— Да я над своими грехами тяжкими плачу. Исповедуй и ты меня, брат, — он дрожащими руками снял с шеи поясок и, сотрясаясь от рыданий, подал его Мелитону.
— Ну-ну, успокойся, друг мой, и облегчи свою душу покаянием.
— Кроме вас с Николаем, был еще и третий, кто полюбил Ольгу.
— Неужто и ты? — удивился митрополит.
— Да, я, только когда ей признался, она тоже мне призналась, что любит Николая, а ко мне относится как к брату. Я хоть и опечалился, но в то же время порадовался, что у них такая взаимная любовь, а сам стал готовиться к монашеству. Меня ведь после тебя через пять лет в архиереи рукоположили. Все это время отец Николай с матушкой Ольгой где-то скитались, он работал то сторожем, то кочегаром. А как я стал архиереем, они ко мне в епархию приехали. Я тогда лично пошел к уполномоченному хлопотать за Николая, взял с собой здоровенный конверт одними сотенными. Конверт-то уполномоченный принял с радостью, да на следующий день говорит: «Ничем не могу помочь, комитетчики не пропускают. Правда, есть выход. Обком предлагает собор отдать под нужды города, а вам дадут другой храм, где сейчас государственный архив, размером он почти такой же, да не в центре». Я, конечно, с негодованием отверг это предложение. Вечером ко мне пришла матушка вся в слезах. Говорит: «У меня, Владыка, рак врачи обнаружили, не знаю, сколько проживу, а вот Николай без службы у престола Божия еще раньше от тоски помрет, совсем плох последнее время стал». Упала на колени, плачет, я тоже на колени встал, плачу. Отпустил ее, обнадежив обещанием что-то сделать. Всю ночь молился, а наутро пришел к уполномоченному и дал согласие на закрытие собора и переход в другой храм. Отца Николая отправил служить в Благодатовку. А потом меня такая досада за свой поступок взяла, что прямо какая-то неприязнь к отцу Николаю появилась. За все время ни разу к нему на приход не приезжал служить, да и к себе в гости не звал. Вот какие грехи мои тяжкие. Простит ли Господь?
— Господь милостив. Может быть, Он нас сюда для этого прощения и привел. Ты знаешь, удивительно на меня твой валидол подействовал. Вставай, старина, пойдем к Кольке: он простит, и Бог нас тогда простит…
Напротив стога остановилась лошадь, запряженная в телегу. Соскочив с повозки, к ним подошел мужик и, поздоровавшись, спросил:
— Вы, отцы честные, отколь и куда идете?
— Да вот, направляемся в Благодатовку, к отцу Николаю.
— Ой, да и я ведь туда же, договориться с батюшкой хлеб освятить, а то скотинка часто болеть начала. Садитесь, подвезу.
Он подбросил на телегу сена и помог усесться владыкам. Затем, звонко причмокнув, встряхнул вожжами:
— Н-но, родимая! — и лошадка покорно зашагала, пофыркивая на ходу.
Мужичок оказался словоохотливый. Рассказал, какой хороший у них батюшка Николай и как все его любят не только в Благодатовке, но и у них в Черновке.
— Матушка у него больно хорошая была, такая добрая, ласковая со всеми. Только шибко хворала, да Господь смилостивился над нею: на Пасху причастилась, сердешная, и померла. Говорят, коли после Причастия, да и на Светлой помер, то прямиком в рай. Так ли это?
— Так, так, — подтвердил Палладий. За перелеском открылся вид на Благодатовку. Посреди деревни стоял однокупольный деревянный храм с колокольней. Вокруг него, как сиротинушки, жались около пятидесяти крестьянских дворов. За околицей пробегала небольшая речка, а сразу за ней начиналась березовая роща.
— Красота-то какая! — восхитился митрополит.
— Да, красота, — поддакнул возничий. — Только все равно молодежь бежит в город. Тут ведь у нас развлечений никаких нет, а работа крестьянская тяжелая. В городе-то что, отработал смену — и ноги на диван.
Мужик довез их до самой церкви. Архиереи поблагодарили его и, открыв калитку, вошли в церковную ограду, крестясь на храм. В глубине двора около сарая они увидели парня, коловшего дрова. Священник в коротком стареньком подряснике собирал поленья и носил их в сарай. Набрав очередную охапку, он обернулся на скрип калитки и замер в удивлении, воззрившись на двух идущих к нему архиереев. Потом дрова посыпались из его рук на землю, и отец Николай почти бегом устремился навстречу владыкам. Оба архиерея при его приближении повалились на колени. Отец Николай, оторопев, остановился, пробормотав:
— Господи, что это со мной творится, — и осенил себя крестным знамением: — «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…».
— Ну вот, Ваня, мы теперь не друзи ему, а врази. Мы к тебе, Николай, с покаянием. Прости нас Христа ради. Отец Николай подбежал к ним, бухнулся на колени:
— Благословите, владыки, меня, грешного, я уж было подумал — наваждение бесовское.
Он обнял их обоих. Три поседевшие головы соединились вместе. Так, прижавшись друг к другу, они простояли минут пять молча. Затем отец Николай вскочил и помог подняться архиереям. Все стали смеяться, хлопать друг друга по плечам, что-то говорить в радостном волнении. Говорили все разом, никто никого не слышал, но все были счастливы. Потом вместе пошли на сельское кладбище и отслужили литию на могиле матушки Ольги. Когда пришли в дом, там был накрыт ужин. К этому времени по распоряжению отца Николая на буксире притащили «УАЗик». За столом сидели долго, вспоминая былое и радуясь, что они теперь все вместе, как когда-то в студенческой юности. Трое друзей помолодели не только душой — глаза горели молодым блеском и морщины расправились.
Спохватившись, отец Николай сказал:
— Я ведь сегодня собирался служить службу полиелейную, завтра празднуем память равноапостольной княгини Ольги, матушкин день Ангела. Каждый год службу в этот день правлю, сегодня-то мало кто будет, а завтра к. литургии народу много придет и из соседних деревень.
— Ну вот что, — сказал митрополит, — мы будем с тобой служить.
— Архиерейских облачений у меня нет.
— А мы с Палладием и иерейским чином послужим с удовольствием, две ризы-то у тебя еще найдутся?
— Конечно, Владыка, как благословите, — и отец Николай мечтательно добавил: — Вот бы архиерейское богослужение! Народ здешний такого еще ни разу не видывал.
— Будет тебе завтра архиерейская служба, — заверил Палладий. — Где у тебя тут телефон? Дозвонившись до секретаря, он распорядился:
— Завтра к половине девятого утра с протодиаконом и иподиаконами — в деревню Благодатовку. Будем литургию служить. Да не забудьте и для митрополита облачение взять.
Утром, еще не было восьми часов, а уж иподиаконы суетились в храме, расстилая ковры и раскладывая облачения. Слух о прибытии архиереев быстро разошелся по народу, и в храм пришли даже те, кто туда никогда не ходил.
На малом входе архиепископ Палладий склонился к митрополиту и спросил:
— Если я надену на отца Николая крест с каменьями, ты у Святейшего подпишешь ходатайство?
— Не мелочись, я и митру подпишу.
Палладий снял с себя крест, надел его на отца Николая, а митрополит снял свою митру и, провозгласив «аксиос», водрузил на голову совсем ошарашенного настоятеля.
После службы и обеда Палладий засобирался домой, а Мелитон сказал:
— Ты уж не обижайся, но чего я поеду в город, и так надышался в Москве всякой гари. Поживу здесь с недельку как человек.
Но недельку митрополиту как человеку пожить не удалось. Назавтра позвонили из Патриархии и сказали, что вместо заболевшего Никанора ему надо срочно лететь в Африку на международную конференцию «Мир без ядерного оружия».
Прощаясь с отцом Николаем, он грустно спросил:
— Ты ни разу не видел танец эфиопских епископов под барабан?
— Нет, — ответил озадаченный отец Николай.
— Счастливый ты человек, хотя, впрочем, зрелище это прелюбопытное.
Село Нероновка Самарской области, октябрь 2002 г.
ОБОРОТЕНЬ (Святочный рассказ)
В монастырской трапезной сидят двое иноков и не торопясь едят распаренную пшеницу с изюмом и медом, называемую сочивом, потому как сегодня сочельник. Первый инок — иеродиакон Петр двадцати пяти лет, высокий и дородный телом. Второй — восемнадцатилетний, небольшого роста и худой послушник Христофор. Монастырская трапезная — это, конечно, очень громко сказано для комнатки в двадцать квадратных метров, с мебелью из старого стола, покрытого дырявой клеенкой, да пары грубо сколоченных самодельных лавок. Едят при свече, электричества в монастыре нет. Электричество было, когда здесь находилась колония для несовершеннолетних, но потом все порастащили. Провода со столбов бомжи сняли и сдали в пункт приема цветных металлов. Теперь попробуй восстанови. Во вновь переданный монастырь Владыка направил трех насельников (а откуда возьмешь больше?): иеромонаха Савватия тридцати двух лет, которого назначил наместником, и двух уже упомянутых — Петра и Христофора. Сам наместник уехал еще вчера к Владыке на прием, но обещал в сочельник к вечеру вернуться, чтобы ночью отслужить рождественскую службу. Послушник Христофор весь извелся, ожидая вечерней трапезы. Отсутствием аппетита он не страдал, ел за двоих. Иеродиакон Петр с завистью подтрунивал над Христофором:
— Ну ты, брат, и жрать! И куда только лезет! Да не в коня корм — вон какой худой!
— Что б ты, Петр, понимал! Это у меня обмен веществ хороший. А ты поешь — и на боковую, вот жир у тебя и откладывается.
Петр, не обижаясь, отшучивался:
— За простоту Бог дает полноту. Да если бы ты историю Отечества изучал, то знал бы, что на Руси считалось исстари: кто после обеда не спит, тот не православный.
— Ну-ну, православия в тебе хоть отбавляй, прямо сдоба ортодоксального замеса, — язвил Христофор.
В сочельник Петр в отсутствие наместника исполнился большой важности. И после утреннего правила сообщил, что они есть не будут до первой звезды. Христофор, ожидая появления звезды, через каждый час выходил из кельи и таращился на небо в надежде увидеть желанный сигнал к трапезе. В пять вечера, едва спустились сумерки, он, заметив что-то блестящее в небе, бурей ворвался в келью Петра, где тот мирно почивал, памятуя о предстоящей ночной службе, и вытащил полусонного на крыльцо. Петр не сразу понял, что от него хотят. Потом долго тер глаза и пялился на небо.
— Ну, где твоя звезда?
— Вон двигается, — волновался Христофор.
— Как двигается? — недоумевал Петр.
— Да вон, из-за леса в сторону реки. Наконец Петр увидел и захохотал:
— Ну, дурья твоя голова, звезды если двигаются, то только когда падают, а это огни самолета.
Но, посмотрев на расстроенного Христофора, примирительно добавил:
— Пойдем накрывать на стол, звезды через полчаса будут видны. Беги к ограде, принеси в трапезную охапку сена, — распорядился он.
— Это еще зачем?
— Будем все по старому обычаю совершать.
Христофор принес сено, Петр, сняв клеенку, рассыпал его на столе, разровнял и застелил снова клеенкой. Поставили на стол хлеб, кружки, компот из сухофруктов и горшок с сочивом. Пропели рождественский тропарь. Взяв ложку, Христофор только собрался приступить к трапезе, как Петр воскликнул:
— Погоди, еще не все!
Схватив горшок, он направился к выходу. Христофор, как был с ложкой в руках, устремился за ним:
— Ты чего, отец Петр, с крыши съехал?
— Не съехал, только надо все по-старинному, три раза обойти вокруг избы, — и, запев тропарь Рождества, пошел, как на крестный ход, вокруг трапезной.
Христофору ничего не оставалось, как последовать за ним, подтягивая его басу своим тенором: «Рождество Твое, Христе Боже наш…». Когда после третьего круга они возвращались в трапезную, Петр вдруг обернулся, выхватил ложку у Христофора и, зачерпнув три раза в горшке, швырнул во двор сочиво.
— Ну, ты совсем спятил!
Но Петр, не обращая на него внимания, распахнул дверь, театральным жестом указав на вход, обратился к кому-то, не видимому в сумерках вечера:
— Ну, заходи, Мороз Иванович, угостись кутьей да не нападай весной: на жито, пшеницу и всякую пашицу, не губи пшеничного уроженья, тогда и на следующий год будет для тебя угощенье!
— Господи, язычество какое-то, — совсем ошарашенный, бормотал Христофор.
Петр на высоко поднятых руках торжественно занес горшок с кутьей и брякнул его посреди стола:, — Вот теперь можно есть.
Христофор, опасливо поглядывая на Петра — не откинет ли еще какого фортеля, стал уплетать сочиво, запивая его взваром из сухофруктов. Когда голод был утолен, ложки стали реже нырять в горшок, да и, ныряя, не забирали все подряд, что попало, а выискивали изюм да чернослив.
— А для чего ты три ложки кутьи во двор выбросил? Птиц покормить? — полюбопытствовал Христофор.
— Раньше крестьяне делали это для угощенья духов.
— Духов, ха-ха-ха! — развеселился Христофор. — Ну ладно, они народ темный были, а ты, филолог недоученный, знать должен, что бестелесные духи в земной пище не нуждаются.
— Темный, говоришь… — как-то задумчиво произнес Петр, нисколько не обидевшись на «недоученного филолога»: он действительно ушел с 4-го курса филфака пединститута. — А вот не скажи, мне так думается, что наоборот: мы — народ темный. То в атеизме блуждали, то, уверовав в Бога, воздвигли умственную систему между духовным и материальным, как будто это параллельные миры, не касающиеся друг друга. У предков наших все по-другому было: и мир духовный был не где-то запредельно, а рядом, в избе, где икона была не отвлеченным «умозрением в красках», а живым присутствием Божества: в хлеву, в лесу, в болоте, в поле — все одухотворялось. Они чувствовали ангельский мир рядом, как своих друзей или как недругов — падших ангелов.
Петр встал и, подойдя к печке, пошуровал в ней кочергой, подкинул несколько поленьев — огонь весело затрещал и загудел в трубе, радуясь новой для себя пище. Христофор сам закончил лишь девять классов, да и то с трудом — усидчивости не было, а вот Петра в долгие
зимние вечера послушать любил, ох как любил. Но знал: чтобы разговорить Петра, надо было задеть его за живое, так сказать, завести. Сейчас он понял, что завел его с полоборота, и теперь уже, не перебивая, приготовился слушать, облокотившись на стол, положив на ладони подбородок, прямо как кот, закрыв глаза от удовольствия. Петр не торопясь, расхаживая по трапезной, как профессор по студенческой кафедре, продолжал:
— То, что наши православные предки были намного богаче нас, в духовном, конечно, плане, мне открылось враз через замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Наша критика охотно давала ему эпитет «страждущего атеиста», поскольку он, имея глубокие религиозные запросы и не находя их удовлетворения в своем атеистическом мировоззрении, всю жизнь переживал мучительный разлад между мышлением и чувством, между интеллектуальными и религиозными запросами. Причиной этому была суровая честность его души, готовой лучше безнадежно страдать, нежели поддаться, как он думал, добровольному ослеплению чувства. Кстати, таким же «страдающим атеистом», по моему мнению, был и Антон Павлович Чехов. Душа его рвалась ко Христу — это видно из его произведений, а разум врача не мог преодолеть псевдонаучного отрицания бытия Божия.
Петр подошел к столу и отхлебнул из кружки компоту. Христофор, почувствовав, что Петр уходит от темы, решил вернуть его «на грешную землю».
— Ну так что там тебе открылось через Тургенева?
Петр уже хотел приводить другие примеры о «страдающих атеистах», но, услышав вопрос, как бы очнувшись, произнес:
— Открылось… а что мне открылось? Ах да, так вот, направили меня на практику в школу, провести урок русской литературы. Сижу в классе, читаю замечательное произведение Тургенева «Записки охотника», тот рассказ, где ребята в ночном про водяных, леших да упырей разговаривают. Так увлекся чтением, как будто я сам рядом с ними у костра сижу, на их чистые, светлые лица гляжу
— такими они мне показались прекрасными, эти дети. Глянул в класс, а там пусто, то есть в глазах пусто, только лица, искаженные гримасами да ужимками, и жвачки жуют все как один да на часы поглядывают, когда урок кончится. Озоровать открыто боятся, не меня, конечно, а завуча, на задней парте восседающего. Так мне тоскливо стало, так потянуло в тот мир Тургенева, Достоевского, Гоголя, Чехова — встал я посреди урока и вышел, чтобы уже никогда не вернуться ни в эту школу, ни в свой пединститут.
— Куда же ты пошел? — заинтересованно спросил Христофор.
Петр остановился:
— Спрашиваешь, куда пошел? — он вытянул правую руку вперед.
«Ну прямо совсем как вождь мирового пролетариата»,
— подумал про себя Христофор и, не сдерживаясь, фыркнул смешком.
Но Петр, не обращая на него внимания, медленно, с выражением начал:
— «Тоска по небесной родине напала на меня и гнала через леса и ущелья по самым головокружительным тропинкам диалектики… Да, я пошел на мировую с Создателем, как и с созданием, к величайшей досаде моих просвещенных друзей, которые упрекали меня в этом отступничестве, в возвращении назад, к старым суевериям, как им было угодно окрестить мое возвращение к Богу».
Петр поклонился и сел к столу.
— Браво, браво! — зааплодировал Христофор. — Как ты умеешь красиво сказать!
— Это, к сожалению, не я, а великий немецкий поэт Генрих Гейне сказал.
— Надо же, как запомнил, я ни за что не смог бы.
— Я смог потому, что в свое время эти строки потрясли меня до глубины души. Ты знаешь, я пришел к выводу, что надо верить в простоте сердца, как наши прабабушки верили.
— Да уж тут как не поверишь, коли собственными глазами видел. Такое не забудется, — задумчиво сказал Христофор как бы самому себе.
— Чего это ты там видел?
— А ты в оборотней веришь?
— Да как тебе сказать, не особенно, но мысль такую допускаю.
— А я вообще в них не верил, да две недели назад после вечерней молитвы выглядываю в окно, смотрю: кто-то ходит. Пригляделся, а это бомж Федька, которого наместник Чернокнижником прозвал за то, что он хвастал, что черную магию изучал, а как напьется, угрожает порчу на нас навести. Так вот, гляжу, ходит он, ходит, потом в сарай зашел, там какой-то шум, рычание, а через несколько минут волк выбегает, здоровый, матерый такой, и побег в сторону деревни, а наутро телка у тети Фроси исчезла. Заглянул я в сарай днем да обнаружил там свежую обглоданную кость. Пошел к наместнику, все рассказал про оборотня, а он смеется, говорит: «Чернокнижник собаку с лежанки согнал, вот ты и принял ее за волка, а телку он, наверное, с дружками своими украл, да где-нибудь в лесу разделали и едят потихоньку». Прямо какой-то Фома Неверующий этот наместник. Я ему говорю: «Оборотень это, что я, волка от собаки отличить не смогу?» А он мне отвечает: «Ты и волка с собакой перепутаешь, и корову с лосем». Как будто я биологию в школе не учил, там на картинке волк изображен, точь-в-точь как я видел.
— Да-а, — задумчиво протянул Петр, — я этого Чернокнижника сегодня видел, когда за елкой в лес ходил. Кстати, давай елку украшать, приедет отец наместник, а у нас елка стоит украшенная. Что-то до сих пор его нет, уже девять часов, последний автобус из города давно уже пришел. Ну да, может быть, на попутках доедет.
Елку из сеней занесли в трапезную и установили в ведро с песком. Сразу запахло душистой хвоей и смолой. В душах насельников поселилась тихая предпраздничная радость.
— Чем же мы будем ее украшать? — поинтересовался Христофор.
— А как в старину. Ты убирай со стола, а я схожу в келью, возьму материал для украшения.
Через пять минут Петр вернулся и вывалил на стол из большой сумки листы цветной бумаги, золотистую обертку от шоколадных плиток и конфет и много другой всякой всячины. Они вооружились ножницами, клеем, ниткой с иголкой, и елка стала украшаться гирляндами из цветной бумаги, лесными шишками, обернутыми золотистой фольгой. Особенно хорошо у Петра получались ангелочки из цветной и золотистой бумаги.
— Ты где так ловко научился? — поинтересовался Христофор.
— Нужда заставила. Как мать с отцом разошлись, нас трое на ее шее осталось, а на зарплату учительницы начальных классов много ли игрушек накупишь? А елку к Новому году нам, детворе, хотелось. Вот мама и вспомнила свое послевоенное детство, когда еще ребенком сама игрушки со своей мамой делала. И нас научила. Еще друг с другом соревновались: кто красивее, кто лучше.
Наместник монастыря Савватий сидел в приемной у правящего архиерея, ждал Владыку. После службы сочельника Владыка принимал какую-то делегацию то ли из Австрии, то ли из Англии, затем поехал на встречу с губернатором, обсудить проведение всероссийской нравственно-патриотической конференции. Увидев в приемной Савватия, благословил его и попросил обязательно дождаться. Но после встречи с губернатором Владыку срочно попросили приехать на телевидение для записи рождественского поздравления. Савватий терпеливо ждал и вспоминал, что таким Владыка был всегда, сколько он его помнит: беспокойный и болеющий за церковное дело и ради этого дела не жалеющий ни себя, ни своих помощников.
Более пятнадцати лет назад Савватий, тогда еще Сережа Белов, был у Владыки иподиаконом, затем ушел в армию да так там и остался на сверхсрочную. После окончания контракта вернулся домой, зашел в родной кафедральный собор, как был в военной форме, подошел к архиерею на елеепомазание. Владыка радостно улыбнулся, как родному:
— Ну, с возвращением из страны далече, — и широким крестом по всему лбу помазал Сергея так, что душистый елей по носу потек, словно слеза.
Может, это и была слеза, только понял он, что от Владыки никуда не уйдет, хватит, навоевался. После службы, уже за трапезой с архиереем, тот ему так и сказал:
— Был ты, Сергей, воином Отечества земного, а теперь будешь воин Христов Отечества Небесного.
Через месяц Владыка постриг его с именем Савватий. Вспомнил Савватий, как Владыка назначил его наместником только что переданного монастыря.
— Там же одни развалины, — удивился Савватий. — Стоит ли его открывать, коли монахов нет? Но Владыка строго прервал Савватия:
— Если б так рассуждали преподобный Сергий и другие наши подвижники, то на Руси ни одного монастыря не было бы.
В монастырь приехали вместе с иеродиаконом Петром. Знали, что будет нелегко, но действительность превзошла их ожидания. Кое-как оборудовали помещение для жилья, сложили печку, где застеклили, а где фанерой забили окна. Одну комнату смогли оборудовать под домовую церковь. К бытовым трудностям добавилось другое искушение: из городка по соседству стала наезжать молодежь на мотоциклах. Музыку врубают на всю катушку, костры жгут, курят, пьют водку, матом ругаются. Какая тут молитва!
Савватий пробовал урезонить молодых людей, но те только на смех подымали. Когда он в очередной раз вышел пристыдить их, одна подвыпившая деваха стала кричать:
— Девочки, смотрите, монахи-то какие красивые, я, пожалуй, к ним пойду, утешу, — и пошла в сторону Савватия, раздеваясь на ходу.
Поднялся страшный гогот, шутка всем понравилась. Савватий в досаде плюнул, развернулся и пошел в келью. Один из подростков истошно завопил:
— Ты подумай только, он на наших девочек плюет! Надо его вежливости научить!
От костра встал здоровый верзила и перегородил дорогу Савватию:
— А ну, скидывай свой балахон, посмотрим, что у тебя под ним.
Савватий хотел отодвинуть парня и пройти мимо, но тот, толкнув его в плечо, заорал:
— Ты, морда поповская, куда прешь? Я с тобой разговариваю! — в руке его блеснул нож.
В ожидании интересного спектакля все подвинулись поближе. Монах пригнулся, наклонился чуть вправо, затем резко нырнул влево. Верзила взвыл от боли и шмякнулся лицом в землю, при этом рука с ножом была вывернута за спину, а сам монах коленкой прижимал его сзади к земле, нож уже был в его руке. Всех охватил шок, только одна девица пропищала:
— Да отпустите его, ему же больно!
Савватий встал, отряхнул подрясник, поиграл ножом:
— Штука хорошая, — сказал он, — в монастырском хозяйстве пригодится. А вам пять минут на сборы, через пять минут выйду: кто не спрятался — я не виноват, — и спокойно пошел к себе в келью.
Больше таких наездов не было.
…Наконец пришел Владыка, извинившись за задержку, пригласил Савватия в кабинет. Он подробно расспросил его про все стороны жизни монастыря. Внимательно слушая обо всех трудностях, тяготах и неустроенности монастырской жизни, Владыка вздыхал и сокрушенно качал головой. На успехи реагировал восклицаниями:
— Молодцы! Вот видите, что-то уже получается! — Или: — Рад за вас.
— Сейчас мечта наша баньку построить, — продолжал Савватий. — Летом-то мылись в речке, а как зима пришла — негде, не обовшиветь бы. На строительство бани надо тысяч пятнадцать-двадцать. Весной думаю собор крышей перекрывать, чтобы дальше не разваливался, и потихоньку начинать реставрировать.
— Вот, отец Савватий, — перебил его Владыка, — решил я вам в подворье передать храм святой великомученицы Екатерины, среди городских приходов по доходу он не на последнем месте. Будет этим для вас материальная поддержка.
— А куда же настоятеля отца Аркадия Филимонова? — поинтересовался Савватий.
— Я его снимаю, уже указ готов, не хочу перед Рождеством расстраивать, а после Рождества приезжай, принимай дела. Его пошлю настоятелем в деревню Кудиновку, он этот приход сам основывал, пусть туда и едет.
— Владыка, — оторопел Савватий, — там же от силы десять-пятнадцать прихожан, а у батюшки семья многодетная, он же себя не прокормит.
— Ничего, не пропадет, он шустрый, деятельный, чего-нибудь придумает. Сам виноват, я его не собирался снимать, а только предложил третью часть дохода вам на монастырь отдавать, а он мне заявляет, что негде взять денег, все уходит на реставрацию и содержание храма. Мне такие настоятели не нужны.
— Владыка, но он же действительно много делает в храме.
— Хватит заступаться, — нахмурился Владыка, и в глазах его мелькнул холодный огонек. — Я своих решений не меняю, — и встал с кресла, давая понять, что заканчивает неприятный для него разговор.
Для Савватия это прозвучало по-пилатовски: «Аще писах, писах», — он понял, что спорить с архиереем бесполезно, только раздражит Владыку, и подошел под благословение. Когда Владыка благословлял Савватия, взгляд его снова излучал доброту и мягкость. Улыбаясь, он, слегка пристукнув ладонью Савватия по лбу, произнес:
— Не бери в голову, пусть она будет у тебя светлой и ясной, поднимай монастырь вопреки всем врагам Церкви и Отечества.
Савватий вышел от архиерея, размышляя о том, что есть как бы две правды, одна — архиерея, другая — отца Аркадия. Но архиерей думает обо всей епархии, а отец Аркадий — только о своем приходе. Значит, архиерейская правда выше, решил Савватий, немного успокаиваясь, глянул на часы и понял: на последний автобус опоздал.
«Как же я буду добираться? Так хочется поспеть к ночной рождественской службе. Господи, помоги мне, грешному, не ради меня, окаянного, а ради братии моей, да чтобы службу рождественскую отслужить». После этого он три раза прочел «Отче наш» и трижды «Богородице Дево, радуйся».
Рядом взвизгнули тормоза, из остановившегося черного джипа выскочил парень, в котором Савватий узнал сержанта Стаса Кремлева из своего спецназовского батальона.
— Товарищ старшина! — кричал на ходу, широко раскинув руки, Стас. — Еле вас признал в рясе! Вот так встреча!
— Значит, глаз разведчика не подводит, — так же обрадовался Савватий, идя навстречу объятиям Стаса.
— Вы как нас учили: смотреть не на одежду, а на лицо, в глаза, чтоб своих и чужих распознавать, — крепко обнимая, смеялся Стае.
Петр и Христофор, закончив украшать елку, любовались своим творением.
— Э-э, да уже двенадцатый час, раз наместника нет, давай помолимся, отдохнем, а утром пораньше встанем. Он, наверное, приедет, и будем службу править, — озаботился Петр.
Кельи Петра и Христофора были в разных частях корпуса. Петр повесил свой подрясник на гвоздь, подлил в лампадку масла, увеличил фитиль так, что осветился не только иконный угол, но рассеялся мрак во всей передней половине кельи. Перед тем как лечь в постель, выглянул в окно. Ночь была темная, но ему показалось, что между руинами монастырского собора мелькала тень, похожая на фигуру Федьки Чернокнижника. Петр перекрестился, отгоняя тревожные мысли, и юркнул под одеяло. Но заснуть не мог, вспоминая разговор с Христофором об оборотнях и о Чернокнижнике. Днем он в них не верил, да и сейчас не очень, но в темноте все предметы вокруг обретали зловещие очертания, казалось, что с уходом солнца человек становится не защищенным от темных сил зла.
«Как же? — подумал Петр. — А молитва для христианина есть и защита, и оружие».
В это время под окном кельи он услышал чьи-то шаги, затем удар и рев, похожий на рычание зверя. Наступила тишина. Затем снова шаги, снова удар и снова стон и рычание. Петр вскочил с кровати как ужаленный, широко перекрестившись, он истово произнес:
— Спаси и сохрани!
Затем, схватив из-под кровати топор, выбежал на улицу в одних кальсонах и рубашке, читая на ходу молитву:
— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидищии Его…
Дверь в келью Христофора оказалась приоткрытой, но самого Христофора там не было. Петр кинулся назад в свою келью, чтобы одеться и продолжить поиски. Христофор стоял в его келье к нему спиной, закрыв лицо руками. У Петра мелькнула дурацкая мысль, что Христофор повернется сейчас — и он увидит звериный оскал оборотня. Он нерешительно окликнул его:
— Христофор…
Тот обернулся. Петр увидел искаженное гримасой боли и досады, заплаканное, по сути еще детское лицо. Петр опустил на пол топор, сел на кровать, усадил на табуретку Христофора:
— Ну рассказывай, что случилось. Я тут так за тебя испугался!
Христофор поведал, что, когда они разошлись по кельям, то его стали одолевать страхи и он решил пойти к Петру. Для сокращения пути пошел не по дорожке, а прямо под окнами. Там оказался лед, чуть припорошенный снежком, вот он и шмякнулся, от боли и досады зарычал, сделал еще пару шагов и еще раз шмякнулся. Приходит в келью, а Петра нет, ну тут он совсем пал духом и расплакался.
— Да это я в окно воду из-под умывальника выплеснул, лень было выносить, — признался Петр.
— Ах ты, филолог недоученный, я из-за твоей лени чуть башку себе не разбил!
Они оба рассмеялись. В это время во двор вкатил, сверкая фарами, черный джип, просигналив пару раз. Петр, накинув подрясник и фуфайку, вместе с Христофором выскочили во двор. Из джипа вышел наместник, широко улыбаясь, двинулся навстречу братии.
— Ну, с наступающим Рождеством, соколики! — прокричал он. — Познакомьтесь: мой армейский сослуживец, ныне предприниматель, или, как там, бизнесмен, — представил Савватий водителя джипа, молодого мужчину, спортивно одетого, с короткой стрижкой. — Зовут Станиславом Николаевичем.
— Можете просто Стас, — пожимая руки насельникам, улыбнулся тот. — Ну что, Божьи люди, куда гостинцы рождественские разгружать? — и он открыл, багажник, где стояло несколько коробок.
Перенесли их в трапезную и пошли в домовую церковь совершать службу. Служба прошла торжественно, в приподнятом молитвенном настроении. Стае выстоял все три с половиной часа, иногда неумело крестясь, чувствовалось, что с непривычки ему тяжело. После службы пошли в трапезную. Стали накрывать на стол. Савватий одобрил елочку, украшенную Петром и Христофором. Открыл одну из коробок и достал оттуда яркие, большие елочные шары.
— Это Владыка нам послал в подарок, не забывает нас.
Наместник подарил Петру книгу Флоровского «Пути русского богословия», а Христофору — теплую фланелевую рубашку. Братия подарила наместнику четки из отшлифованных речных камушков, которые вот уже два месяца в тайне от него изготавливала. Все были довольны. На столе благодаря щедрости Стаса красовались необычные яства: икра, семга, балык осетровый и бутылка французского коньяка. Сидели за столом весело, непринужденно разговаривали. Петр рассказал историю с оборотнем, наместник со Стасом так смеялись, что чуть не опрокинули скамьи. Стас пообещал на святках прислать бригаду электриков с проводами и подключить электричество. Петр предложил поводить хоровод вокруг елки. Все вместе взялись за руки и пошли с пением колядок.
На какое-то время они почувствовали себя детьми, во всяком случае, детьми Божиими.
Со стороны речки к монастырю крался Федька Чернокнижник. Ступал он осторожно, в надежде, что монахи все в трапезной и можно что-нибудь стянуть в келье. Он уже вставил отмычку в замок, но прислушался к пению, доносившемуся из трапезной:
Невместимый, Он вместился
в тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Для того, чтоб нас избавить
от диавольских сетей,
Возвеличить и прославить нас любовию Своей.
Слава Рожденному, в бедные ясли Вложенному!
Он подошел ближе и стал слушать, вспоминая, как в детстве ходил колядовать по соседям. Потом припомнил слова, которые он тогда пел. Взял да и постучал в дверь трапезной, сначала робко, а потом громче. Дверь распахнулась. Федька оскалил свой щербатый, беззубый рот в улыбке, хрипло прокричал:
— Я пришел Христа прославить, а вас с праздничком поздравить! — И тут же, боясь, что его прогонят, торопливо запел:
Рождество Христово, Ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песни пел:
«Вы, люди, ликуйте, все ныне торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»
И, сконфузившись, хотел сразу убежать, но четыре пары рук подхватили его, втащив в трапезную, усадили на лавку за стол.
Волгоград, декабрь 2001 г.
ВНУК ШАЛЯПИНА
Солнечные блики отражались в мелкой ряби великой русской реки Волги, как тысячи золотых монет. День клонился к вечеру, но летнее солнышко, несмотря на свой заметный сдвиг к западу, продолжало обжигать своим жаром спокойные воды могучей реки, и пристань, и белые теплоходы, пришвартованные к ней. Вот только до людей, сидящих в ресторанчике речного вокзала, расположенного на террасе у самой воды, оно не могло достать. Терраса была покрыта огромным тентом. Потому-то никто из сидящих за столиками не спешил покинуть это благостное убежище. Сидели, лениво потягивая пивко, вели неторопливые и нешумные беседы. За одним из столиков было более оживленно и более шумно, чем за другими, попросту сказать — весело. За веселым столом сидели четверо. Мужчина лет пятидесяти — пятидесяти пяти, с окладистой рыжей с проседью бородой, в светлом легком костюме из льна и широкополой соломенной шляпе и его сотрапезники — трое молодых людей в темных брюках и белых рубахах с отложными воротничками и короткими рукавами. Молодые люди пили пиво, а около бородача, кроме пива, стоял маленький хрустальный графинчик с водкой. Он что-то бойко рассказывал, жестикулируя, при этом мимика лица его, поминутно меняясь, выражала еще больше, чем руки. Он то грозно округлял глаза и топорщил усы, то лицо его выражало подобострастие или лукавство, то испуг и недоумение. Молодые люди с почтительным восторгом смотрели на него, стараясь не пропустить ничего, и через каждые две-три минуты принимались хохотать. Пока они смеялись, он отпивал глоток водки, запивал его двумя-тремя глотками пива и продолжал свою речь. Бородач был архиерейским протодиаконом Василием Шаховым, знаменитым на все Поволжье своим неповторимым могучим баритоном.
Красивый тембр его голоса действительно вызывал восхищение, в церковных кругах отца Василия называли вторым Шаляпиным. Протодиакон принимал это как должное, говоря: «Я ведь родом из Плеса Костромской губернии, а там Федором Шаляпиным куплено было имение, моя бабушка в прислугах у него ходила». «Слушай, — подшучивал над ним кладовщик епархии Николай Заныкин, — наверное, Шаляпин с бабушкой твоей согрешил, и внук в деда дарованием удался». «А что, — подхватывал шутку отец Василий, — все может быть, один Бог без греха». Так что некоторые стали в шутку называть его внуком Шаляпина.
Сидевшие с ним рядом трое молодых людей были воспитанниками Духовной семинарии и в летние каникулы прислуживали архиерею в качестве иподиаконов. В город N, где была вторая кафедра архиерея, они прибыли вместе с Владыкой на престольный праздник собора. После службы и банкета архиерей отправился на машине прямо в Москву по делам Патриархии, а иподиаконам велел купить билеты на поезд, чтобы они возвратились домой. Протодиакон взял билет на теплоход, выразив мнение, что только дураки летом ездят на поездах из пункта «А» в пункт «Б» при условии, что эти два пункта стоят на Волге. У ребят поезд был поздно вечером, а у отца Василия теплоход отходил пораньше. Вот они и пошли его провожать. Ожидая посадки, протодиакон, широкая душа, пригласил бурсаков в ресторан. Отец Василий был замечательный рассказчик, а уж историй и баек на церковные темы он знал столько, что слушать — не переслушать. Его шутки, прибаутки и анекдоты пересказывали друг другу по нескольку раз. Если отец Василий давал кому-то прозвище, оно приклеивалось намертво. Например, пономаря собора, тихого и смиренного Валерия Покровского, он назвал Трепетной Ланью, и все его стали так называть (не в лицо, конечно, а за глаза). Архиерея он назвал Папой, и все между собой называли его Папой. Громогласную псаломщицу Ефросинию Щепину назвал Иерихонской Трубой, и для всех она стала только Иерихонской Трубой. Этот список можно продолжать на всех работников епархиального управления и служащих собора. Как-то настоятель собора похвалился, что кандидатскую в Духовной академии защищал по древнееврейскому языку — и тут же получил прозвище Князь Иудейский. Протодиакон делал это беззлобно и без всякого ехидства, в простоте сердца, потому на него никто не обижался. Заметив, что отец Василий допил водку, один из семинаристов тут же услужливо подлил ему из графинчика, говоря при этом:
— Давайте, отец протодиакон, по второй.
— Чему же вас в семинарии там учат? — прогудел отец Василий. — Никогда, слышите, никогда не говорите «по второй, по третьей». А то попадете в неприятную историю, как давеча один батюшка.
— Как надо говорить, и в какую историю попал батюшка? — встрепенулись семинаристы,
— Так слушайте, вам как будущим священникам это надо знать, а всем прочим, — он обвел зал глазами, — тоже бы не мешало. Один батюшка служил в далеком от областного центра селе, куда ни один архиерей никогда
не заезжал. Короче, забыли о существовании этого батюшки. Но он решил сам о себе напомнить, приехал в епархиальное управление. Подошел к архиерею под благословение, представился. Владыка стал расспрашивать его о житие-бытие. Батюшка в ответ: «Все славу Богу, живем, не жалуемся, вашими святыми молитвами». Потом говорит: «Мне, Владыка, неудобно предлагать, но у меня с собой бутылочка водки, давайте выпьем за встречу». Владыке понравились прямота и бесхитростность батюшки, он его усадил за стол, велел келейнику закуски подать. Батюшка разлил по стопочкам и говорит: «Давайте, Владыка, за встречу по единой». Выпили, закусили. Батюшка еще разлил: «Давайте, Владыка, за Ваше здоровье по единой». Выпили, закусили. Потом выпили по единой за «благорастворение воздухов» и за «изобилие плодов земных». Так всю бутылочку и угомонили. Владыка раздобрился и спрашивает: «А какая у тебя последняя награда?» — «Да никакой у меня награды нет, самая большая награда для меня, что служу у престола Божия». Нахмурился архиерей и говорит: «Непорядок, кого ни попадя награждаем, а такого хорошего батюшку забыли, да мы сейчас это дело поправим». Кнопочку на столике нажал, влетает секретарь: «Чего изволите, Владыка?» «Пиши указ: наградить этого батюшку камилавкой и золотым наперсным крестом».
Поехал облагодетельствованный батюшка к себе на приход. Служит обедню, на голове камилавка красуется, на груди крест золоченый сверкает. Увидел это соседний настоятель и спрашивает: «Как ты такие награды заработал, мы с тобой одинаково по двадцать лет служим, а у меня еще ни одной нету?» — «Да я сам не знаю, за что. Поставил Владыке бутылку — он меня и наградил». «Ну, ~~ думает сосед, — я не такой простофиля, я Владыке самый дорогой заморский коньяк повезу и уже сразу митру получу в награду». Приезжает к архиерею — и с порога ему: «Я, Владыка, для вас такой коньяк редкий и дорогой привез, который только один Вашему высокому сану может соответствовать». «Ну садись, батюшка, — говорит Владыка, — будем вместе твой коньяк заморский пробовать». Разлил батюшка коньяк по рюмочкам и говорит: «Давайте, Владыка, по первой за встречу». Выпили, закусили. «Ну, как живешь, рассказывай», — говорит Владыка. «Да как живу, — отвечает тот, — вот уже двадцать лет служу, никакой награды не имею. Давайте по второй за Ваше драгоценное здоровье». Владыка нахмурился. Выпили, закусили. «Давайте, Владыка, по третьей, — предложил батюшка, — за благорастворение воздухов». Тут Владыка как треснет кулаком по столу: «Ты что, — говорит, — приехал считать за архиереем, сколько я выпью?» И уехал батюшка несолоно хлебавши. Так что, братия, только по единой, — заключил протодиакон и, подмигнув смеющимся семинаристам, осушил стопку.
Диктор объявила посадку на теплоход, и братия проводила отца Василия до трапа. Затем стояли у причала, наблюдая за отшвартовкой судна и махая руками протодиакону. Тот в ответ помахивал им шляпой.
Положив вещи в каюту, отец Василий направился в ресторан теплохода, чтобы утолить жажду и пропустить рюмочку-другую. Но, пошарив в карманах, обнаружил, что деньги все закончились. На душе сразу стало грустно. Он облокотился на ограждавшие палубу перила и стал смотреть на воду. К своей досаде, он ощутил, как свежий ветерок речного простора выдувает из него приятное хмельное ощущение праздника. Короче, почувствовал, что начал трезветь. От этого стало еще тоскливее, и неожиданно для себя самого он затянул негромко: «Есть на Волге утес, диким мохом оброс…» Отец Василий пел, ощущая себя вот этим одиноким утесом, и песня его крепла. Люди, прогуливающиеся по палубе, остановились и стали слушать. К концу исполнения песни, наверное, половина пассажиров теплохода собрались около отца Василия. Когда он закончил, все зааплодировали. Протодиакон театрально поклонился. К нему подошел солидный седой мужчина и, представившись отставным генералом, с чувством пожал руку:
— Просто от души, огромное вам спасибо, тронули. Вы, наверное, артист? В каком театре поете?
— Я не артист, — скромно признался отец Василий. — Я просто — внук Шаляпина.
— Как! Того самого?! — воскликнул генерал.
Протодиакон распрямился, два пальца ладони заложил за борт пиджака между первой и второй пуговицами, поднял высоко голову:
— Да, того самого — Федора Ивановича, — уже громче сказал он.
Генерал в радостном волнении вытер пот со лба платочком:
— Вот как бывает, надо же, внук самого Шаляпина!
Подошел другой мужчина, спросил у отца Василия имя и отчество, тот представился Василием Андреевичем. Мужчина стал приглашать его в ресторан вместе поужинать, познакомить с семьей и уже было взял за локоть, собираясь увести с собой. Но генерал, спохватившись, рявкнул:
— Отставить! — однако, сообразив, что он не в армии, тут же сманеврировал на учтивое извинение и увлек отца Василия за собой.
Проводив протодиакона к столику, представил его жене и друзьям. Отцу Василию поднесли бокал шампанского, предложив выпить за его великого деда. Но он, сославшись на то, что шампанское плохо влияет на голосовые связки, позволил угостить себя армянским коньяком. Свободные до этого столики были тут же заняты, а те пассажиры, которым не хватило места, расположились на палубе рядом с рестораном, в нетерпении ожидая, когда запоет отец Василий. Протодиакон, хорошо зная биографию Шаляпина, потягивая коньячок, рассказывал о своем «деде» как по писаному, приукрашивая рассказ художественными подробностями, ему только одному известными. Когда он дошел в своем повествовании до нижегородского периода жизни «деда», то встал и со всей страстью исполнил «Дубинушку». Вскоре Шахов разошелся не на шутку и, уже сам не сомневаясь, что он истинный внук Шаляпина, исполнил «Из-за острова на стрежень». При словах «…обнял персиянки стан…» он обхватил проходившую мимо официантку за талию. Та, обомлев от счастья, уже готова была разделить участь несчастной княжны, но протодиакон не стал бросать ее за борт.
За столом ему стало тесно, и он вышел на палубу, окруженный толпою поклонников. Каждому хотелось побывать с ним рядом, поднести рюмочку. Поднос с закуской и выпивкой носили за ним по пятам. Не забыл протодиакон и церковных песнопений, исполняемых Шаляпиным. Он с таким чувством исполнил сугубую ектенью, что некоторые стали креститься. Но когда отец Василий со всей страстью исполнил куплеты Мефистофеля «Люди гибнут за металл» из оперы «Фауст», его буквально на руках понесли с кормы на нос корабля. Там, на носу корабля, он дошел в биографии до смерти Шаляпина. Рассказывал, как хоронили «деда», как весь Париж вышел попрощаться с великим русским певцом, как при прощании с Шаляпиным слушали в записи «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…».
— Бессмертный голос великого певца звучал над его смертным телом, и каждый стоящий у гроба понимал: жизнь коротка, а искусство вечно, — закончив такими словами рассказ, протодиакон начал петь «Ныне отпущаеши».
В это пение он вложил всю свою душу. А допев, замертво свалился на палубу и заснул. Даже его могучий, тренированный к возлияниям организм не выдержал той народной любви к Шаляпину, которая излилась на «его внука» в этот теплый летний вечер. Поскольку никто не знал, в какой каюте проживает отец Василий, его по распоряжению капитана теплохода бережно отнесли в свободный люкс.
Утром теплоход причалил в речном порту, капитан по телефону связался со службой такси, и машина была подана к трапу. Протодиакон стоял на палубе и прощался с пассажирами, когда подошла официантка, та, которой выпала роль «персидской княжны», и подала на подносе стопочку охлажденной водки и маринованный огурчик. Отец Василий по-гусарски опрокинул стопку в рот, крякнул от удовольствия и, закусив огурчиком, звонко чмокнул в щеку зардевшуюся официантку.
Машина отъехала, шофер обернулся и удивленно спросил:
— Слушай, отец Василий, ты что, фамилию сменил? Что-то тебя столько народа провожало, я уж подумал какой-то генерал Шаляпин приехал или секретарь обкома.
— Эх ты, садовая голова, — ухмыльнулся протодиакон. — Это моя фамилия по деду. Провожали меня генералы: их много, а Шаляпин один. Понял?
— Чего уж не понять, по мне хоть Шаляпин, хоть Шляпин, лишь бы счетчик щелкал да на чаевые клиенты не скупились.
Волгоград, декабрь 2001 г.
ШУТНИК, или рассказ о том. как установка американских крылатых ракет «Першинг-2» помогла провести отопление в покровскую церковь
Настоятель кафедрального собора протоиерей Борис Шумилин и церковный староста Илья Иосифович Кислицкий одновременно вышли во двор собора, один из дверей храма, другой из бухгалтерии. Отец Борис, высокий статный мужчина лет пятидесяти с аккуратно постриженной темной с проседью бородкой, завидев старосту, широко улыбаясь, двинулся ему навстречу:
— Илье Иосифовичу наше с почтением.
Кислицкий, небольшого роста, лысоватый, плотный пожилой мужчина, остановился, поджидая настоятеля. Двигаться навстречу он считал ниже своего достоинства. Вот если бы это был не настоятель, а, скажем, уполномоченный по делам религии, то другое дело. Не то что бы пошел, а побежал бы. Только когда настоятель подошел к нему, он как бы нехотя поздоровался:
— Здрасте, отец Борис, у вас все в порядке?
— Вашими молитвами, Илья Иосифович, все слава Богу. Что-то вы сегодня раненько пожаловали, прихожу к ранней обедне, а мне пономарь докладывает, что вы уже в бухгалтерии.
— Надо подготовиться, фининспекцию из Москвы ждем. Вот и пришел пораньше еще раз проверить, чтобы все чики-чики было, — важно заявил староста.
— Помилуй Бог! Ведь никогда такого не было, чтобы из Москвы инспекция.
— Готовят новое изменение в законодательстве о культах, вот и посылают с проверкой.
— И что, вот так предупреждают, что с проверкой едут?
— Нет, держат в секрете. Об этом отец Никита узнал, у него тесть в Москве там работает, — указал пальцем куда-то в небо Кислицкий.
— Кому вы поверили, Илья Иосифович! Отец Никита же всех разыгрывает!
— Да он при мне из бухгалтерии в Москву звонил и разговаривал.
— А вы проверьте на телефонной станции, были ли с Москвой разговоры. За эти сорок дней, что он у нас практику проходит после рукоположения, я и не такое от него слышал. Вот давеча опоздал на службу, я ему: «Вы почему опаздываете?» А он смотрит мне прямо в глаза и говорит, что был вынужден подвезти до Дворца спорта Аллу Борисовну Пугачеву на концерт. Я аж опешил: «Как так?» — говорю. А он рассказывает: «Еду я на службу, смотрю, Алла Борисовна стоит на обочине, голосует, ну я, естественно, по тормозам. А она: «Голубчик, выручай, опаздываю на концерт, у меня машина сломалась, а там две тысячи зрителей ждут». Ну как я мог отказать известной народной артистке!»
— Точно, — подтвердил староста. — Пугачева сейчас с гастролями в нашем городе.
— Да я это и сам знаю. Кругом афиши. Только подумайте: что, она одна по городу ездит? Да ее целая кавалькада машин сопровождает. А сколько других примеров его так называемых шуток! Диаконы наши всегда пользуются ингаляторами, использованных баллончиков от них много скопилось в пономарке. Так отец Никита что учудил: взял эти баллончики и покидал в печку. Алтарник стал в печке угли разжигать для кадила, а баллончики начали взрываться. Бедный пономарь три дня к печке не мог подойти. Говорил, что бес там сидит. А он не в печке сидит, а в отце Никите. Недавно что сотворил: приносит в алтарь красивую коробочку, на ней написано «Ладан ливанский», а внизу наклейка «Made in Paris». Диаконов предупредил, чтобы они из этой коробочки ничего не брали. Отец Петр не вытерпел и украдкой подсыпал из коробочки себе в кадило, вышел кадить на амвон, а певцы на левом клиросе чуть не задохнулись. В коробочке оказался нафталин от моли. Стали ругаться, а отец Никита смеется: «Я же предупреждал, чтоб эту коробку не трогали».
У старосты нарочитой серьезности как не бывало, пока настоятель рассказывал, он смеялся до слез, потом резко посерьезнел:
— Но если он надо мной вздумал шутить, к уполномоченному пойду, я слышал, что его из семинарии выгнали за что-то. Сколько ему, кстати, лет?
— Да сопляк еще, всего двадцать два года. А из семинарии его тоже за шуточки выгнали.
— Ну-ну, что он там натворил?
— Назначили к ним в семинарию нового преподавателя по предмету «Конституция СССР». Преподаватель солидный, отставной подполковник, в армии был замполитом полка. Ну, конечно, человек светский, в религиозных вопросах не разбирается. Его предупредили, что перед началом урока дежурный по классу должен прочесть молитву. Обычно читается «Царю Небесный», даже если медленно ее читать, то на это уйдет не более 15–20 секунд. Но какая молитва и сколько она читается, преподавателю не сказали. Приходит он на первое занятие — дежурным как раз был Никита. Открывает наш шутник Псалтирь и давай подряд все кафизмы шпарить, на пол-урока. Подполковник думает, что так положено, стоит ждет, с ноги на ногу переминается. А после занятий в профессорской у инспектора спрашивает: «Почему у вас такие молитвы длинные? На лекцию времени не остается». Все тут и выяснилось.
В это время отец Никита, не подозревая, что о нем идет речь, подобрав полы рясы повыше, через две ступеньки летел по лестничным маршам колокольни на звонницу собора. За ним еле поспевал его сверстник, звонарь собора Алексей Трегубов, студент консерватории по классу народных инструментов. Когда выскочили на звонницу, спугнули нескольких голубей, до этого мирно ворковавших под крышей колокольни.
— Ух ты, Лешка, красотища какая! Сколько здесь метров до земли?
— Не знаю, — пожал плечами звонарь.
— Сейчас узнаем: я плюну, пока плевок летит, посчитаем и перемножим на скорость, — и отец Никита тут же плюнул.
— Ты что, Никита, делаешь, вон внизу староста с настоятелем стоят, что, если попадешь? — всполошился Алексей.
— Если попадем на лысину Илье Иосифовичу, то полтора метра придется из общего расстояния вычесть.
— Он тебе тогда сам вычтет, но уже из твоей зарплаты, а меня, пожалуй, и уволят, проживи тогда попробуй на одну стипендию!
— Да, на дождик списать это не удастся, — отец Никита задрал голову вверх, увидел сидящих голубей. — А вот на птичек можно. Кыш, кыш, — махнул он на них рукой, но видя, что это на птиц не действует, подбросил вверх свою скуфью.
Голуби взлетели и стали кружить над колокольней. Отец Никита подобрал на полу щепочку, стал ею сковыривать свежий голубиный помет и пулять им в старосту и настоятеля. После двух промахов старания его увенчались успехом, помет угодил прямо на лысину Илье Иосифовичу. Тот с отвращением смахнул его рукой, выругался нецензурно:
— Всех этих голубей к ….. прикажу потравить, от них один вред.
Отец Борис, краешком глаза успевший заметить мелькнувшие на колокольне две фигуры, констатировал:
— Божьи птицы здесь, по-видимому, ни при чем, пойдемте, Илья Иосифович, посмотрим, кто на колокольне шалит.
Когда отец Никита и Алексей, радостно хохоча, прыгая через три ступеньки, спустились с колокольни, они столкнулись с разъяренным старостой и нахмуренным настоятелем.
На следующий день отец Никита сидел в кабинете Владыки, понурив голову, что должно было в его понимании выражать раскаяние.
— Ну и что прикажешь мне с тобой делать? — сказал архиерей как бы самому себе и замолчал, глядя поверх головы сидевшего против него отца Никиты. Так Владыка сидел минуты две, молча перебирая четки. Никита, понимая, что вопрос архиерей задает себе, тоже молчал, ожидая решения.
— Вроде умный парень, — продолжал рассуждать Владыка. — Отец вон какой серьезный, уважаемый всеми протоиерей. Я помню, когда мы с ним учились в семинарии, он для нас был примером для подражания. В кого сын пошел, ума не приложу, — и архиерей посмотрел прямо на отца Никиту. — Из семинарии тебя выгнали, настоятель не доволен тобой, староста уполномоченному пожаловался. Что бы ты на месте архиерея сделал? Отец Никита понял: надо что-то сказать.
— На этот вопрос, Владыка, я смогу ответить только тогда, когда доживу до вашего возраста, а сейчас со смирением приму Ваше любое решение.
— Любое решение, — передразнил его архиерей. — Умен не по годам, а детство в голове играет. Отца твоего не хочется огорчать. Решил послать тебя настоятелем в Покровскую церковь города Кузьминска. Там всем заправляет бухгалтерша, ставленница горисполкома. Сущая стерва, уже не одного настоятеля съела, еще почище старосты собора Ильи Иосифовича будет. Посылал им недавно хорошего настоятеля, протоиерея Николая Фокина, полгода не прослужил, так подставила, что уполномоченный регистрации лишил. Вторым священником там служит протоиерей Владимир Картузов, батюшка смиренный, безобидный, но настоятелем ставить нельзя — к рюмочке любитель прикладываться.
Покровская церковь города Кузьминска находилась недалеко от железнодорожного вокзала, посреди старого кладбища. Храм был небольшой, каменный, во всем районе единственный. По воскресным и праздничным дням народу набивалось столько, что многим приходилось стоять на улице. Отец Никита, осмотрев храм, пошел в алтарь и там встретил отца Владимира Картузова, который сразу ввел его в курс всех дел:
— Всем командует тут бухгалтер Клавдия Никифоровна, ты с ней осторожней. Церковный староста у нее на побегушках, роли здесь никакой не играет, так, ширма для проформы. Сейчас иди в бухгалтерию и указ архиерея отдай ей, потом приходи в просфорную, отметим твое назначение: у меня там заначка спрятана от матушки.
Отец Никита зашел в бухгалтерию. Это была маленькая комнатка, в которой стоял старый книжный шкаф с папками для бумаг, в углу — огромный несгораемый сейф, у окон друг против друга — два письменных стола. За одним восседала высокая сухощавая женщина лет пятидесяти с властным и пронзительным взглядом сквозь большие очки в роговой оправе. За столом напротив сидела маленькая старушка, которая старательно считала горку мелочи, раскладывала посчитанные медяки по стопкам. Она даже не взглянула на вошедшего отца Никиту, так увлечена была своим делом. Отец Никита, сопровождаемый цепким взглядом женщины в очках, в которой он безошибочно признал бухгалтершу, подошел прямо к ее столу, сел на свободный стул и, нисколько не смущаясь, с улыбкой уставился на нее:
— Я, Клавдия Никифоровна, ваш новый настоятель, вот указ архиерея.
Клавдию Никифоровну несколько покоробила бесцеремонность молодого священника. Она глянула на указ, потом на отца Никиту и отчеканила:
— Это вы, Никита Александрович, в храме для бабушек настоятель, а здесь для меня как бухгалтера вы наемный работник, исполняющий свои обязанности согласно законодательству по трудовому договору. И согласно этому трудовому договору между вами и церковным советом я начисляю вам зарплату. Но если вы нарушите советское законодательство или какой-нибудь пункт договора, то церковный совет вправе расторгнуть его с вами. И тогда вам даже архиерей не поможет.
— Что вы, что вы, Клавдия Никифоровна, как можно, уже только одна мысль о нарушении законов является грехом! — с деланным испугом на лице воскликнул отец Никита. Затем он встал и торжественно произнес: — Великий московский святитель Филарет говорил: «Недостойный гражданин царства земного и Небесного царствия не достоин». — И уже более спокойно, глядя прямо в глаза Клавдии Никифоровне, сказал: — Я не только сам не нарушу советского закона, но и никому другому этого не позволю.
После этого он снова сел на стул.
— Ну, так где трудовой договор, который я должен подписать?
Клавдия Никифоровна молча подала бумаги. Ее очень смутило и озадачило поведение нового настоятеля. Всегда уверенная в себе, она вдруг почувствовала какую-то смутную тревогу. Когда отец Никита вышел, она, обращаясь к старушке, сказала:
— Молодой, да ранний, уж больно прыток. Посмотрим, что будет дальше, не таких обламывали. Ты за ним внимательно приглядывай, Авдотья Семеновна. Если что, сразу докладывай.
— Не изволь беспокоиться, Никифоровна, присмотрю.
Прошла неделя. Отец Никита исправно отслужил ее и заскучал. Следующую неделю должен служить по очереди отец Владимир, а отец Никита решил посвятить время административной работе. Он с утра расхаживал по храму, размышляя о том, что необходимо сделать для улучшения жизни прихода. Тут в глаза ему бросилось, что в храме, где и так не хватало места для прихожан, стоят две здоровенные круглые печи. Одна такая же стоит в алтаре, где тоже тесновато. Отец Никита решил, что необходимо убрать их, а заодно и печи в крестильне, бухгалтерии и сторожке. Вместо них поставить один котел и провести водяное отопление. Этой, как ему казалось, удачной идеей он поделился со старостой Николаем Григорьевичем. Но тот замахал руками:
— Что ты, что ты, даже не заикайся, я сам об этом еще задолго до тебя думал, но Клавдия Никифоровна против.
— Почему против?
— Пойдем в бухгалтерию, я тебе там разъясню, сегодня понедельник, у Клавдии Никифоровны выходной.
Когда они зашли в бухгалтерию, староста показал на стену:
— Вот, батюшка, полюбуйся.
На стене висело несколько наградных грамот от городского отделения Фонда мира, от областного и даже из Москвы.
— Ну и что?
— А то, что добровольно-принудительная сдача денег в Фонд мира — основная деятельность прихода и особая забота бухгалтера. Клавдия Никифоровна ни за что не согласится на крупные расходы в ущерб ежемесячным взносам в Фонд. Так что это бесполезная затея, тем более она ссылается на запрет горисполкома.
— А кто у вас в горисполкоме курирует вопросы взаимоотношения с Церковью?
— Этим ведает зампред горисполкома Андрей Николаевич Гришулин. Только вы от него ничего не добьетесь, это как раз его требование сдавать все в Фонд мира.
— Мне все равно надо представиться ему как вновь назначенному настоятелю.
Отец Никита сел в свой старенький «Москвич», доставшийся ему от отца, и поехал в горисполком. По дороге он купил в киоске «Союзпечать» свежие газеты, предполагая, что его могут сразу не принять и ожидание в приемной можно скоротать чтением прессы. Так и получилось. Секретарша попросила подождать, так как у Андрея Николаевича совещание. Батюшка присел на стул и раскрыл газету. На первых полосах было сообщение о развертывании НАТОвской военщиной крылатых ракет «Першинг-2» в Западной Европе. На втором развороте была большая статья какого-то доктора экономических наук, который расшифровывал тезис, произнесенный генеральным секретарем на съезде: «Экономика должна быть экономной». От нечего делать отец Никита прочитал и эту статью.
Заседание закончилось, и его пригласили. В просторном кабинете за большим письменным столом восседал мужчина лет сорока — сорока пяти в темном костюме, при галстуке и с красным депутатским флажком на лацкане. Отец Никита подошел, поздоровался и после предложения сел на стул возле приставного стола. Затем он представился, подал Гришулину указ архиерея и справку о регистрации от уполномоченного по делам религии. Тот не торопясь ознакомился с бумагами и возвратил назад.
— Знаем уже о вас, мне сообщали. Нареканий пока нет, хочется надеяться, что так будет и впредь. Да у вас там есть с кем посоветоваться, Клавдия Никифоровна знающий, грамотный специалист, не первый год работает, мы ей доверяем.
Отец Никита понурил голову и тяжко вздохнул.
— Что такое, Никита Александрович, чем вы так расстроены?
— Прочитал сегодняшние газеты и действительно сильно расстроился, — делая еще более мрачным лицо, ответил отец Никита.
— Что же вас так могло расстроить? — забеспокоился Гришулин.
— Да американцы, империалисты проклятые, опять нагнетают международную обстановку, крылатые ракеты в Западной Европе устанавливают.
— А-а, — облегченно вздохнул Гришулин, — так вот вас что беспокоит, — а про себя подумал: «Ненормальный какой-то, не знаешь, что ему и ответить».
«Еще посмотрим, кто из нас ненормальный», — отгадывая мысли Гришулина, решил про себя отец Никита, а вслух произнес:
— Расстраиваюсь я оттого, что мы боремся за мир как можем, сдаем деньги в Фонд мира, а они пытаются все усилия прогрессивного человечества свести на нет.
— Ну, это им не удастся, — улыбнулся Гришулин. — Думаю, нашим военным специалистам есть чем ответить на этот вызов.
— Есть-то оно есть, так ведь такой ответ и средств потребует немалых. Я думаю, нам надо увеличить взносы в Фонд мира.
— Интересно, интересно, — действительно с неподдельным интересом произнес Гришулин. — Да где же их взять? Ваша церковь и так отдает все в Фонд, оставляя только на самые необходимые текущие расходы. Мы уж с Клавдией Никифоровной кумекали и так, и сяк.
— Дополнительные средства изыскать можно, если обратиться к мудрой руководящей линии партии, поставленной как основная задача на последнем съезде, — отец Никита серьезно произнес эту абракадабру, и ни один мускул не дрогнул на его лице, хотя внутри все содрогалось от неудержимого веселья, от этой сумасбродной игры в несусветную глупость.
Последняя фраза отца Никиты смутила и озадачила Гришулина, он даже растерялся оттого, что, во-первых, не ожидал такого от священника, во-вторых, никак не мог сообразить, о какой линии партии говорит этот ненормальный. Но самое главное, что это нельзя объявить галиматьей и прогнать батюшку. В принципе он говорит правильно и логично с точки зрения парадно-лозунгового языка съездов и газетных передовиц. Поэтому зампред только растерянно произнес:
— Уточните, пожалуйста, Никита Александрович, что вы имеете в виду?
— То, что «экономика должна быть экономной», вот что я имею в виду.
— Но какое это имеет отношение к нашей теме?
— А то, что у нас есть люди, среди работников церкви, которые не согласны с этим, идут, так сказать, вразрез с генеральной линией.
— Кто это не согласен? — совсем удивился Гришулин.
— Наша бухгалтер, Клавдия Никифоровна.
— Поясните, поясните, пожалуйста, Никита Александрович.
— У нас в церкви топятся три огромные печки, да в бухгалтерии еще одна, да в крестильне и еще одна в сторожке. За отопительный сезон в трубу улетают немалые народные денежки. Достаточно убрать эти шесть печей и поставить маленькую котельную с одним котлом. Сэкономленные таким образом средства можно пустить на борьбу за мир. Но Клавдия Никифоровна категорически против того, чтобы экономика была экономной. Это еще полбеды, в своем сопротивлении генеральной и руководящей линии она ссылается, страшно подумать, на вас, Андрей Николаевич. Но, конечно, мы этому не верим, что вы, советский ответственный работник, не согласны с линией партии.
— Она так прямо и говорит? — окончательно растерялся Гришулин.
— Да нет, она только говорит, что вы запрещаете делать водяное отопление, которое может дать такую эффективную экономию, а уж дальнейшие выводы напрашиваются сами собой. Потом разные нехорошие слухи могут поползти по городу. Ведь всем ясно, что один котел экономичнее шести печей.
Вот это последнее, что поползут слухи и что всем все ясно, больше всего напугало Андрея Николаевича. Он встал и нервно зашагал по кабинету.
— Правильно, что вы, Никита Александрович, не верите этой клевете, я никогда не запрещал делать отопление в церкви, так людям и разъясняйте. Очень хорошо, что вы зашли, спасибо. Ну надо же, вот так Клавдия Никифо-ровна, с больной головы на здоровую перекладывает! Но мы разберемся, сделаем оргвыводы. А вы проводите водяное отопление, дело это хорошее, экономить надо народные деньги, это правильно. Экономика должна быть экономной. — На прощание он крепко пожал руку отцу Никите. — Не в ту систему вы, батюшка, пошли, надо было к нам, цены бы вам не было.
Приехав в храм, отец Никита разыскал старосту, велел написать заявление на имя Гришулина с просьбой разрешить смонтировать водяное отопление и отправил его в горисполком поставить визу. По пути попросил заехать к бригаде сварщиков-сантехников и привезти их в церковь для заключения договора на работы по отоплению. Когда Николай Григорьевич вернулся с подписанной бумагой и бригадой сварщиков, отец Никита отвел его в сторону и сказал:
— Слушай меня внимательно: послезавтра явится бухгалтерша, и кто его знает, как повернется дело, надо подстраховаться, чтобы обратного хода уже не было. Давай заключим с бригадой договор и выдадим аванс на материал с условием, что к вечеру они привезут трубы в церковь.
…В среду утром Клавдия Никифоровна в благодушном настроении вышагивала на работу после двух выходных дней. Но когда зашла на церковный двор, сердце ее тревожно екнуло: она увидела груду сваленных металлических труб. Клавдия Никифоровна подозвала сторожа и сурово спросила:
— Кто это посмел разгрузить трубы в нашем дворе?
— Это настоятель распорядился, отопление в церкви будут делать.
— А-а! — победно взревела Клавдия Никифоровна. — Нарушение законодательства, вмешательство в хозяйственно-финансовые дела прихода! Ну погоди, я тебя научу, наглеца, на всю жизнь меня запомнишь!
Даже не заходя в бухгалтерию, она круто развернулась и зашагала к остановке автобуса, чтобы ехать в горисполком к Гришулину. Клавдия Никифоровна еще не знала, что напрасно потратит деньги на проезд. В бухгалтерии ее ожидала для передачи дел принятая на работу новая бухгалтерша. Она мирно беседовала с настоятелем и старостой. Обращаясь к настоятелю, она называла его не иначе, как «батюшка» или «отец Никита».
Волгоград, 2001 г.
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АРХИЕПИСКОПА ПИМЕНА
Только что назначенный Синодом на должность ректора Саратовской Духовной семинарии, я со всем рвением принялся за работу по ее возрождению. Дело в том, что еще никакой семинарии не было, все пришлось начинать с нуля. Архиепископ Саратовский Пимен, которому и принадлежала идея о возрождении семинарии в его епархии, пригласил меня из Волгограда в Саратов, чтобы возглавить это дело, он же рекомендовал меня Святейшему Патриарху на должность ректора. Задача для меня была очень интересной, и в благодарность Владыке Пимену за его доверие я старался изо всех сил. Но, несмотря на все усилия, с передачей здания под семинарию ничего не получалось. Это отдельная тема, целая эпопея, на которой Владыка, я думаю, подорвал свое здоровье — так сильно он переживал тогда. К началу учебного 1990 года открыть семинарию все же не удалось. Когда Святейший Патриарх Алексий II прислал телеграмму, в которой поздравлял учащих и учащихся с началом учебного года, Владыка с огорчением послал Святейшему ответ, где говорилось: «Нет, Ваше Святейшество, ни учащих, ни учащихся. К великому нашему прискорбию, нет у нас пока даже здания под семинарию». Конечно, Владыка не собирался сдаваться и руки не опускал. Сильный это был человек. И мы продолжили работу по возрождению семинарии с удвоенной силой.
Тогда еще квартиру в Саратове я не имел, семья оставалась в Волгограде, а меня Владыка пригласил жить в своем архиерейском доме. Для этого мне выделили комнату на втором этаже, с отдельным входом. Но обедал я всегда вместе с архиепископом Пименом.
Владыка Пимен был необыкновенным человеком: уж сколько я архиереев за четверть века служения в церкви встречал — ни с кем сравнить его не могу. В нем удивительным образом сочетались интеллигент той эпохи, когда это понятие не было опошлено советским периодом, и современный человек в лучшем понимании этого слова. Он был добр и необыкновенно внимателен ко всем окружающим. Некоторые черты его характера умиляли нас и приводили буквально в восторг. Общение с ним доставляло истинное удовольствие. Кроме епархиальных и богослужебных дел, подлинный интерес Владыка проявлял только к двум вещам: книгам и классической музыке. В остальном он был полный бессребреник. (После его смерти остались только библиотека, большую часть которой он подарил семинарии, и три тысячи редчайших грампластинок с записями классической музыки.) Ему было совершенно безразлично, во что он одет, лишь бы это было чистым и удобным. Он совершенно не был привередлив в пище, что приготовят, то и ел. Когда он одевался в цивильное, то независимо от времени года его голову украшал серый берет, под который он прятал длинные волосы. А так обычной его одеждой был старенький шелковый подрясник, обязательно подпоясанный широким пояском, завязанным почему-то сзади нелепым бантом, но это все его совершенно не беспокоило.
Владыка быстро мог переходить от одного настроения к другому — все это было написано на его лице. Если он чему-то радовался, то все лицо его сияло, как у ребенка. С близкими людьми он мог себе позволить и обижаться, как ребенок. В общении с посторонними вел себя как истинный дипломат, светские, совершенно далекие от Церкви люди приходили просто в восторг от общения с ним и долго потом вспоминали, какой замечательный человек Владыка Пимен. А уж как он ходил — это надо было видеть! До встречи с Владыкой я считал себя самым быстрым ходоком. Но когда мне случалось ходить с Владыкой по магазинам (конечно, только книжным, в других он не бывал), я, которому не было сорока, не мог поспеть за человеком, доживающим седьмой десяток лет. Мне в буквальном смысле приходилось поспевать за ним чуть ли не вприпрыжку. Когда он садился в автомобиль, чтобы ехать на какой-нибудь дальний приход, всегда брал с собою кипу свежих газет. Он их быстро просматривал и перекидывал нам на заднее сиденье со словами:
— Читайте, просвещайтесь.
Едва мы успевали развернуть одну газету и углубиться в ее изучение, как в нас с этими же словами летела вторая. Когда он откидывал нам последнюю газету, то включал в магнитофоне какую-нибудь кассету с классической музыкой, и тут начинался для меня экзамен.
— Отец ректор, скажите нам, пожалуйста, что это за произведение исполняется и кто его автор?
Бессменный водитель архиерея, он же старший иподиакон Иван Павлович Бабин, незаметно подсовывал мне коробку от кассеты, на которой были написаны названия произведений. Я делал вид, что задумался, потом как бы неуверенно говорил:
— Боюсь ошибиться, Владыка, но, по-моему, это Чайковский, Концерт для фортепиано с оркестром номер один, си-бемоль мажор.
Владыка удивлялся, хвалил и спрашивал о следующем произведении. Я снова отвечал. Владыка приходил в восторг и говорил сидящим в машине:
— Вот видите, не зря я ходатайствовал о назначении отца Николая ректором семинарии!
Кроме книг и музыки, у Владыки Пимена было три спортивных увлечения: он был страстный грибник, а в минуты отдыха любил играть в городки или в бильярд. Как мы ни старались, но больше, чем Владыка, грибов никому набрать не удавалось. После сбора Владыка заставлял пересчитывать грибы поштучно, а потом говорил с радостью:
— В прошлом году в это время у меня был рекорд триста сорок два гриба, а в этом — триста пятьдесят восемь!
С азартом он играл и в городки, обычно в лесу, после сбора грибов. В этом он тоже был мастером, и обыграть его было трудно. А вот в бильярд хоть он и играл неплохо, но иногда мне удавалось его обыгрывать, тогда он искренне этому огорчался.
Одной из характерных черт Владыки Пимена была его пунктуальность. По нему можно было сверять часы. Если служба назначена на девять часов, то будьте уверены: ровно в девять ноль-ноль его машина подкатит к порогу храма, ни минутой раньше, ни минутой позже. Если Иван Павлович подъезжал минуты на три раньше, что бывало крайне редко, то Владыка просил его сделать лишний круг, с тем чтобы подъехать минута в минуту. За все годы служения под его архиерейским омофором мне ни разу не удалось видеть Владыку опаздывающим на какое-нибудь мероприятие. Если обед в двенадцать, то нельзя приходить даже минутой позже. Поэтому я приходил минут за пять до обеда и шел в зал рядом со столовой. Владыка обычно тоже сидел в зале и просматривал какие-нибудь бумаги, делая пометки. Я садился в кресло, брал журнал или газету и читал. Компанию нам обычно составлял архиерейский кот Мурзик. Это был пушистый серый кот, любимец Владыки, жирный и наглый. Он словно понимал, что находится под особым покровительством архиерея. Ровно в двенадцать Владыка вставал и приглашал меня к столу. Я шел первый, затем заходил Владыка. Я читал молитву, он благословлял стол — и уж тут не зевай; другой особенностью Владыки Пимена было то, что он быстро ел, ну прямо как метеор. А доев все, начинал подтрунивать:
— Вы кушайте, отец Николай, кушайте, не торопитесь, я подожду.
Я, конечно, торопился, и по озорным искоркам в глазах Владыки было видно, что это его забавляет.
Однажды, Великим постом, архиепископ Пимен приболел, Ради болезни Владыки приготовили рыбные котлеты. Большой продолговатый стол накрывали для нас с двух его противоположных концов. Я вхожу в столовую как обычно первым и вижу, как наглый жирный архиерейский кот прыгает на стол и стягивает с тарелки Владыки Пимена рыбную котлету. У поварихи, тут же стоящей, глаза округлились от ужаса. Но, к ее чести надо заметить, она не растерялась и мгновенно поменяла наши тарелки буквально за секунду до входа архиерея. Мы помолились, Владыка благословил стол, а потом с недоумением обратился к поварихе:
— Скажите, пожалуйста, а почему у меня котлета, а у отца Николая одна только гречка? Повариха отвечает:
— Простите, Владыка, но ваш Мурзик стащил котлету. Тут Владыка, блаженно разулыбавшись, говорит мне:
— Вот видите, отец Николай, в доме архиерея даже кот ученый, знает до тонкости церковные каноны. Ведь я — болящий, для меня пост ослабляется, а вы — здоровый, значит, вам котлета не полагается, и он, чтобы вы не нарушали устав, у вас ее стащил. Какой ты, Мурзик, у меня умный! Надо поощрить котика свежей рыбкой, — обратился Владыка уже к поварихе.
— Поощрим, Владыка, обязательно поощрим.
Вокруг приезда членов Императорского Царственного Дома Романовых было много шума и суеты. Они плыли вниз по Волге на теплоходе, заходя во все города, где их торжественно встречали.
В Саратов они прибыли в праздник Святой Троицы. Архиепископ Пимен уже отслужил Божественную литургию в кафедральном соборе, который стоит недалеко от речного вокзала. После службы он вместе с сонмом духовенства вышел на причал встречать Великую княгиню и ее сына — Великого князя Георгия. Когда причалил теплоход и отыграл оркестр, Владыка (сам потомственный дворянин) произнес приветственную речь, в которой обращался к Его Высочеству Великому князю Георгию как к наследнику императорского престола. Затем все вместе пошли пешком к собору, чтобы там отслужить благодарственный молебен о здравии Императорского Дома Романовых. Владыка беседовал по дороге с Великой княгиней. За ними вместе с Великим князем Георгием шли мы с настоятелем кафедрального собора митрофорным протоиереем Евгением Зубовичем. Отец Евгений обратился к Великому князю:
— А сколько тебе лет? Тот ответил:
— Двенадцать.
Одной из особенностей архиепископа Пимена было то, что он ко всем без исключения, начиная от митрофорного протоиерея и заканчивая уборщицей, обращался только на «вы». Уж не знаю, как он услышал вопрос отца Евгения, ведь кругом была большая шумная толпа народа, тем более сам Владыка в это время разговаривал с Великой княгиней, но только он все равно услышал.
Мы проводили великих князей в дальнейшее путешествие, а на следующий день служили с архиереем в Духосошественском соборе, на престольный праздник. Сидим после службы за праздничным обедом, вдруг Владыка говорит:
— Как же вы смели, отец Евгений, обратиться к Великому князю на «ты»? Что о нас подумают в Европе? Если здесь митрофорные протоиереи такие бескультурные, то об остальных гражданах и вовсе говорить не приходится.
Отец Евгений весь смешался:
— Да я, Владыко, да я…
— Да что — вы, отец Евгений, вот представьте себе такую картину: лет через десять приедет в Саратов Император России Георгий I и спросит нас: «А где тот батюшка, который мне тыкал?» А мы, чтобы отвести от себя гнев, скажем: «Ваше Императорское Величество, не извольте гневаться, вот его могилка».
Тут все как грохнули смехом и долго не могли успокоиться. Владыка сам смеялся до слез. Отец Евгений вначале растерянно вертел головой, а потом и он стал смеяться, да, по-моему, громче всех.
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
Наступил 1988 год, тысячелетний юбилей Крещения Руси. В воздухе носилось чувство перемены в отношении к Церкви в нашем безбожном государстве. Во всяком случае, пресса стала активно рассуждать, отмечать или не отмечать эту дату. Большинство выступлений было за то, чтобы не отмечать, мол, это дело церковников, а государства такое событие, как Крещение Руси, не касается.
Вдруг как гром с ясного неба для наших властей — международная организация ЮНЕСКО принимает решение праздновать Крещение Руси в ста странах мира как событие всемирного значения. Тут сразу в Кремле засуетились, и чаша весов стала склоняться в пользу участия государства в праздновании юбилея.
Примерно в феврале-месяце — сейчас точно не помню — выхожу я под вечер из регистратуры Казанского собора во двор, подходят ко мне трое молодых людей и спрашивают, где можно увидеть настоятеля. В это время вышел настоятель протоиерей Алексий Машенцев, и я их подвел к нему.
— Какие проблемы, молодые люди? — спрашивает он.
— Мы хотим пригласить вас в Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, — отвечают они, — чтобы вы выступили в нашем молодежно-дискуссионном клубе.
А надо оговориться, что публичное выступление священника вне стен храма было запрещено законом. За это можно было лишиться регистрации уполномоченного, тогда уж ни в какой епархии Советского Союза не устроишься. Отец Алексий это прекрасно знал, поэтому он, дипломатично сославшись на нехватку времени, отказал молодым людям. Те отошли явно огорченные. Не меньше расстроился и я: такая возможность, о которой мы и мечтать не могли! И я решился — была не была! Дождавшись, когда отойдет отец Алексий, я догнал молодых людей и говорю:
— Я тоже священник и могу у вас выступить. Они обрадовались, обступили меня. Спрашиваю:
— На какую тему я должен выступать?
— На тему тысячелетия Крещения Руси, — отвечают они.
Я задал им еще один вопрос, который меня все же волновал:
— С руководством вашего института это согласовано? Они беспечно махнули рукой:
— А зачем? Сейчас гласность и перестройка.
— Хорошо, — говорю, — это ваши проблемы, имейте только в виду, что со своим начальством я этот вопрос буду согласовывать.
— Согласовывайте с кем хотите, — отвечают они.
На этом мы и разошлись, предварительно договорившись о времени моего прихода.
Я действительно собрался подстраховаться и пошел в областную администрацию к уполномоченному по делам религии за разрешением. Надо отдать должное, на уполномоченных Волгограду везло. Волгоградская область была в то время, наверное, единственной, где строили сразу три храма: в селе Ахтуба и в городах Фролове и Михайловка. Естественно, такого просто не могло быть без участия уполномоченных. Например, в Саратовской области, где находилась основная кафедра архиепископа, не могли добиться строительства хотя бы одного храма, потому что уполномоченный там был, по выражению многих, «сущий зверь». Если увидит в городе идущего ему навстречу священника, то непременно перейдет на другую сторону улицы, лишь бы не здороваться: так он ненавидел священников. В Волгограде в то время был уполномоченным Юрий Федорович Бунеев, бывший моряк-подводник. Несмотря на то, что его недавно назначили на эту должность, он уже успел завоевать у духовенства глубокое уважение. В нем совершенно отсутствовали чванство и зазнайство, в общении он был прост, искренен и доступен, любил пошутить, прекрасно пел и был человеком начитанным. Мы с ним сразу сошлись на почве любви к книгам. Он мне помог купить страшно дефицитную тогда двухтомную энциклопедию «Мифы народов мира».
Юрия Федоровича я повстречал в коридоре администрации, он куда-то спешил, и мне пришлось объяснять ему ситуацию на ходу. Не знаю, насколько он вошел в ее суть, только махнул рукой: иди, мол, если зовут.
Я тщательно подготовился к выступлению и в назначенное время пришел к институту. У входа меня встретил комсорг института, весь какой-то растерянный. Поздоровались, он говорит:
— Ой, батюшка, что тут было! Как узнали о вашем намечающемся выступлении, все начальство на ушах который день стоит. Звонят постоянно то из КГБ, то из райкома, то из горкома партии с одним вопросом: «Кто вам позволил живого священника пригласить в государственное учреждение?»
Тут я не удержался и вставил реплику, перефразировав известную американскую поговорку насчет индейцев, мол, «хороший священник — мертвый священник». Комсорг говорит:
— Вы шутите, а мне не до шуток, уже выговор влепили, и, думаю, этим не отделаюсь. Но отменять поздно, объявления висят, все в институте знают, в актовом зале народу собралось — не протолкнуться, а вас начальство просит предварительно к ним в кабинет зайти.
Поднимаемся мы в лифте, заходим в просторный кабинет, вижу: расхаживают по кабинету дядечки солидные, жужжат, словно потревоженные шмели, а как меня увидели — жужжать перестали, подходят здороваются. Комсорг их всех по очереди представляет: это директор, это его зам, это парторг института, это профорг. Я им руки жму, а сам уж запутался, кто есть кто. Вдруг все расступаются, выплывает человек приятной наружности при галстуке, и мне торжественно представляют его:
— А это наш главный религиовед области Николай Николаевич (фамилию уже, к сожалению, не помню).
Жмет он мне руку, здрасте, мол, тезка ваш и почти что коллега. Директор всех пригласил присесть к столу, и парторг открыл совещание: как, мол, будем проводить встречу, ведь дело необычное, не каждый день священник в институт приходит, какой у нас будет регламент этой встречи. Тут все сразу зажужжали: да, вот именно, какой регламент? Каждый из сидящих произнес этот вопрос, не давая при этом на него ответа. Один я сидел молча. Тогда все вопросительно посмотрели на меня.
— Какой регламент нужен — я не знаю, мне все равно, дадите выступить — я выступлю.
Тут инициативу взял в свои руки парторг. Он встал и решительно заявил:
— Значит, так, товарищи, вначале выступит Николай Николаевич, затем батюшка, и его выступление снова замкнет Николай Николаевич, — при этом он наглядно продемонстрировал, как это будет, сомкнув с хрустом пальцы обеих рук в замок.
Я представил себя между двумя клешнями огромного краба, который смыкает их так, что мои кости с хрустом ломаются, и содрогнулся. Но, посмотрев на добродушно улыбающегося Николая Николаевича, которому отводилась роль этого ужасного краба, сразу успокоился. Всем решение парторга пришлось по душе, они вторили ему как эхо: да-да, батюшка, а замкнет его Николай Николаевич.
Когда мы спустились в актовый зал, там действительно яблоку упасть некуда было: все места заняты и люди толпились в проходах и в дверях. Корреспондент «Волгоградской правды» приютился с блокнотиком на подоконнике. Мы с начальством сели за стол президиума на сцене, и комсорг, открыв встречу, предоставил слово Николаю Николаевичу. Тот встал и давай ругать молодежь, которая проявляет полное равнодушие к истории Отечества.
— Вы только подумайте, — негодовал он, — дата 600-летия героической обороны города Козельска прошла незамеченной, 300-летие со дня рождения Петра I — великого преобразователя России — тоже прошло без должного внимания!
В конце своей речи он неожиданно вынул из своего портфеля настольный церковный календарь за 1988 год. (Надо заметить, что в то время это был страшный дефицит: нам, священникам, давали только по одному экземпляру.) Потрясая этим календарем, он грозно вопросил зал:
— А кто мне скажет, что празднует Церковь первого января по новому стилю?
«Господи, — подумал я, — что же там может быть, первого января по новому стилю? Если бы по-старому — там все ясно: праздник Обрезания Господня и память святого Василия Великого. Хоть бы меня не спросил, вот опозорюсь!»
Из зала раздались голоса:
— Новый год.
— Нет, не Новый год, по церковному календарю новолетие первого сентября, — он торжествующим взглядом обвел притихший зал и провозгласил: — Первого января Церковь празднует память Ильи Муромца, того, кто, согласно русским былинам, Змею Горынычу головы рубил!
После этих слов он сел, посмотрел на меня, мол, знай наших, и, нагнувшись, спросил:
— Можно, отец Николай, я ваше выступление на магнитофон буду записывать, мне это для областного радио надо.
Я в знак согласия кивнул головой. Действительно, первого января празднуется память преподобного Илии Муромца, монаха Киево-Печерской Лавры, который был, по всей вероятности, из города Мурома и мог быть воином княжеской дружины, защитником земли русской. При чем здесь Змей Горыныч, я так и не понял, но спрашивать не стал.
Я выступал около часа, обозначив главные исторические вехи Русской Православной Церкви и их роль в жизни нашего Отечества. Начал издалека, с крещения Великой княгини Ольги, и закончил современным состоянием Церкви, Внимание мой рассказ вызвал предельное, в буквальном смысле пролетевшую муху было бы слышно. Закончив выступление, я сел и с любопытством стал ожидать, как будет меня замыкать в клещи Николай Николаевич: уж если одной клешней стал Змей Горыныч, то другой должна быть, по логике, Баба Яга. Но Николай Николаевич не стал вводить персонажей русских сказок, а сказал просто, что батюшка, мол, изложил все хорошо, но у них несколько другой взгляд на историю Крещения Руси. Русь познакомилась с христианством еще задолго до крещения князем Владимиром, и мы с Византией еще долго присматривались друг к другу (в этом я с ним согласен). Но в чем «иной взгляд» состоит, он так и не объяснил, закончив на этом свое выступление. Затем собравшимся предложили задавать нам вопросы. Их посыпалось много, но все они были обращены исключительно ко мне. Испытывая неудобство перед главным религиоведом, те вопросы, которые могли входить, по моему мнению, в его компетенцию, я с радостью переадресовывал ему. Наконец Николай Николаевич сам решил меня спросить:
— А как вы, батюшка, относитесь к борьбе с пьянством, которую бескомпромиссно и последовательно ведет наша партия?
Я высказался положительно за борьбу с пьянством, сославшись на Священное Писание, которое говорит: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», — но в то же время выразил сомнение по поводу методов этой борьбы, опять же обратившись к авторитету Священного Писания, где говорится: «Доброе вино веселит сердце человека», — тем более, что Сам Христос совершил на свадьбе в Кане Галилейской свое первое чудо, превратив воду в вино, а не наоборот.
— А сейчас что получается, — продолжаю я, — хочу купить себе бутылочку коньяка, чтобы разговеться на Пасху, но не могу стоять по полдня в очереди. Великим постом не в очереди нужно стоять, а в храме на молитве.
Тут весь зал зааплодировал. Видя такой крен на идеологическом фронте, буквально взвился со своего места парторг:
— А вы верите в коммунизм?
«Вот тебе и на, как говорится, приплыли, — думаю я. — Если сказать прямо, что не верю, то — поминай как звали, пришьют антисоветскую агитацию и пропаганду, УК РСФСР, ст. 70 — до трех лет лишения свободы». Решил ответить обтекаемо-уклончиво, мол, я могу допустить, что со временем общество добьется невиданных результатов в сельском хозяйстве и промышленности, настанет такое изобилие плодов земных, что каждому — по потребностям и, естественно, от каждого по способностям. Но вот то, что когда-нибудь будет общество, в котором нет Церкви, я допустить даже в мыслях не могу.
— Вы противоречите сами себе! — вскричал парторг.
Я не стал вступать с ним в дискуссию, и на этом встреча закончилась.
На следующий день позвонил в собор Юрий Федорович и попросил меня зайти к нему. Прихожу, а он смеется:
— Ты что натворил, отец Николай, весь институт разложил своей агитацией, теперь люди требуют, чтобы им Библию дали почитать! Мне тут покоя звонки не дают, наверху возмущаются, велят разобраться, почему попы; по государственным учреждениям расхаживают, как у себя в церкви. Но я им сказал, что дал тебе разрешение, так сказать, принял удар на себя.
— Спасибо вам, Юрий Федорович, что заступились, ведь вы могли и отказаться, говорили-то мы с вами в неофициальной обстановке.
— Что же ты думаешь, у одних священников совесть есть? У нас,
моряков, честь превыше всего. Скажу тебе по секрету: в Москве готовится встреча руководства страны с руководством Церкви, так что скоро выступления священников будут не редкость. Но твое — первое, поэтому давай выпьем за такое историческое событие, — и он достал из стола бутылочку коньяка.
Действительно, вскоре произошло поистине историческое событие: за круглым столом в Кремле Михаил Сергеевич Горбачев встретился с Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Пименом, и отношения государства и Церкви круто изменились.
Но самое интересное, что в скором времени эта история получила очень необычное завершение. Отучившись два года в Ленинградской Духовной академии, я перешел на экстернат и вернулся по просьбе Владыки Пимена служить в нашу епархию, так как планировалось открытие в Саратове Духовной семинарии и Владыка намеревался поручить мне это дело. Я стал снова служить в Казанском соборе. Как-то раз, когда был мой черед совершать таинство Крещения, наша горластая регистраторша Нина кричит:
— Отец Николай, идите крестить, вас дожидается мужчина!
Вхожу я в крестильню и глазам своим не верю: стоит главный религиовед области Николай Николаевич, держит в руках квитанцию на крещение, свечки и крестик. Я обрадовался ему как старому знакомому. Он мне говорит:
— Я, отец Николай, подготовился как положено, выучил «Отче наш» и «Символ веры» наизусть.
Вот такие невероятные истории случаются в обыкновенной жизни.
Волгоград, январь 2002 г.
ЧУДО В СТЕПИ
Один, второй, третий толчок — наш «жигуленок» буквально сотрясало от неожиданных порывов ветра. Мы ехали по степной дороге от города Камышина в Саратов. Ветер дул со стороны Волги в правый бок автомобиля. Казалось, будто огромные ладони какого-то невидимого великана мягко, но сильно толкают нас, забавляясь автомобилем, как игрушкой. За рулем сидел хозяин «Жигулей» Сергей Булхов. Находясь с ним рядом, я чувствовал себя спокойно, так как знал — машина в надежных руках опытного профессионала. Сергей работал водителем такси в Волгограде. Старую двадцать четвертую «Волгу» с шашечками, на которой он трудился, можно было нередко видеть возле Казанского собора, куда он приезжал на службу. Там мы с ним и познакомились. Часто беседуя на богословские темы, я наблюдал, как он возрастал духовно от силы в силу, и радовался за него.
Парень он был на редкость сообразительный и умный. Правда, чувствовалось влияние на него индийской теософии с ее йогой, которой, по-видимому, он увлекался до прихода в Церковь, но через подобное прошли многие неофиты. Я дал ему книгу по исихазму и умной Иисусовой молитве: она стала его настольной книгой. Решил свозить его в Саратов, чтобы представить архиепископу Пимену как возможного кандидата к рукоположению во священника. В Саратов поехали на машине. Если бы мы знали, что с нами может приключиться, то непременно сели бы на поезд. Теперь вот мчимся по заснеженным степям Поволжья, и чувство беспокойства невольно охватывает наши души. До Камышина добрались благополучно, надеясь, что и дальнейший путь у нас протечет так же гладко. Но в этом мы жестоко ошиблись. Вслед за порывами ветра посыпал снег. Сергей обеспокоенно произнес:
— Как бы нам, отец Николай, не пришлось в степи ночевать. Может, повернем назад?
— Обидно, — говорю я, — больше половины дороги проехали, может, распогодится, и даст Бог — доедем.
Сумерки спустились быстро. Дорога то ныряла вниз затяжным спуском, то поднималась вверх. Когда поднялись на очередной холм, перед нами открылась картина: множество огней вдали вереницей уходило за горизонт. Подъехав поближе, увидели, что это были большегрузные «КАМАЗы» с прицепами. Мы вышли из машины, спросили, почему все стоят. Водитель крайнего грузовика, матерясь через каждое слово, объяснил нам, что дальше дороги нет, все занесено и они будут ждать до завтра прибытия тракторов. Про нас он сказал, что мы вообще ненормальные, что, когда вернемся домой, нам надо сходить к психиатру провериться. Мы повернули и поехали назад в Камышин. Снег все усиливался. Ветер лепил такие хлопья, что стеклоочистители едва справлялись. Видимость ухудшилась до того, что ехали, как говорится, на ощупь. Во многих местах дорога была пересечена снежными заносами, Сергей их таранил, пробивая на скорости. После одного из таких таранов автомобиль развернуло поперек дороги, так что носом он уперся в один сугроб, а сзади его подпер другой.
— Все, отец Николай, кажется, мы с вами, что называйся, приплыли: ни взад, ни вперед, — сказал обреченно Сергей.
Вышли из машины. Сильный порыв ветра сорвал с меня меховую шапку и, зловеще свистя, унес ее в снежные дали. На Сергее была лыжная шерстяная шапочка, которую он натянул до самых глаз. Я залез в машину, вытащил из портфеля скуфью и водрузил ее поглубже на голову. Рассчитывая от дома до епархиального управления ехать в теплых «Жигулях», я не удосужился обуть зимние ботинки, вырядившись в демисезонные туфли.
— Через два часа нашу машину занесет снегом полностью, если мы не выберемся куда-нибудь на пригорок, где продуваемое открытое пространство и снег не задерживается. Уходить куда-то в степь, искать селение — тоже верная смерть, — подытожил Сергей, скептически глянув на мои ботиночки.
Мы стали ногами отгребать снег от машины и рывком, поднимая задок, старались закинуть его влево. Несмотря на неимоверные усилия, за один раз нам удавалось продвинуть машину на один-два сантиметра. Окончательно выдохнувшись и задубев, мы садились в нее, включали двигатель и отогревались. Затем вновь продолжали свою работу. Ценой огромных усилий нам удалось развернуть машину так, что можно было ехать вперед. Проехав немного, мы увидели чистую, ровную площадку дороги и остановились на ней. Здесь стоял кем-то брошенный «ГАЗик» с будкой, закрытой на висячий замок.
— Будем стоять до утра, — сказал Сергей, — а там видно будет. Но у нас, батюшка, другая проблема, и очень серьезная. Бензин на исходе, когда он закончится, мы окочуримся с холоду. Помощи, по-видимому, ждать неоткуда, трактора подойдут сюда только днем. Так что можно писать завещание родным и близким.
При этих словах мне почему-то припомнилась песня про ямщика, который, замерзая в степи, отдает последний наказ товарищу. Мы с друзьями очень любили петь эту песню во время праздничных застолий. Распевая ее протяжно, не спеша, наслаждались гармоничным созвучием разных голосовых партий. Когда мы пели ее в теплом уютном доме, смерть ямщика казалась такой романтичной, умилительно-грустной. Но теперь, когда сплошное белое марево бушевало над нами и вокруг нас, заслоняя весь Божий мир так, что реальными казались только этот буран и снег, мне петь нисколько не хотелось. И умирать, когда тебе вскоре должно исполниться только тридцать три, тоже не хотелось.
— Ты знаешь, Сергей, нам с тобой надо молиться святому Николаю Угоднику, ибо спасти нас может чудо, а он — Великий Чудотворец.
И для убедительности я рассказал про чудо святителя Николая, которое он сотворил в 1978 году. Я тогда еще служил в Тольятти диаконом и один раз, отправляясь в Москву на экзаменационную сессию, безнадежно опаздывал на поезд. Когда сел в такси, до отправления поезда оставалось пять минут, а ехать до вокзала минимум двадцать. Тогда я взмолился своему небесному покровителю, чтобы он сотворил чудо. Чудо произошло: когда мы приехали на вокзал, оказалось, что у поезда заклинило тормозные колодки и он простоял лишних двадцать минут.
За неявку на сессию мне грозило самое большое — отчисление из семинарии, а теперь на кону стояли наши жизни. После моего рассказа принялись с Сергеем усердно молиться Николаю Чудотворцу. Из снежной пелены вдруг выплыла огромная машина — трехосный «Урал» — и остановилась. Мы объяснили водителю нашу проблему. Он молча протянул двадцатилитровую канистру бензина. Подавая пустую канистру назад, я спросил:
— Скажи, добрый человек, как хоть твое имя, чтобы мы могли помянуть тебя в молитвах?
Уже отъезжая, он крикнул в приоткрытую дверцу:
— Николаем зовут.
«Урал» растаял за снежной завесой, а я еще долго стоял, не в силах прийти в себя от случившегося.
Утром буран успокоился, Сергей надел на задние колеса цепи и мы, пробившись до Камышина, благополучно возвратились в Волгоград.
Волгоград, январь 2002 г.
«Я ОТПУСКАЮ ЕГО С МИРОМ»
Празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году — одно из самых волнительных событий последней четверти XX века. На наших глазах происходило что-то необыкновенно важное. Другими словами, мы чувствовали, что наступает новая эпоха для всей полноты Русской Православной Церкви. Мы видели, как стремительно меняется отношение к Церкви со стороны властей и общества. Стало ясно, что будут открываться новые храмы и монастыри, духовные семинарии и училища. Но где же взять такое количество преподавателей для подготовки новых пастырей и церковнослужителей? Размышляя над этой проблемой, я принял решение поступать учиться в Духовную академию. Семинарского образования для начинающейся эпохи явно было недостаточно. В Московскую Духовную академию я пробовал поступить и раньше, однако тройка по литургике в семинарском дипломе портила все дело: не принимали меня в академию — и все тут. Но в 1988 году у меня появилась твердая уверенность, что в академию поступлю. Я стал просить у своего небесного покровителя святого Николая Чудотворца помощи в этом деле.
Свой летний отпуск в 1988 году я решил провести в Ленинграде, там встретил своего однокашника по Московской Духовной семинарии Юру Епифанова. К этому времени он уже стал протоиереем Георгием и секретарем митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (будущего Патриарха Алексия II). Сижу я в гостях у отца Георгия, попиваем чаек, вспоминаем свои семинарские годы, вдруг он говорит:
— Ты представляешь, отец Николай, начали нам власти храмы передавать, естественно, в разрушенном состоянии, а ставить настоятелями в них некого. Хороших-то священников много, но они, образно говоря, цемент от песка отличить не смогут.
Тут я встрепенулся, говорю:
— Поставьте меня, я бывший строитель, буду восстанавливать.
— У тебя прописки ленинградской нет, нельзя.
— Вы меня в Духовную академию примите, — говорю я, — мне дадут временную прописку на четыре года учебы — и как студента командируйте меня исполняющим обязанности настоятеля храма. Я буду храм восстанавливать и учиться.
— Хорошо, — говорит отец Георгий, — я поговорю с митрополитом.
Слово свое отец Георгий (ныне архиепископ Арсений) сдержал.
В начале сентября пришла телеграмма из Ленинграда о том, что меня принимают в Духовную академию. Сказал об этом своей супруге, матушке Иоанне. Она была против, но я уговорил ее. Теперь, думаю, как же Владыку Пимена уговорить отпустить меня учиться? Никакой архиерей на подобное не пойдет, заочно — пожалуйста, а тут очное обучение, это потерянный для епархии человек. Но что-то надо делать. Еду в Саратов, в епархиальное управление. Подхожу к секретарю-делопроизводителю Евгению Степановичу, поделился с ним своей проблемой. Он мне посоветовал:
— Ты, отец Николай, не подходи сразу с этой просьбой, а побудь в управлении, понаблюдай за Владыкой. Если увидишь, что у него хорошее настроение, тогда и проси. А то попадешься под горячую руку — с ходу откажет, второй раз не обратишься.
Я так и сделал. Хожу по канцелярии, то к машинисткам отправлюсь, то во дворе загляну в гараж к водителям, то на складе посижу, а сам с Владыки глаз не спускаю. Архиерей на месте не сидел, из канцелярии несколько раз в свой дом ходил. Вот вижу, Владыка в очередной раз из дома идет и улыбается. Ну, думаю, значит, настроение у него хорошее. Заходит он в свой кабинет, а я за ним следом:
— Разрешите войти?
Как вошел — сразу на колени перед архиереем.
— В чем дело, отец Николай? По-моему, сегодня не Прощеное воскресенье — в ноги падать, встаньте и говорите.
Встал я и выложил все начистоту. Задумался Владыка, потом подходит к двери кабинета, распахивает ее и кричит:
— Идите скорее все сюда!
Да так громко крикнул, что все епархиальные работники, от секретаря до уборщицы, вмиг сбежались, словно только и ждали этого момента. Я думаю, ну все, сейчас при всех пристыдит меня как дезертира. Короче, приготовился к самому худшему. Владыка говорит:
— У меня сегодня самый печальный день. Отец Николай Агафонов просится, чтобы я отпустил его учиться в Духовную академию. Но мне он нужен здесь: столько работы начинается в епархии, а он священник грамотный, способный. Однако ему хочется учиться. Что же мне делать?
Все работники управления смотрят на меня с осуждением, качают головами: вот, мол, какой нехороший отец Николай — Владыка столько для него добра сделал, а он, неблагодарный…
— Я ведь могу не отпустить его, имею на то полное право. Если б это нужно было только для него, я так бы и поступил. Но поскольку это нужно для Церкви, я отпускаю его с миром.
Что тут началось! Все меня стали обнимать и поздравлять, откуда-то появилось шампанское. Владыка провозгласил тост:
— За будущие успехи нового студента.
Тогда, в 1988 году, еще никто не знал, что через три года Владыка Пимен будет возрождать в Саратове Духовную семинарию и благословит выпускника Санкт-Петербургской Духовной академии быть ее ректором.
Волгоград, январь 2002 г.