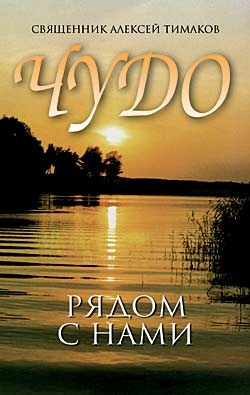Духовное зрение очевидца
Чудеса и знамения издавна почитаются знаками Божественного присутствия в мире и благодатной любви Божией к нам. В религиозной и светской литературе, искусстве, истории сохраняются рассказы об этом от глубокой древности до наших дней. В современной жизни тоже есть место чуду, особенно если оно хорошо подготовлено человеческой верой, надеждой, любовью и желанием разглядеть Промысл Божий сквозь пелену забот и волнений суетного мира.
Личные наблюдения в прошлом врача, а ныне священника отца Алексия Тимакова служат достоверным и объективным свидетельством того, как в реанимации, экстренной медицине, буквально на переднем крае борьбы за жизни людей, происходят современные чудеса: исцеления, покаяния и даже – воскрешения. Господь всегда управляет нужными силами в нужное время, и сам факт совершившегося чуда раскрывается Творцом во всей полноте только тем, кто с доверием взывает к Нему о помощи. И как же важно не преуменьшить, но и не преувеличить роль чуда в нашей повседневной действительности! Преодолеть искушение укрепить свой авторитет или престиж конкретного храма, прихода, учреждения, узрев какой-либо "волшебный" знак там, где его на самом деле нет, или поддаться излишнему рационализму, ослепляющему духовное зрение.
Ответственность рассказчика-очевидца перед Богом и людьми велика, но и умолчать о происходящем он не может. Сложный, многоцветный и удивительный узор стечения естественных и сверхъестественных обстоятельств особенно хорошо виден в чрезвычайных ситуациях, в моменты, когда решаются вопросы человеческой безопасности, жизни и смерти.
| Вы не уверуете, |
Очень часто мы относимся к чуду, как к чему-то поражающему нас именно своей невозможностью, потрясением всех основ бытия. Но бывают ситуации, которые воспринимаются как чудо только через нашу веру, только через обнаружение Промысла Божия в самой обыденной и повседневной жизни. Такие явления из своего личного опыта мне и хотелось бы предложить. Все они связаны с критическими ситуациями в жизни человека. Именно в эти моменты человек бывает особенно искренен и воспринимает все значительно острее и правдивее, а всякая ложь уходит, ибо ей не остается места. Переживанию таких мгновений можно было бы поучиться у детей.
– Бабушка,– спрашивает на похоронах двухлетний Тимофей,– а дедушке там будет лучше?
– Конечно!
– А тогда что же ты плачешь?
Профессор Павел Васильевич Владимиров, представитель одного из первых поколений отечественных реаниматологов, рассказывал: "У меня друг был. Вместе с ним начинали в реанимации. С какими мы только проблемами не встречались, в каких мы только передрягах не были! И вот однажды после очередного своего напряженного дежурства он ко мне подходит и говорит:
– Знаешь, Павлик, я вот до сих пор в этой медицине никак двух вещей понять не могу: отчего люди умирают и почему они выживают?".
Особенно ценно было это высказывание потому, что вырвалось оно из сердца скептика в эпоху практически всеобщего атеизма.
Безусловно, медицина – это наука, но такая странная, загадочная: никогда нельзя быть уверенным в результате, особенно в реанимации. Знаешь, что делать, как делать, и в самых, казалось бы, безнадежных случаях идешь до конца. Божие присутствие в этих пограничных состояниях жизни особенно ощутимо, ибо ты становишься свидетелем обратного порядка творения человека, когда персть земная расстается с дыханием, данным Творцом. В таких ситуациях открывается многое; и всю жизнь переосмысливаешь, и много постигаешь таких нюансов, с которыми в обыденности никогда бы не соприкоснулся. И все участники этих событий проявляются обычно в неожиданном свете, возможном только в крайних состояниях жизни и способном полностью изменить прежнее представление о человеке.
Крест
Это было в 1986 году, когда разговоры о Боге и вере вне Церкви были почти невозможны. Я работал врачом "Скорой помощи". Выезжая на вызов, никогда не знаешь, в какой ситуации окажешься: приехать можно и к алкоголикам, и к наркоманам, и просто к "долго прождавшим" родственникам, хотя, возможно, ты сам получил вызов только пятнадцать минут назад,– то есть возможны вспышки агрессивности.
В тот день мне помогала медсестра, которая была очень опытным специалистом и заботливой матерью, но уж если раскрывала рот, то лучше было заткнуть уши. Казалось, никакой религиозной отзывчивости от нее ожидать не приходится. И вот мы приезжаем на вызов к очень простой и малообразованной женщине лет шестидесяти, которая, как написано в карте вызова, задыхается. Передо мною пациентка с огромной опухолью на шее, затрудняющей дыхание. Это явно не первый день ее болезни, и я, объяснив, как ей лечь в специализированный стационар, сажусь оформлять медицинскую карту.
И вот, пока я пишу, до меня долетают слова больной:
– А меня однажды уже вешали!
Я отрываюсь от карты и с удивлением спрашиваю:
– Когда?!
– В сорок первом. Мы жили в Белоруссии и попали под оккупацию. Я, тогда еще девчонка, чернявая была. Немцы решили, что я еврейка, и потащили на виселицу. А когда поставили на помост, прежде чем накинуть петлю, разорвали воротник. Я тогда глупая была – крестик носила. Они же, увидев крест, поняли, что я не еврейка, и вешать меня не стали!
Мы внимательно слушали этот страшный рассказ.
– Вета! – повернулся я к своей напарнице.– Если бы тебя однажды Крест Христов спас от смерти, ты бы смогла его после этого снять?
Чувствовалось, что все услышанное проняло ее, и в священном ужасе и благоговении, но вместе с тем очень твердо она ответила:
– Никогда в жизни!
– А она,– указал я на пациентку,– не только не носит, но и то время, когда носила, считает потерянным, думая, что была глупой!
Господь удивительным образом призывал Свое чадо, чтобы оно опомнилось и вернулось в Дом Отчий. Сама больная интуитивно чувствовала связь двух этих событий – эшафота и болезни, употребив в рассказе слово "уже", но при этом осталась глуха к Божиему призыву.
Ожидание
Часто священнику бывает необходимо прийти на дом: причастить или пособоровать больного, освятить квартиру, просто побеседовать. Для Причастия необходимо захватить с собою запасные Святые Дары. Они заготавливаются однажды в году в Великий Четверг, высушиваются и всегда хранятся на Престоле в Дарохранительнице. В них не содержится отдельно Крови Христовой. Иногда родственники слишком поздно обращаются к священнику, и в этом случае Крови взять неоткуда [1].
За годы своего священства я заметил одну закономерность: если больного долго уговаривали, а он все отказывался, то причастить его обычно не удается. А вот если, несмотря на все его просьбы, родственники или иные обстоятельства препятствовали этому, то, как правило, человек перед смертью все-таки успевает приобщиться Святых Таин. (Какое это имеет значение для православного сознания, я думаю, объяснять не надо.)
Принципиально причащать больного в бессознательном состоянии нельзя. Но если доподлинно известно, что он, будучи в сознании, жаждал причастия, то священник может взять на себя ответственность и на свой страх и риск совершить Таинство [2].
Второго февраля 2000 г., в четверг, накануне мясопустной родительской, после того, как я отслужил Божественную литургию и потребил Святые Дары, ко мне обратилась родственница умирающей. Я выяснил, что больная уже без сознания. Мне не с чем было идти к ней, что повергло в отчаяние ее дочь:
– Она так просила, а я все откладывала!..
Учитывая свой личный опыт (после работы на "скорой" я пятнадцать лет проработал в условиях реанимации и анестезиологии), я решил, взяв запасные Дары, разобраться на месте. Состояние пациентки оптимизма не внушало: глубокая кома, нарушение мозгового кровообращения, обезвоживание организма, слабая сердечная деятельность и сильная одышка у очень пожилой женщины говорили о близкой смерти. Даже в условиях реанимации такие больные редко выдерживают более суток. По моим понятиям, бабушка не должна была дожить и до утра, даже если ей поставить капельницу. Отчитав дочь за упущенную возможность по-христиански подготовить мать к смерти, я для очистки совести все-таки дал кое-какие медицинские рекомендации, почти не сомневаясь в том, что они не помогут.
На следующий день я вновь служил и в конце литургии, опять-таки для очистки совести, попросил своих помощников позвонить на квартиру умирающей. Каково же было мое удивление, когда мне сообщили, что она еще жива! Я самодовольно соотнес это с тем, что были выполнены мои "реанимационные" указания, и через сутки после первого визита вновь был у постели больной, но уже с походной чашей с Христовой Кровью. На самом деле, как выяснилось, мои медицинские советы никто и не пытался выполнить, но состояние умирающей осталось практически таким же. Для меня это было свидетельством того, что духовная жизнь человека продолжается в любом его состоянии и что бабушка, жаждавшая Причастия, услышав духом, что я могу прийти на следующий день, просто меня дождалась! Помолившись, я причастил ее.
Через три или четыре часа, когда я уже вернулся в храм, перед вечерней службой ко мне подошла дочка и сообщила, что мама ее умерла через полчаса после моего визита. Дочка была мирна и спокойна. Маму ее мы поминали уже на этой вселенской панихиде.
- Здесь, видимо, речь идет о тех случаях, когда больной уже не способен принимать твердую пищу и его можно причастить не Телом Христовым (напитанным при заготовлении Даров Кровью), а только лишь Кровью Христовой. А Кровь отдельно храниться не может, что и делает в подобном случае Причащение невозможным.– Изд. ^
- Это мнение является совершенно частным, ни в коем случае не может быть предложено как правило. Наоборот, значительная часть духовенства придерживается противоположных взглядов.– Изд. ^
Причастие
В том же 2000 году, перед Рождеством, как-то в середине недели у меня накопилось много треб, и в перерыве между утренним и вечерним богослужениями я отправился к ожидавшим меня. Предстояло мне, как я полагал, причастить двух человек и освятить одну квартиру. Всегда стараешься сначала посетить болящих, так как они говеют, и уж после идешь к тем, кто может спокойно подождать. Я так и распределил свое время. Взяв с собой две Частички Святых Даров, я причастил двоих страждущих и отправился пешком на освящение квартиры в один из самых дальних уголков нашего района, куда не ходит никакой транспорт. Как только мне открыли дверь, я понял свою ошибку. Полгода назад я уже причащал эту тяжело больную женщину, и просто что-то перепуталось в моей голове, когда я собирался,– причастить было уже нечем. Вернуться в храм и взять запасные Дары возможности не было – я просто не успевал. Извинившись, я пообещал прийти в ближайшую субботу, хотя всеми силами старался освободить середину дня той первой послерождественской субботы для личных целей. И возвращаясь в храм, я порицал себя, ибо, скорее всего, не получалось теперь исполнить все намеченное. Но что делать? Раз виноват – значит, исправляю!
Через пару дней, отслужив субботнюю литургию и поместив в маленькую походную чашу Частичку Тела и немного Крови Христовой для той самой болящей, я вышел из алтаря; небольшое количество Крови Христовой оказалось в походной чаше только благодаря моей оплошности в середине недели [1].
Ко мне подошли мужчина и женщина среднего возраста. Они были чем-то взволнованы, в глазах читалась мольба.
– Батюшка,– обратились они ко мне,– не могли бы вы причастить нашу маму? Она умирает. Тут недалеко, в поселке Восточном. Мы на машине довезем. Мы несколько раз обращались к нашему батюшке из церкви Димитрия Солунского, а он так и не смог. Сегодня вот к вам послал.
Отказать я не мог, тем более что Святые Дары в дароносице находились у меня на груди. В голове, правда, промелькнул соблазн в виде досады: "А ты еще надеялся успеть все доделать; плакали твои сегодняшние заботы!"
До Восточного – километров пятнадцать. Мы быстро доехали до места. Больная была в очень тяжелом состоянии, хотя и в сознании. Я смог ее напутствовать, а причастил только Кровью – она смогла проглотить лишь жидкость. Но Кровь-то в чаше была!
Так Господь, соединив мою нерадивость с нерадивостью другого священника, устроил все, чтобы Его верная раба, причастившись, с миром отошла к Нему.
Меня же мои провожатые доставили на Причастие к той, забытой мной, но не Богом, болящей из дальнего уголка и на своей же машине отвезли в храм. Ко всему прочему, все так ладно спорилось, что я успел сделать все намеченные на ту субботу дела, несмотря на то, что времени на их выполнение, казалось, вовсе не оставалось.
- Той оплошности, которую отец Алексий хотел таким образом исправить.– Изд. ^
Елеосвящение
Елеосвящение, или Соборование, очень четко обосновано в Соборном послании апостола Иакова (см.: Иак. 5, 14) и очень любимо православным народом. Его точное назначение лично я могу определить как Таинство сугубого покаяния. Действительно, все молитвы, все подборки текстов Писания призывают пристально всмотреться в себя, осознать свою греховность и с мольбой уповать на Господа, прося у Него прощения и примирения с Ним. Мы больны грехом и исцеления именно от этого недуга просим у Господа.
Наверное, самым замечательным чудом в нашей православной жизни является чистая вера простых сердец прихожан, которые умоляют батюшку прийти и приготовить их родственника к встрече с Господом. Об одной ситуации, которая в значительной степени прояснила мое отношение к Елеосвящению, мне бы и хотелось рассказать.
Первого августа 2000 г., когда в Москве пребывали мощи великомученика и целителя Пантелеимона, меня по храмовому телефону разыскала женщина с просьбой причастить и пособоровать ее умирающую бабушку. Выяснив, что больная почти без сознания и в контакт практически не вступает, я взял с собой Святые Дары, надеясь, что все-таки смогу чем-то помочь, и отправился к ним.
Квартира, куда меня позвали, была довольно убогим жилищем, к тому же достаточно неопрятным. Похоже, что полы там не подметались месяца три. Я прошел через проходную комнату, где громко кричал телевизор, а уставившийся в него неряшливо одетый парень лет двадцати, как выяснилось в дальнейшем, правнук болящей, курил так, что дымом заволокло всю комнату. У стены стоял диван с неубранной, несмотря на послеобеденное время, постелью; казалось, что белье не менялось с полгода. Здесь явно не ждали священника, точнее, до него не было никакого дела. Все это не настраивало на молитвенное делание, ради которого, собственно, я и пришел.
Пройдя дальше, я оказался в комнате умирающей. Обстановка также не отличалась опрятностью; хорошо хоть никто не курил. В комнате, кроме умирающей, находилась позвавшая меня раба Божия со своим шестилетним сыном. Внучка больной жила где-то на юге Москвы, кажется в Марьино, и добираться до места, чтобы по-человечески ухаживать за бабушкой, ей было трудно. К тому же ее семейные обстоятельства, насколько я понял, тоже были неблагополучны.
Она была из неофитов, из тех, кто, по выражению Пастернака, "все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени". О замечательном примере ее рвения мне поведал ее сын, когда мы с ним остались наедине: несколько дней назад они с матерью совершили паломничество к мощам целителя Пантелеимона в Николо-Перервенский монастырь, выстояли там часов десять в огромной очереди, а возвращались домой ночью пешком – городской транспорт не работал, а денег на такси не было… Благодаря внучкиному дерзновению я и оказался у постели умирающей. И если должна быть исполнена всяческая правда Божия, то бабушку необходимо было и причастить, и пособоровать.
Бабушка, в отличие от внучки, не выказывала усердия в вере, и если первая за семь лет своего обращения пыталась всеми силами и разумением войти в православную практику и молитвенное делание, то вторая за все воспринятые ею крупицы церковности могла бы благодарить только внучку, которая за эти семь лет сумела ее уговорить один раз пособороваться и дважды причаститься, причем, последний раз – полгода назад. Конечно, негусто, но уже что-то.
Умирающая не подавала никаких признаков сознания. Мои попытки как-то войти с ней в контакт оказались тщетны, хотя это было отнюдь не коматозное состояние. В соборовании я сразу же отказал, а причастить ее, правда, только Кровью, все же решился,– по вере внучки.
Поставив на молитву внучку и ее сына, я прочитал краткое "Последование о причащении тяжко болящего", провел исповедь-молитву, которую провожу в тех случаях, когда человек не в состоянии сам предстательствовать за себя, дал разрешительную молитву и причастил больную. До самого последнего момента умирающая не выказывала никаких признаков участия, но как только она приняла капельку Крови Христовой, то вдруг очень твердо и спокойно произнесла "спасибо",– слово, никчемное в данной ситуации, если оно было обращено ко мне, а не к снизошедшему к ее немощи Господу Богу, но вместе с тем такое понятное для обыденной жизни выражение благодарности. Это показало полное присутствие человека на Таинстве. Это почувствовали все. Внучка попыталась меня уговорить причастить немощную бабушку Частичкой, но я не решился.
Времени на Елеосвящение у меня уже не осталось, но тут я выяснил, что соборовалась бабушка шесть лет назад, и понял, что необходимо будет вернуться сюда еще раз. Дав внучке совет читать по возможности Евангелие, Псалтирь и любые молитвы, которые умирающая могла помнить еще с детства, я ушел, пообещав в ближайшие дни позвонить и договориться о встрече. Буквально через два дня, выискав "окно" в своем распорядке, я вернулся туда.
Бабушка была в том же состоянии и так же безмолвна, но, памятуя о случившемся два дня назад, я приготовил все для Елеосвящения и начал службу. Когда я принялся читать канон, от одра болезни стали доноситься тихие, но очень четкие стоны: "Простите! Прости меня!". Это было так кстати и так вовремя; это было проявление максимальной разумности, на которую была способна девяностопятилетняя умирающая. Я воспринял это как крик души, обращенный и к Богу, и к внучке, и ко всем близким. Заблудшая душа во единонадесятый час при всей своей немощи из последних сил смогла выразить свою жажду примирения и с Богом, и с ближним. Эти её слова звучали в течение всего чтения канона. Когда же пришло время помазывать елеем, то на каждое прикосновение стручцом она отвечала знакомым, но уже не казавшимся никчемным "спасибо". У меня мурашки бегали по коже, на голове шевелились волосы. Там, где, казалось, бесы устроили свой шабаш и нет места молитве, Бог призрел на немощь и смирение Своей рабы и посетил ее Своею благодатию. Каждое прикосновение святого елея вызывало искреннюю благодарность страждущей. Эти "прости" и "спасибо" перемежались до завершения Таинства, которое у меня самого вызвало необычайное воодушевление. По окончании я вновь причастил ее, но уже, ничтоже сумняшеся, и Телом, и Кровью.
Теперь я воочию знаю, что такое Таинство Соборования, ибо являюсь свидетелем того, как немощный человек при всей слабости веры был воздвигнут силою благодати Божией на молитвенное бдение и сумел принести посильное покаяние. И самым непреложным знаком случившегося для меня являются те бедлам, убожество и неразумие, помноженные на мой скепсис, которых не возгнушался Господь Бог.
Находка
Соседка Дарья Митрофановна была одним из самых близких людей для нашей семьи; ее нежно называли Данечкой. Мы с братом-священником и не помним времени, когда бы ее забота и ласка не окружали нас. Сама она была бездетной, как многие женщины, молодость которых совпала с войной. Нам она заменила бабушку. Но особенно любила она моего брата, в котором не чаяла души.
В конце 1998 года она передала мне один очень важный документ, касавшийся брата, по поводу которого я должен был проконсультироваться у профессионалов. Я, однако, не спешил и положил бумагу в портфель, где она и оставалась до ближайшей оказии.
Седьмого января 1999 года, после Рождественской вечерни и нескольких бесед с прихожанами, я ближе к полуночи возвращался домой. Меня встретили трое грабителей, каждый из которых в одиночку вполне мог справиться со мной. Они крепко ударили меня по голове, так что я пролежал без сознания, как потом выяснилось, минут сорок (мне же показалось – мгновение). Когда очнулся, то не увидел ни бандитов, ни портфеля. Голова гудела и кружилась. Я, шатаясь, добрел до подъезда, с большим трудом вспомнил шифр кодового замка и поднялся в квартиру, одновременно перепугав и обрадовав домашних: было уже за полночь и все сильно волновались, а выглядел я, судя по всему, неважно.
Наутро, пытаясь привести в порядок свои мысли, я вспомнил о пропаже. И тут зазвонил телефон: нашелся в каком-то сугробе мой портфель, и добрые люди сумели меня разыскать по телефонной книжке. Конечно, ни денег, ни каких-то мало-мальски полезных вещей там не осталось, но и паспорт, и бумаги сохранились, за что я был очень благодарен моим обидчикам. Голова еще болела, я решил, что все на месте и не заметил пропажи того самого документа. Мне и на ум прийти не могло, чтобы то, что касалось исключительно моего брата, могло понадобиться кому-либо еще.
Данечка была женщиной пожилой, с серьезными проблемами со здоровьем. На Сретенье (15 февраля) она умерла. А через месяц брату понадобилась та бумага и он попросил меня ее привезти. Я, обнаружив, наконец, пропажу, страшно расстроился, ведь восстановить документ без участия покойной Дарьюшки было крайне сложно; я попробовал было, но результаты были малоутешительны. Получалось, что я невольно подвел брата.
Первого апреля с утра я оказался дома, что бывает не так часто. Вдруг мне позвонили, задали несколько вопросов, выясняя, имею ли я какое-либо отношение к Дарье Митрофановне, и сообщили, что нашлась та самая бумага. Я в ней нигде не упоминался и моих координат там не содержалось, но какая-то добрая женщина за три дня до этого обнаружила листочек, торчавший из-под подтаявшего снега, совсем неподалеку от того места, где я лежал без памяти, провела самостоятельные поиски и совершенно непостижимым образом вышла на меня. Утвердило ее в правильности выбора то, что я проживал в этом районе.
Первое апреля (девятнадцатое марта по старому стилю) – день памяти мученицы Дарии. Наша Дарьюшка отличалась необычайной хлопотливостью и усердием; один из ее "подвигов" даже запечатлен Солоухиным в рассказе "Чаша". Не довести начатое дело до конца было выше ее сил. И здесь, чувствуется, пока не доделала – не успокоилась, прислав в день своих именин весточку с того света…
Сын
Когда в 1985 году у меня родился Глеб, я был молодым врачом "Скорой помощи". Какие-то институтские знания были, но опыта, конечно, никакого, и когда сынишка в возрасте полутора месяцев заболел, я не смог разобраться самостоятельно, что именно с ним произошло. Справедливости ради надо сказать, что проблема была непростая: на коже и слизистых стали появляться мелкие кровоизлияния в виде точечек и пятнышек, иногда сливавшиеся. Я всеми силами старался прогнать от себя мысль о каком-либо системном заболевании и пытался поначалу интерпретировать сие как самую банальную аллергию, хоть и прекрасно видел, что совсем на нее не похоже.
В это время мы находились на даче, и в местной больнице и не отвергли, и не утвердили моих опасений. Я решил больше не искушать судьбу, схватил в охапку своего отпрыска и тут же отправился в Москву, в Филатовскую больницу.
Доктора с очень озабоченным видом осмотрели малыша, не придя ни к какому определенному выводу. Чувствовалось, что прежде всего они склоняются к какому-то неясному системному поражению организма. Порекомендовав при отсутствии улучшений обратиться вновь, они отпустили нас домой. Умеряло беспокойство только то, что ребенок был довольно спокоен.
Однако к утру стало ясно, что ждать больше нельзя: мальчик медленно превращался в маленький синячок. Я помчался к очень ценимому мною педиатру, человеку редкой трезвости ума, который вел прием в поликлинике при той же Филатовской больнице. Он поставил первый пришедший ему в голову входной диагноз на госпитализацию и отправил нас на "скорой" в инфекционную больницу – там, мол, разберутся. Там разобрались только отчасти: отвергли инфекцию и с неясным диагнозом переправили в Морозовскую больницу.
Моя жена легла в стационар вместе с мальчиком и передавала мне все сведения, которые ей удавалось выяснить у лечащих врачей. Она тоже закончила медицинский институт, но я имел некоторое преимущество: я мог дома, обложившись книгами, анализировать всю поступавшую информацию.
Проблема оказалась даже серьезнее, чем я предполагал при самых худших первоначальных раскладах. Доктора предполагали диагнозы, сулившие либо пожизненную инвалидность, либо смерть. Мне казалось, что я головы не терял, но, поскольку информация поступала не без искажений, через несколько дней я пришел к четкому выводу, что у ребенка белокровие.
Я очень хорошо помню это ощущение; помню и высоту летних лип аллеи Морозовской больницы, и свою попытку решить, глядя в небеса, проблему "слезинки ребенка". Я воспринял все как приговор и смирился с ним. Больше всего поражало то, что этот маленький живой комочек, который умел только попискивать и плакать, оказался таким нужным и дорогим на фоне неизбежного расставания. А я-то полагал, что еще не успел к нему привыкнуть... Оставалось только молиться.
Я пришел домой. Делать ничего не хотелось: было ощущение какой-то опустошенности и неустроенности. Я взял в руки Евангелие. Не могу сказать, что хорошо, но в общем-то я знал его содержание. Хотелось открыть наугад и попасть на какое-нибудь чудо, наподобие воскрешения дочери Иаира; при этом я прекрасно понимал, что такой подход невозможен, ибо всякое гадание недопустимо. Проведя некоторое время в борениях и "успокоив" свою совесть рассуждением, что читать Благую Весть, в конце концов, не грех, я раскрыл Новый Завет. Преодолеть соблазн так и не удалось: уж очень хотелось наткнуться на что-нибудь чудесное, и это преследовало меня в течение всего времени чтения. Книга "раскрылась" на четвертой главе Евангелия от Иоанна. Я несколько расстроился, что не от Луки,– там больше чудес-исцелений. Каждая прочтенная фраза вызывала жуткий протест. В своем эгоизме и нетерпении я не хотел ничего иного, кроме истории о чуде. Мне совсем не хотелось знать, что Христос приобретает учеников (см.: Ин. 4, 1–3); мне безразличен был город Сихарь; меня раздражали самарянка, колодец Иакова и все местные жители; мне казалось, что весь богословский смысл беседы о живой воде ко мне не имеет никакого отношения. Несколько раз возникало желание оставить чтение, ибо я понимал, что с молитвой здесь нет ничего общего, но каждый раз в какой-то тайной надежде я с усилием преодолевал этот вторичный соблазн маловерия: раз уж начал читать – дочитаю хотя бы до конца главы.
Надежды и сил практически не осталось, когда меня, как молнией, ударило после прочтения сорок шестого стиха: В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен (ср.: Ин. 4, 46). Я напрочь не помнил этого евангельского отрывка! Описать, что произошло дальше, практически невозможно. Все дальнейшее чтение сопровождалось бившей в виски мыслью: "О, Господи, сколько же можно сомневаться в Тебе, и сколько же Ты можешь терпеть мое неверие, и за что Ты посещаешь меня, как жителей Галилеи?!". Когда же я дошел до слов пойди, сын твой здоров (ср.: Ин. 4, 50), то понял окончательно, что самое страшное позади.
Я довольно закрытый человек, но в данный момент оставаться один не мог. Позвонил отцу, который вскоре приехал ко мне, зареванному, и как-то успокоил. Вечером, приехав в клинику, смог сказать жене только одно: "Я знаю, что Глеб выздоровеет!"
Дела его с этого дня действительно пошли на поправку. Приблизительно через месяц его выписали с гораздо более невинным диагнозом и с рекомендациями всяческих предосторожностей. Ребенок вырос; больше подобных приключений не было. Более того, его анализ крови впоследствии всегда был более благоприятен, чем бывает при этой болезни.
Только через несколько лет, учась в ординатуре Института Переливания Крови, я узнал о существовании болезни, которой, наверное, на самом деле тогда болел мой сын. Я очень хорошо понимаю, что и я сам, и педиатры могли ошибиться в диагнозе, но еще больше понимаю, что когда я читал четвертую главу Евангелия от Иоанна, я был в Той Реальности, в Которой был.
Прозрение
В конце 1987 года, когда я работал в кардиохирургическом отделении 81-й больницы, мы в основном занимались имплантацией искусственных водителей ритма сердца, иначе называемых кардиостимуляторами, что тогда в нашей стране еще не имело широкого применения. Операция очень показательная, нетравматичная, проводится под местной анестезией и имеет прекрасный эффект. Оперировали какого-то 65-летнего работягу, который никогда не интересовался вопросами философии и смысла жизни. Наши манипуляции никак не могли катастрофически сказаться на здоровье пациента, но совершенно неожиданно он вдруг потерял сознание и перестал дышать. Будучи самым "свободным" из членов бригады, но при этом имея опыт работы в кардиореанимации, я тотчас расстерилизовался и провел реанимационные мероприятия, после чего больной довольно быстро пришел в себя. Минуту или две он пролежал молча, как бы осмысливая происшедшее, но потом неожиданно громко, обращаясь ко всем присутствующим, а заодно и к себе самому, размеренно произнес: "А вы знаете… а ведь люди-то... которые умерли... они ведь там живы!". Для человека, который всю жизнь прожил при безрелигиозной советской власти, это было подлинным открытием. Уже знакомый в то время с работой Раймонда Моуди [1], я сразу же понял, что имел в виду этот дедуля, и попытался вывести его на продолжение откровенного разговора, но получилось очень неудачно:
– А Вы-то откуда знаете?
Он повернул ко мне голову, посмотрел на меня с еле заметным укором: "мол, вот ты врач, образованный, а куда лезешь? Ведь я-то там был и все своими глазами видел…" и, ничего мне не ответив, отвернулся. Красноречивее ответа не придумаешь!
- Моуди Р. Жизнь после жизни. М., 1990. ^
"Похвала глупости"
Известно, что когда Господь хочет наказать, то отнимает разум. Но бесспорно и то, что сила Божия совершается в немощи (см.: 2 Кор. 12, 9). И вот я хочу рассказать о том, как мое неразумие позволило мне оказать помощь человеку.
В начале 1988 года я считал себя еще не имеющим большого опыта врачом кардиореанимации, хотя уже более или менее освоился: больных не очень боялся и особых глупостей не делал. Дежурство выдалось довольно спокойным, но ближе к полуночи ко мне обратился бдевший анестезиолог, Андрей Сергеевич Бердоносов, и предложил осмотреть тяжелую больную из пульмонологического отделения. Мы поднялись на пятый этаж. Вызывали к женщине лет тридцати пяти, матери троих детей, страдавшей бронхиальной астмой. Приступ был настолько сильным, что грозил перейти в так называемый астматический статус, когда газообмен кислорода практически прекращается и требуется уже по-настоящему реанимационное лечение. Ей необходимо было поставить катетер в подключичную вену, так как вен на руках найти было невозможно, и затем через этот катетер проводить интенсивное внутривенное лечение. Сложность проблемы заключалась в том, что у таких больных, да еще и при ее комплекции, легкие слишком приподняты и их при подобной манипуляции, которая проводится вслепую, очень легко проткнуть, что только резко ухудшит состояние. К тому же она страдала аллергией, и под местной анестезией (то есть при контроле ее сознания) провести процедуру было невозможно. А сам я познакомился с этой методикой полгода назад и не слишком уверенно чувствовал себя при ее выполнении. Андрей предложил провести небольшой внутривенный наркоз через сохранившуюся малюсенькую вену на пятке, и у меня в лучшем случае на все про все оставалось не более пятнадцати минут.
Я не из тех, кого "тянет на подвиги", но, немного поразмыслив, решил, что делать надо, а, значит, и буду, хотя прекрасно понимал все трудности и опасности, с которыми мог столкнуться. Без Божией помощи здесь обойтись не могло: я попал с первого вкола и управился минуты за четыре. Так у меня раньше не получалось ни разу даже с куда более "удобными" пациентами, да и в последующие года два нередко еще возникали трудности, и мое мастерство было тут ни при чем. Юридически оформив все в истории болезни, я с довольным видом отправился в свое отделение.
Когда утром, готовясь к сдаче дежурства, я дописывал дневники в карты своих больных, в кабинет зашел мой заведующий. Отношения с ним у меня не складывались, но мы дипломатично терпели друг друга. О своих ночных похождениях я забыл и поэтому не сразу понял, о чем он ведет речь: "Ты хоть историю болезни-то читал?". А я ведь действительно не читал, хотя и был обязан это сделать! "Ну, так пойди почитай!" – довольно раздраженно бросил он. Я вновь поднялся на пятый этаж, взял ту самую злополучную карту. А там, перед той страницей, на которой оставил свои каракули я, на полутора листах, за тремя подписями: заведующего кардиореанимацией, заведующего общей реанимацией, а также заместителя председателя общества анестезиологов г. Москвы, рукой которого было написано противопоказание и отказ в пункции той самой подключичной вены, которая чудом мне удалась. Все эти противопоказания были налицо и для меня, но если бы прочел запись своих непосредственных начальников, то или не решился бы делать, или руки бы задрожали и ничего бы не получилось. А так – получилось! Эта женщина угодила-таки через сутки с астматическим статусом в общую реанимацию, и выводили ее там из него через этот самый чудом установленный катетер.
- Название известного произведения Эразма Роттердамского.– Изд. ^
Все в руце Божией
В конце 1990 года я был начинающим анестезиологом Института проктологии. Конечно, у меня было мало опыта проведения наркозов, зато очень помогали знания в области кардиологии, особенно в области патологии нарушений сердечного ритма. И когда я осматривал перед операцией очередного больного, то сразу обнаружил у него синдром слабости синусового узла, при котором бывают резкие замедления в работе сердца. Клинически это до сих пор не проявлялось, но как поведет себя эта патология в наркозе, сказать трудно. И чтобы не рисковать, я договорился с заведующим кардиохирургией моего предыдущего места работы, Андреем Борисовичем Синюшиным, вполне доверявшим моей квалификации, о предварительной постановке искусственного водителя ритма данному пациенту с последующим возвращением его в нашу клинику для проведения основного лечения, что и было осуществлено. Теперь уже можно было брать больного на операционный стол, зная, что пульс ниже 70 (а это норма) не опустится.
Наркоз прошел гладко. Хирурги подшучивали над "идеальным" наркозом, где гемодинамические показатели [1] оставались стабильными (а в данном случае они и не могли быть другими). Больного, по заведенному в клинике распорядку, перевели в палату реанимации на так называемую продолженную искусственную вентиляцию легких, когда за больного дышит дыхательный аппарат, а сам больной некоторое время еще пребывает в состоянии наркоза и неспешно из него выходит. Естественно, такого больного подсоединили ко всевозможным датчикам. И вот, уже собираясь выйти из палаты, я бросаю прощальный взор на монитор и вижу, как на моих глазах меняется кривая кардиограммы, показывая резкое угнетение сердечной активности. Искусственный водитель ритма как работал, так и продолжал работать, но не было ответа сердечной мышцы: налицо была так называемая "пустая систола". Не исключаю, что в те времена во всей клинике эти изменения адекватно мог интерпретировать только я, так как имел солидный опыт работы именно с такой патологией. Немедленно подлетаю к больному. Пульса на сонной артерии нет, зрачки широкие. Тут же начинаю непрямой массаж сердца, проводится внутривенная терапия. Чувство локтя в среде реаниматологов развито очень хорошо: в течение минуты палата наполняется медперсоналом, все помогают, лечащий хирург Петр Владимирович Царьков, человек крепкого сложения, сменив меня на непрямом массаже, уже весь вспотел. Я руковожу всем процессом, отдаю команды, какое лекарство еще ввести, чтобы помочь больному, и всматриваюсь в монитор, но все тщетно. Казалось, все было предусмотрено. Сегодня, оглядываясь назад и анализируя ситуацию, я до сих пор не вижу никаких своих ошибок. И вот через пятьдесят минут неимоверных усилий (а по медицинским канонам достаточно двадцати) я признаю свое поражение и отдаю распоряжение о прекращении реанимации. Вот это ЧП!
Все с тяжелым чувством отходят от постели. Уныло гудит аппарат искусственного дыхания (мы еще не успели его отключить!), я тупо всматриваюсь в монитор, который показывает исправную работу кардиостимулятора, и на моих глазах сердце начинает отвечать!!! Все вновь подскакивают к больному, возобновляется интенсивная терапия, кожные покровы начинают розоветь, хотя зрачки по-прежнему широки, но это и неудивительно: кора головного мозга наиболее чувствительна к недостатку кислорода, и всем моим коллегам ясно, что сознание к моему пациенту не вернется уже никогда.
Ночное дежурство оказалось по расписанию моим. Прощаясь, все с соболезнованием жмут мне руку, так как перевести моего больного на самостоятельное дыхание невозможно. Это значит, что всю ночь я должен буду за ним напряженно наблюдать.
Часа через три после описанных событий больной открыл глаза. Его зрачки оказались вполне узкими, соответствуя норме. Он проявлял явное неудовольствие торчавшей изо рта интубационной трубкой и вполне активно дышал без помощи дыхательного аппарата, адекватно отвечая знаками на все мои вопросы. Вопреки всем прогнозам я извлек эту самую трубку. Ночь он провел спокойно. Утром поразил всех врачей своим достаточно ясным мышлением. Когда же его перевели в хирургическое отделение, то он поведал там следующее:
– Я лежу и хочу сказать: "Ребятки, ну еще немножко, ведь я еще живой". А один бородатый говорит: "Все, хватит!". Как же я на него обозлился!
"Бородатый" – это был как раз я. Как врач до сих пор не могу понять, отчего больной "умер", почему он ожил, каким образом у него сохранилась кора головного мозга и откуда он, будучи либо без сознания, либо мертв, мог разглядеть того самого "бородатого"?
- Показатели артериального давления и пульса.– Ред. ^
Сogito ergo sum
По мысли владыки Антония, мы часто очень поверхностно относимся к ближнему и не утруждаем себя проникновением в глубину души человека [2]. Слишком занятые собой, мы обкрадываем себя, забывая совет Достоевского: не жалеть времени и сил, чтобы постичь своего ближнего [3]. Некий урок, преподанный мне совершенно чужим и абсолютно беспомощным человеком, показывает еще и то, как Божие смотрение и на смертном одре способно раскрыть образ Творца в Его создании.
Некоторое время после моего призвания к священству мне удавалось совмещать это служение с врачебной деятельностью. Вскоре после диаконской хиротонии я вышел на очередное дежурство в реанимационное отделение больницы Академии наук. Было это девятого июля 1996 года. Мне передали больных, указав их особенности. Самым тяжелым среди них был Арсений Гулыга. Фамилия эта была у меня на слуху, но я никак не мог вспомнить, где и когда я ее встречал (у меня довольно плохая память на имена). Я взял в руки историю болезни. На титульном листе, в графе "профессия" красовалось: "философ". Крупных трудов сего мыслителя я не читал, иначе бы запомнил. Значит, встречал где-нибудь в периодике. Но где? Судя по всему, в полемических диспутах на околорелигиозные темы, которыми изобиловала тогдашняя пресса. Но кто мог быть официальным философом в стране, которая не успела пережить последствий коммунизма и тоталитаризма? – Только марксист-ленинец! Я так и решил. Не то, чтобы это могло сказаться на моем отношении к больному, но нечто в моем сознании отложилось.
По сути, лечить там было уже нечего; мне и передавали по дежурству данного больного как абсолютно безнадежного. Диагноз впечатлял: пятый инфаркт миокарда при трех нарушениях мозгового кровообращения, на фоне тяжелейшего сахарного диабета, осложненного почечной недостаточностью. Показатели сердечной деятельности и данные лабораторного исследования удручали еще больше: давление зашкаливало, показатели шлаков крови заставляли усомниться, взяты ли они у живого человека, цифры сахара крови также были нереальными,– и это все на фоне интенсивной терапии по всем правилам.
Когда я подошел к постели больного, меня прежде всего поразило, что он был не то чтобы не в коме, а в совершенно ясном сознании. (Позднее мне рассказали, что в течение всех дней, проведенных в реанимации, он вел философские беседы и читал лекции о Гегеле, специалистом по которому был.) Лицо его было некрасивым, я бы даже сказал, страшноватым, и это неудивительно, учитывая переносимые им страдания. Быть может, это усугублялось катарактой, кажется, левого глаза. Все в его облике вполне соответствовало сформировавшемуся в моей голове образу коммуниста. При всем этом взгляд его был спокойным, уверенным и страдания не выдавал. Я это также отметил, и это меня удивило.
Скоррегировав терапию, я занялся другими делами. Через некоторое время раздался звонок. Меня вызвали. В дверях была интеллигентная, необыкновенно симпатичная дама с удивительно добрым взглядом. Она представилась как супруга Гулыги. По сравнению с ним она казалась просто святой. Меня поразил контраст этой пары, но вместе с тем он заставил задуматься о том, что не все так просто в этом "марксисте-ленинце". Жена просила пропустить ее к мужу проститься. Она все понимала. В нашей клинике проход в реанимацию посторонних в те времена был категорически запрещен, но, учитывая свои религиозные убеждения и отсутствие к этому часу начальства, я облачил даму в белый халат, проводил к постели больного, попросив при этом не проливать лишних слез, и оставил наедине. Прощались они довольно долго, но я об этом ничуть не жалею – состоянию этого больного уже ничто не могло повредить.
Дежурство шло своим чередом, никаких непредвиденных эксцессов не возникало. Я совершал свой обычный ночной обход. Все больные спали, кроме Арсения Гулыги. Я поинтересовался:
– Что бодрствуете?
– Да что-то не спится! – ответил он.
– Да и то верно,– пошутил я,– что еще делать, как не думать о смысле жизни? Тем более что этим Вы, насколько я понимаю, всю жизнь занимались!
Возникла короткая пауза. Потом очень тихим, но ясно в ночной тишине звучащим и из глубины души идущим голосом философ произнес:
– Э, как хорошо ты сказал… я ведь этим действительно всю жизнь занимался!
Он это изрек так, что меня прохватило всего до глубины души, и я понял: он действительно этим занимался всю жизнь и более того, что-то нашел! Это были его последние слова. Вскоре он впал в забытье. Утром мне удалось передать его по дежурству сменившим меня докторам, но в середине дня он скончался.
В дальнейшем мне удалось выяснить, что имя Гулыги возникло в моей памяти не в связи с парарелигиозными диалогами в тогдашней прессе, а в связи с творчеством великого философа Алексея Федоровича Лосева, к кругу которого и принадлежал мой собеседник. А ведь известно, что в этом ученом пространстве, несмотря на все давление властей, хоть и в сокрытом виде, но теплилась христианская мысль. Тогда все для меня встало на свои места: и чУдная жена, и необыкновенная жизненная сила, и потрясающая, поддерживающая бытие ясность ума, и поразительное самообладание и самоконтроль в совершенно нежизнеспособном теле. Тогда же и ясно стало, что разговаривал я с человеком, который не просто перешагнул грань посюсторонности, но и в своем духовном трезвении ясно видел и осознавал то, что по ту сторону. И поэтому мой фривольный вопрос-предложение смог со всей серьезностью обратить в столь глубинный ответ, ибо увидел там оправдание своих исканий, вопрошаний и чаяний, которым здесь посвятил всю свою жизнь [4]. И этот же эпизод очень хорошо показал, что если дух человеческий может настолько сопротивляться тлению, властно заявляя о себе там, где по законам материального мира давным-давно невозможна жизнь, то насколько более Бог способен оживотворить персть земную и ниспослать "христианскую кончину, безболезненну, непостыдну, мирну", и вместе с ней подать надежду на добрый ответ.
- "Мыслю, следовательно, существую" (лат.); высказывание Декарта. ^
- Митрополит Антоний Сурожский. Человек перед Богом. М., 2000. С. 94, 95–96, 11, 12–13; Он же. Таинство Любви. СПб., 1994. С. 6; Он же. Может ли еще молиться современный человек. Клин, 1999. С. 10; Он же. О встрече. Клин, 1999. С. 94, 95, 97, 98. ^
- См. по этому поводу: Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Глава II. Человек; а также его статью: Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. М., 1994. С. 26, 151. ^
- Я далек от мысли, что коммунист не способен достойно встретить смерть, но это достоинство героизма, а здесь присутствовала удивительная созерцательность, открывавшая духовную сродность.– Авт. ^
На грани жизни. Обыденная человечность
В пограничных жизненных состояниях чудесными могут быть не столько сами обстоятельства, сколько человеческое поведение и люди, действующие в них. Ведь то, что люди способны оставаться людьми в любых условиях,– это, безусловно, норма человеческой жизни, но вместе с тем и свидетельство того нравственного закона, который живет в нас, делает человека человеком и свидетельствует о Том, Кто призвал его к жизни и образом Которого является человек.
Летним днем 1995 года, обвешанный рюкзаками и авоськами, я возвращался с семьей с дачи. Мы ехали в не сильно заполненном вагоне метро от станции "Выхино" по направлению к центру, как вдруг по салону прокатился какой-то тревожный шорох. Хотя никаких слов разобрать в шуме было невозможно, я понял, что "зовут" меня. Пройдя в середину вагона, я увидел агонию пожилого мужчины. По всем признакам это была острая сердечно-сосудистая недостаточность. Пульс не определялся, зрачки расширились, и при мне он сделал последний вздох. В одно мгновение оценив ситуацию, я понял, что шансов на успешную реанимацию без медикаментов и без соответствующей аппаратуры практически никаких, ведь по самым благоприятным расчетам "скорая" может появиться не раньше, чем через сорок минут, но к тому моменту содержимое медицинского ящика уже вряд ли чему поможет (как тут не позавидовать американским пожарным и полицейским, которые оснащены всем необходимым).
Однако опускать руки я не стал. Обернувшись, увидел двух растерянных молодых парней, которые, несмотря на мой вполне затрапезный вид и на то, что у меня на лбу не было надписи "реаниматолог", беспрекословно подчинились моему приказу и уложили умирающего на сиденье. Показав несколькими движениями, как проводить непрямой массаж сердца, я занялся более трудной работой: искусственным дыханием и контролем состояния кровообращения. Умения парням, конечно, недоставало, и ребра от чрезмерного их старания иногда похрустывали, но (нельзя же требовать невозможного!) главного мы добились: зрачки сузились, и дедушка даже иногда пытался дышать сам. На ближайшей станции (кажется, это были "Текстильщики") я распорядился вынести больного на перрон,– там было удобнее ждать прибытия "скорой",– где мы и продолжили реанимацию. Не отрываясь от своих прямых обязанностей, краем глаза я заметил, что подошел милиционер и, не мешая нам, встал рядом. Следом подбежала дежурная по станции, "Красная Шапочка", по внешнему виду – не москвичка, и так искренне стала упрашивать этого совершенно чужого ей человека, чтобы он не умирал,– ну точно, как в фильмах про войну: "Миленький, ну живи! Миленький, ну дыши!". Мы продолжали свою деятельность, и минут через пятнадцать я увидел, что появился еще один врач, хотя на нем тоже не было никаких знаков отличия. Он заменил двоих моих помощников, и только после этого деликатный милиционер стал выяснять у них подробности случившегося. Минут через пять я почувствовал присутствие третьего врача и, взглянув, узнал в нем своего однокурсника. Как в дальнейшем выяснилось, проезжая мимо, он увидел, что человеку плохо, доехал до следующей станции и вернулся! И это несмотря на то, что любой рационально мыслящий человек наверняка бы решил, что здесь или без него справятся, или он уже ничем не поможет.
Реанимация продолжалась примерно около часа. К приезду "скорой" жизненных ресурсов у старичка уже не осталось. Мы, к сожалению, не смогли помочь человеку,– может быть, веры не хватило? Но этот маленький жизненный эпизод собрал вокруг меня в одном месте, не на заказ, а случайно столько хороших людей, что это воспоминание всю жизнь будет согревать мне сердце. Пока есть на земле такие искренние, деликатные и жертвенные люди, она будет стоять, и свет Божий будет сиять над ней.
Лепестки плащаницы
Не всегда просто распознать чудо в обыденной жизни. Господь иногда "просто" посылает нужного человека в нужное время и в нужное место. Сам факт чуда раскрывается Творцом мира тем, кто взирает на Него с доверием и взывает о помощи. Важно не преуменьшать роль чуда в нашей повседневной жизни и не преувеличивать его, ибо, к сожалению, желание поднять свой "духовный авторитет" или "престиж" своего храма заставляет людей видеть чудо там, где его нет, а излишний рационализм, наоборот, ослепляет духовный взор.
...Во время чинопоследования выноса Плащаницы в Великую Пятницу сего года в храме упала женщина. Все произошло на моих глазах, и, стоя в алтаре, я все прекрасно видел и по некоторым нюансам понял, что это – не банальный обморок. Я быстро подошел к ней. Все признаки клинической смерти были налицо: отсутствие сознания, дыхания и пульса на сонной артерии, зрачки расширены и на свет не реагируют. В памяти тут же пронесся похожий эпизод в метро с напрашивающимся выводом о тщетности всех усилий реанимации. Ситуация осложнялась тем, что тогда, в вагоне, мне на глаза попались два толковых паренька, а здесь вокруг стоят бабушки, которые вряд ли чем помогут. Самая большая трудность при реанимации – это нехватка рук. Тем не менее я, прямо в облачении, начинаю проводить мероприятия по оживлению: то непрямой массаж сердца, то искусственное дыхание. Не прошло и минуты, как я обнаружил, что я – не один, мне помогают. Незнакомая мне женщина вышла из толпы, "услышав", судя по всему, что в ней нужда, и очень грамотно, не ломая ребер, принялась массировать сердце. А другая сердобольная прихожанка в искреннем порыве веры предложила: "Батюшка, благослови приложить к больной лепесточки от цветов Плащаницы – всегда помогает!"
Больная приходит в себя, ее осторожно выносят на паперть, и приехавшая "скорая" увозит ее в больницу, откуда ее в этот же день отпускают, потому что не находят повода не только для госпитализации, но и для того, чтобы снять кардиограмму (последнее я вряд ли когда-нибудь смогу понять). В дальнейшем силами прихода было организовано обследование, которое не выявило никаких отклонений на ЭКГ. Но ведь была же клиническая смерть!
Вот так Промысл Божий переплел "естественные" и "сверхъестественные" обстоятельства в сложный узор, и жизнь человеческая была спасена. А женщину, которая проводила массаж сердца, я больше не увидел, хотя и просил всех, чтобы ее нашли.
Маленький диагност
Не прошло и десяти дней, как мне довелось стать свидетелем и участником еще одного события, в котором "совершенно случайно" Господь так расположил события и людей, что снова удалось спасти человеческую жизнь.
В одном из подмосковных приходов, где служит мой брат, есть очень интересная традиция: отмечать первое послепасхальное воскресение крестным ходом по окрестным деревням. Это воскресение называется здесь Поставным, так как принято приносить храмовые иконы и ставить их в домах верующих, вливая радость в каждую семью, как бы продолжая пасхальные торжества до отдания Пасхи. Традиция в несколько измененном виде возобновлена с 1991 года. Члены общины и гости храмовым автобусом доставляются к определенному времени в самую отдаленную деревню, с которой и начинается крестный ход к храму. Под пение пасхальных стихир дожидаются батюшек, которым необходимо закончить все требы, после чего и начинается шествие. Участвуют в этом действе от мала до велика, естественно, в какой-то момент детишкам становится скучно, и они начинают "исследовать" окрестности. И вот мой пятилетний крестник Петр, забредя в какой-то ближайший двор, обнаружил лежащего в отдаленных кустах человека, которого ни с крыльца дома, ни с тропинки, ни с дороги увидеть было невозможно. Мальчик отыскал среди певчих женщину-врача, которая в общине имела непререкаемый авторитет, и сообщил ей:
– Тетя Оля, там, в саду, дядя весь в крови лежит!
Доктор, естественно, пошла выяснять, что случилось. В это время подъехали и мы с братом, не ведая ни о чем, облачились, но начало крестного хода пришлось задержать, так как меня тут же позвали к больному. Сколько крови потерял человек, установить было трудно, но явно очень много, вся трава вокруг была ею окрашена, а клинически можно было определить у пациента признаки шока от потери крови: бледность кожных покровов, холодный пот и нитевидный пульс. Из таких состояний человек самостоятельно не выходит, хотя кровотечение из раны на ноге к тому моменту уже остановилось. Выяснить что-либо у больного было невозможно, так как он по причине праздников был нетрезв и туго соображал. К тому же состояние усугублялось гипоксией головного мозга [1] вследствие кровопотери. Судя по всему, он даже не заметил, как поранил ногу, забрел в чужой двор, где и свалился от упадка сил. Довольно быстро приехала "скорая", но больной уже хорохорился, отказывался от госпитализации, кричал, что "полежит и все пройдет", даже попытался встать. Тут кровь снова хлынула из раны, он вновь упал, и пришлось даже накладывать жгут. Уговорить его лечь в больницу удалось только властью священнической, и вот тут он почему-то послушался.
Поневоле задумаешься обо всех совпадениях: ведь только раз в год бывает крестный ход и в этой деревне собирается столько народу, а среди этого народа иногда оказываются врачи, которые способны адекватно оценить ситуацию. Кстати, местные жители, друзья пострадавшего, предлагали оставить его в покое, мол, так оклемается! Только ребенок-непоседа способен был отыскать беспомощного человека в чужом бурьяне.
И еще важно: крестный ход – дело Божие, а чудо – это прежде всего торжество Правды Божией уже здесь, на земле, когда врата ада не могут ее одолеть (см.: Мф. 16, 18)!
- Гипоксия – кислородное голодание.– Ред. ^
Заключение
Я отдаю себе отчет, что далеко не все мои оценки бесспорны, но стараюсь все описать именно так, как я это воспринял, как это запечатлелось в моем сердце и сознании. Именно поэтому я сохранил столько подробностей и деталей и указал ошибки и неточности в своих собственных действиях и суждениях. Для меня очень важным является сам вывод из увиденного.
У Ремарка в романе "Возвращение" есть потрясающее описание Теофании [1] оно явно автобиографично. Писатель подобрал изумительные слова, чтобы передать пережитое им событие, он был предельно честен. Но остался таким же чистосердечным атеистом, и вывод из увиденного им – соответственный: он считал, что пережил единение с "Природой", правда, что это такое, не объяснил. Но для него это могло означать все, что угодно, только не встречу с Живым Богом.
Я взываю к голосу веры. Трудно уверовать, не увидев чудес. Но если всмотреться глазами веры – они всюду вокруг нас, так что мы пребываем в любви Божией неотлучно (см.: Рим. 8, 35–39), ибо Богом живем и движемся, и существуем (ср.: Деян. 17, 18).
- См.: Эрих Мария Ремарк. На западном фронте без перемен. Возвращение. Три товарища. Л., 1959. С. 425–426. ^
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православие и современность. Электронная библиотека." (www.lib.eparhia-saratov.ru).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).