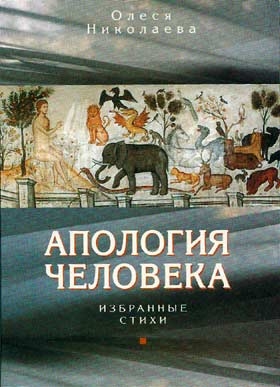Предисловие
У христианской поэзии множество трудностей. Как ей остаться искусством и не пожертвовать своим идеализмом, своим пафосом? Как ей произносить свое исповедание веры и при этом сохранить ту недоговоренность и тайну, без которых и лирика-то не существует? Мы, читатели, являемся свидетелями уже многих неудач на этом пути. Я не говорю сейчас о второсортных литературных поделках, но ведь существует достаточно широко распространившаяся так называемая "литература добрых намерений", или, как именовал ее Пушкин, "приходская литература" – не претендующая на художественную ценность, стремящаяся к поучительности и доходчивости, к тому, чтобы вразумить или растрогать. Слов нет, подобные книжки нужны – самый, как принято говорить, "элитарный" читатель многим им обязан – зачастую его жизнь в Церкви начиналась именно с них. Но вот поэзия, искусство в точном смысле этого слова?.. Могут ли они "вместить" содержание, которое больше их? Может ли выдержать художественная форма этот внутренний напор огромной – больше всего мира – идеи?
Мне потому и по сердцу поэзия Олеси Николаевой – она вся в борьбе, в усилии, в труде. И автор, почти постоянно (во всяком случае, в самых сильных своих текстах) на наших глазах стремящийся преодолеть себя,– ослабевающий, падающий, негодующий на свою слабость; и стихи, как будто желающие стать чем-то другим, нежели то, что они есть (прозой, даже проповедью!),– и все же остающиеся стихами. О внутренней энергии, то убывающей, то возрастающей, говорят даже метры и ритмы поэзии Николаевой – эта непривычно длинная, с изломом цезуры, как с необходимым вздохом после предпринятого усилия, грузная строка, словно тоже что-то преодолевающая, поднимающая тяжесть:
Вы, лживые мои речи, кичащиеся высотою смысла, любящие суетные разговоры, |
Эта тяжесть собственного "я", да еще творческого, то есть наделенного всей силой самопознания! Как трудно творческому человеку с самим собой! Поэзия Олеси Николаевой главным образом ведь именно об этом и говорит, это ее центральная, стержневая тема. Что же (или кто же) поможет поэту? Ведь его постоянно подстерегает опасность в миллионный раз пойти по пути, давно исхоженному мировым искусством, погрузиться в свою неисчерпаемую внутреннюю сложность, предпочесть себя, свои страдания, душевные противоречия и внутренние богатства всему, что его окружает,– одним словом, предпочесть себя всему миру. И какие великие имена встретим мы на этом пути!
Я ни с кем не собираюсь сравнивать Олесю Николаеву, скажу только: от подобного романтического одиночества и противостояния всему на свете спасает именно то, что и делает ее поэзию религиозной,– любовь. Быть может, отчетливей и сильней всего запечатлеваются в памяти герои ее "сюжетных" вещей, поэтических новелл: соседка Марья Сергеевна, грубая и некрасивая, запомнившаяся с детства, потому что первая заговорила с ребенком о Боге; слабоумный мальчик Петя – о таких, как он, чудно говорил Андерсен: это слабые растения, которые расцветут в Божием саду; убогий Сережа из "ремеслухи"; тетя Алла с ее нелепой жизнью, с "грошовой тризной", которую по ней справляют. И авторское чувство к подобным героям так сильно, так скорбно и, добавлю, так трудно – ведь причиняет же оно какую-то боль читателю, пусть мимолетную! А как иначе, обезболенно, прочесть, например, следующее:
Знаешь, папа! Когда умирает отец, лишь равнина |
Но этот результат, которого достигает Олеся Николаева, теребя и мучая своего читателя,– не единственный. Известно, что сюжетность противопоказана лирике (один очень большой поэт говорил даже, что это – два разнородных начала, соединение которых приносит отвратительные плоды. Правда, он сам в конце своей жизни стал писать именно сюжетные вещи – едва ли не наиболее сильное из всего им созданного). Олеся Николаева с напором, с энергией, бесстрашно делает прививку сюжета к лирическому стволу. И что же? Результаты налицо:
В галантерейную роскошь даров промтоварных |
Книга начинается небольшой поэмой "Августин" и заканчивается то ли философской поэмой в прозе, то ли лирическим трактатом "Апология человека" – произведениями, которые ясно показывают, как решительно Олеся Николаева подходит к самым границам возможного, привычного в лирике. Ход повествования в "Августине" – сложный, двуслойный, разом вводящий читателя и в историю тайного монашеского жития в горах Кавказа, и в историю юного бродяжки, жулика, присвоившего чужое имя. Сложность увеличивается за счет того, что повествование прерывается, словно делясь на доли: в него вторгается неведомый голос, самый авторитетный для автора, голос того, "кто поручил мне Августина". Эти вторжения задают всему рассказу не только особенный ритм, но и глубину и высоту: ведь неизвестный собеседник постоянно говорит о том важнейшем, что соединяет людей, делает не чужими друг другу и Августина, и кавказских отшельников, и автора, и вообще – всех и вся. Та же нота слышна в "Апологии человека" (благодаря этому складывается своего рода рамочная композиция сборника). Казалось бы, антропологическое рассуждение, построенное (как и подобает трактату) тезисно, исследующее доказательно и логически всю внутреннюю структуру человека, все противоречия личности и ее уклонения от первоначального Замысла о ней. Но вместе с тем, это – и самая горячая исповедь, рассказ о себе и о других, о том, что всех нас объединяет в Адаме, делает родными.
Я бы сказала так: борясь с материалом, отвергая отработанное и общепринятое, Олеся Николаева поступает так же, как поступает с самой собой, со своей натурой, характером, на которые негодует, кривизны которых обличает, к которым даже применяет силу. Как тут не увидеть общность, сходство между искусством и действительностью? Ни поэзия (если только это настоящая поэзия), ни жизнь христианская не терпят механистичности, штампованных повторов, заученных приемов. И здесь, и там должен быть риск выбора и ответственности, самовоспитания и – если надо – самоотказа:
Я – богатый юноша, и мне жалко |
Уже в такой четкости формулировок – бескомпромиссность взгляда на себя самое, залог дальнейшей борьбы с собой.
Впрочем, такая брань, такие проявления сильного (и поэтического, и человеческого) характера не потрясают и не разрушают общих контуров мира, возникающих в ее книге,– ведь у этого мира есть Центр и Источник. Поэтому все тут, кроме бьющегося над собой человека,– скорбящего, страдающего, переменчивого, обидимого и обижающего,– устойчиво, добротно, прекрасно. А если посмотреть и на человека глазами любви – то все вообще соберется в изумительную картину, о которой иначе не скажешь, как "все добро зело"!
Недаром ведь и сборник называется не как-нибудь, а "Апология человека".
Елена Степанян
Августин
– ...А волосы у меня были,– продолжал он, отхлебывая чай из блюдца,– ...В восемь лет он был увезен матерью в горы, – Если они займутся выясненьем, кто я, ...Тот, кто поручил мне Августина, – А если сказать – жил отшельником, У меня сидел врач-психиатр – – Тогда его пребывание в психбольнице ...Тот, кто поручил мне Августина, – Были у нас улейки – тридцать штук, С документами была неразрешимая сложность. – А в дереве – там каждый бук в шестнадцать обхватов – ...Тот, кто поручил мне Августина, – К тому же, если он сдастся на милость властей, – А осенью начинались ливни. ...Тот, кто поручил мне Августина, – Где ты взяла такого? – – По ночам, случалось, выли шакалы, ...Тот, кто поручил мне Августина, Наконец, все решили: для спасения Августина ...Тот, кто поручил мне Августина, – А причащаться мы ходили в Сухумскую церковь. удивительна, баснословна, все в тебе перемешано, все три дороги, никаких указателей – направо, налево, прямо. Еще вчера, считай, я грела глупое тело на камнях Сухуми, а может, завтра взберусь на какую-то там вершину, и тяжелый клобук надену, и завернусь в трудную рясу. – Так вот,– продолжал Августин, устраиваясь поудобней,– ...Тот, кто поручил мне Августина, Назавтра Знаменитый Писатель, – Ты хоть знаешь, что он написал? – Каждый вечер до самой глубокой ночи – Мы немножко посидим на банкете,– сказал Знаменитый Писатель,– – Августин,– говорила я,– дай-ка скуфью примерить, – А почему ты никогда не встречалась со мной бескорыстно? – ...Тот, кто поручил мне Августина, – Получается,– настоятельно повторяла я,– А классик английской литературы, – А подложный паспорт? – спросила я. ...Тот, кто поручил мне Августина, – А ведь у меня есть,– сказал врач-психиатр,– – Ого! – отозвался писатель-детективист – А однажды,– продолжал Августин, – Августин,– неожиданно проговорил кто-то,– Отец Антоний обычно долго откашливался и Эта осень была особенно щедрой. ...Тот, кто поручил мне Августина, Августин начинал уже заметно томиться, – Снять подрясник! – вскрикивал Августин.– Отец Антоний складывал на коленях смирные руки ...Тот, кто поручил мне Августина, Постепенно деревья начинали терять листья, ...Тот, кто поручил мне Августина, Решено было отправить Августина Грузинский Каталикос и подложный паспорт. ...Тот, кто поручил мне Августина, На пороге стоял отец Антоний. Он с нетерпением поглядывал на дверь ванной. ...Тот, кто поручил мне Августина, Наконец, дверь отворилась, говорил: Господь может наслать на человека временное ослепленье, если зрение мешает совершению путей Божьих. Тот, кто поручил мне Августина, говорил: надо оставаться свободным от всего "своего" – даже от всякого предположенья. Тот, кто поручил мне Августина, говорил: каждая встреча уготована нам свыше. И тогда они ушли в комнату И только когда я просунула туда голову, ...Тот, кто поручил мне Августина, – Я предчувствовал, предчувствовал! – ...Тот, кто поручил мне Августина, – Можно ли мне после наказанья вернуться в церковь? – И уже первый снег пошел, ...Тот, кто поручил мне Августина, Вскоре уезжал и Августин – Петушков Саша – – Опускай глаза,– говорила я, ведя его по вокзалу,– ...Тот, кто поручил мне Августина, Убирая комнату, где жил Августин, Возможно, было какое-то продолженье, |
Богатый юноша
– ...А волосы у меня были,– продолжал он, отхлебывая чай из блюдца,– ...В восемь лет он был увезен матерью в горы, – Если они займутся выясненьем, кто я, ...Тот, кто поручил мне Августина, – А если сказать – жил отшельником, У меня сидел врач-психиатр – – Тогда его пребывание в психбольнице ...Тот, кто поручил мне Августина, – Были у нас улейки – тридцать штук, С документами была неразрешимая сложность. – А в дереве – там каждый бук в шестнадцать обхватов – ...Тот, кто поручил мне Августина, – К тому же, если он сдастся на милость властей, – А осенью начинались ливни. ...Тот, кто поручил мне Августина, – Где ты взяла такого? – – По ночам, случалось, выли шакалы, ...Тот, кто поручил мне Августина, Наконец, все решили: для спасения Августина ...Тот, кто поручил мне Августина, – А причащаться мы ходили в Сухумскую церковь. удивительна, баснословна, все в тебе перемешано, все три дороги, никаких указателей – направо, налево, прямо. Еще вчера, считай, я грела глупое тело на камнях Сухуми, а может, завтра взберусь на какую-то там вершину, и тяжелый клобук надену, и завернусь в трудную рясу. – Так вот,– продолжал Августин, устраиваясь поудобней,– ...Тот, кто поручил мне Августина, Назавтра Знаменитый Писатель, – Ты хоть знаешь, что он написал? – Каждый вечер до самой глубокой ночи – Мы немножко посидим на банкете,– сказал Знаменитый Писатель,– – Августин,– говорила я,– дай-ка скуфью примерить, – А почему ты никогда не встречалась со мной бескорыстно? – ...Тот, кто поручил мне Августина, – Получается,– настоятельно повторяла я,– А классик английской литературы, – А подложный паспорт? – спросила я. ...Тот, кто поручил мне Августина, – А ведь у меня есть,– сказал врач-психиатр,– – Ого! – отозвался писатель-детективист – А однажды,– продолжал Августин, – Августин,– неожиданно проговорил кто-то,– Отец Антоний обычно долго откашливался и Эта осень была особенно щедрой. ...Тот, кто поручил мне Августина, Августин начинал уже заметно томиться, – Снять подрясник! – вскрикивал Августин.– Отец Антоний складывал на коленях смирные руки ...Тот, кто поручил мне Августина, Постепенно деревья начинали терять листья, ...Тот, кто поручил мне Августина, Решено было отправить Августина Грузинский Каталикос и подложный паспорт. ...Тот, кто поручил мне Августина, На пороге стоял отец Антоний. Он с нетерпением поглядывал на дверь ванной. ...Тот, кто поручил мне Августина, Наконец, дверь отворилась, говорил: Господь может наслать на человека временное ослепленье, если зрение мешает совершению путей Божьих. Тот, кто поручил мне Августина, говорил: надо оставаться свободным от всего "своего" – даже от всякого предположенья. Тот, кто поручил мне Августина, говорил: каждая встреча уготована нам свыше. И тогда они ушли в комнату И только когда я просунула туда голову, ...Тот, кто поручил мне Августина, – Я предчувствовал, предчувствовал! – ...Тот, кто поручил мне Августина, – Можно ли мне после наказанья вернуться в церковь? – И уже первый снег пошел, ...Тот, кто поручил мне Августина, Вскоре уезжал и Августин – Петушков Саша – – Опускай глаза,– говорила я, ведя его по вокзалу,– ...Тот, кто поручил мне Августина, Убирая комнату, где жил Августин, Возможно, было какое-то продолженье, |
"Ходила я по земле Отечества моего…"
***
Ходила я по земле Отечества моего, Кажется, вот оно – размахивает тысячами ветвей!.. И когда мы в день особого поминовения говорим: И когда человек выходит на дневные труды Так гадай после этого – где, как, отчего |
"Здесь все бывает: здесь вода горит…"
***
Здесь все бывает: здесь вода горит, Кладоискатель обретает клад, И всё, о чем душа средь тесноты Дождем целебным в поле моросит, |
Стихи о богатом юноше
Я – богатый юноша, и мне жалко С этой гордой складкой у губ, с повадкой С тетивою мышцы, с биеньем лимфы, ...Я боюсь земли, где плодятся черви, И отдам я сабельку с портупеей, Светлый взор отдам ему, слух и голос, |
Скоро
Миша, наверно, скоро станет священником, Миша скоро наденет епитрахиль златотканую, И жизнь – эта кастелянша, костюмерша известная, |
Три дня
Говорят, когда человек умирает и уже не чувствует боли, И уже скинув с себя одежды немощи человечьей ...В первый день помедлит душа моя над Москвою, А во второй день душа моя вспомнит свои скитанья, Ну, а в третий день душа моя пустится, собираясь духом, О, неужели никто, к кому стучалась она, сдерживая рыданье, |
Похвала Ольге
Из глубины души воззову, возжалуюсь, возрыдаю, Плачь, богомудрая Ольга, по убиенном муже – Игоре вселюбимом! – ...Ты, горделивое мое око, любящее себя во всех отраженьях, во всех одеяньях, вы, лукавые мои губы, вы, лживые мои речи, Но уже не вернуть ей живого тепла и таинственной речи с любовью – Так и я – в развращенное сердце свое, |
Судьба иностранца в России
Судьба иностранца в России похожа на ключ, только вот ...Он вечно – то гость, то захватчик, то друг он, то враг, то истец, ...Четыре мучительных века с тоской мы глядим на Афон, ...В России судьба иностранца трагична, комична,– она Но быть иностранцем в России почетно, когда не грешно; ...В России судьба баснословна, странна, иностранна, чудна, |
Знаешь ли ты
Знаешь ли ты язык обстоятельств, на котором с тобой говорит Бог? Знаешь ли, о чем красноречиво свидетельствует внезапная немота? ...Вот я и читаю эти голые ветки, этих нищих птиц. Ослицы, впрочем, сами потом нашлись. И пропадали – не зря. |
Ангел времени. Осьмогласник
IЯ тебе расскажу, как я выгляжу в новой шкуре, И какие вышли на волю страхи, IIНо сильнее грога, тревожней гула, Это значит – теперь иначе горят поленья, IIIЭто значит – является новый звук, похожий на зуммер. И очнись я теперь в саванне, в песке и куще,– IVИзменилось все – то есть, ритм и масштаб, и образ И пока он поет ей: "Благоже, благоже" – вроде флюса VПотому я тебе расскажу, как все выглядит, как при новом Или – словно закат, придавленный небосводом, VIВпрочем, мне всегда не хватало покоя и воли, денег О, когда бы слиться всецело с Господней дланью, VIIРазве вправду – без головы – этот бледный Всадник? И пока новый Ангел Времени, близясь к эшафотажу, VIIIНо и он не ведает, что тут – поденщина, тризна, праздник? И тогда, наконец, отбросив все "a priori", |
Семь начал
IВыходя из города, где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши, IIВыходя из города, где кто-то любил кого-то, IIIВыходя из города, где праздновали дни рождений, дорожили мнением моды, IVВыходя из города, где тщеславились обильным столом, нарядом и башмаками, VВыходя из города, на который и жена праведника оглянулась, VIВыходя из города, в котором хоть один купол еще золотится VIIВыходя из города – уже поверженного, уже лежащего в пепле, |
Путешественик
I. стансы1Путешественник ходит всегда вдвоем: он и его кураж 2Путешественник всегда немного чернокнижник и оккультист: 3Путешественник всегда немного астролог и звездочет. 4Путешественник всегда немного артист, немного игрок и бард: 5Путешественник всегда немного зануда. Актер, позабывший роль. 6Путешественник всегда немного ряженый: некто, он же никто. 7Путешественник всегда немного Гамлет. 8Путешественник всегда немного изгой. За ним 9Путешественник умирает только в известном смысле, хмель IIПутешественник напоминает комету. За ним волочится хвост IIIПутешественник оказывается в центре Вселенной. К нему IVПутешественника сопровождают ангелы, подвижные, как крылья стрекоз. VПутешественник стоит обедни, трапезы Господа Своего, VIПутешественника поминают с недугующими и страждущими наравне. VIIПутешественник чает новой жизни – и более ничего! |
И разлука поет псалмы
Тане Снегиревой То мечтает она быть японскою фрейлиной во дворце, То мечтает она в Баден-Баден, то в Ерусалим, а то – Не про нее ли это: звезда во лбу и месяц в русой косе? ...Если верить Господу, то все здесь – добро зело. |
Гимн
Слава Зажигающему солнце и Усмиряющему океан! Слава Согревающему зимнее детство, Просветляющему юную кровь, Слава Украшающему юнцов и юниц, Слава Посылающему на запад снег и зной – на восток, Слава Благословляющему пчелу и Одевающему змею, |
Отцу (I)
Папа, больше тебе по этой земле не придется скользить и мерзнуть, За тебя и за усопшего – сладко, светло молиться: За тебя – за смиреннейшего Александра, А когда и меня понесут отсюда во гробе,– |
Отцу (II)
Есть в оркестре такая одна деликатная скрипка: Так и ты, дорогой: как бы сам неприметен, стушеван Знаешь, папа! Когда умирает отец, лишь равнина |
Рождество
IЯ молюсь все отчаянней, все усердней, но декабрь – свидетель, Ах, что делает нынче овца и смиренный кролик? То есть, он уже миновал сочельник и как латинянин IIИ пустыня уже приготовила Ему вертеп. Словно бы им привиделся сияющий вертоград. И на всем лежал отсвет этой звезды и покров мглы, И лестница протянулась от самых седьмых небес, И каждый стал думать, что ему принести, Золото, ладан, смирну – волхвы сказали, а твердь |
"Невидимая брань"
IЯ молюсь все отчаянней, все усердней, но декабрь – свидетель, Ах, что делает нынче овца и смиренный кролик? То есть, он уже миновал сочельник и как латинянин IIИ пустыня уже приготовила Ему вертеп. Словно бы им привиделся сияющий вертоград. И на всем лежал отсвет этой звезды и покров мглы, И лестница протянулась от самых седьмых небес, И каждый стал думать, что ему принести, Золото, ладан, смирну – волхвы сказали, а твердь |
"Сердце – предатель. Сердце – всадник и странник…"
***
Сердце – предатель. Сердце – всадник и странник. И ростовщик! Шулер! Рабовладелец!.. Сквозь роковые его перебои и перестуки, |
Переписка Грозного с Курбским
Пишет Курбский Грозному: Пишет Грозный Курбскому: Пишет Курбский Грозному: Пишет Грозный Курбскому: Пишет Курбский Грозному: И такая брань сквозь столетья мчится, Разливаются реки, не сдерживаемые берегами, |
"Я все больше думаю о твоем вероломстве…"
***
Я все больше думаю о твоем вероломстве, что ни дом – то схизма: непрочный и непочатый Что ни речь здесь – то ересь. Ибо – что ни душа, то раскол. |
Март
IМарт. Подземные колокола. Палящие жерла О, март, март! Ты лежишь на дряхлых носилках, IIВыпускающий птиц все держит их у себя до срока. Знаешь ли: так и я, так и я в такую седмицу, IIIО, март, март! Ты намеренно понижаешь высокое, низкое делаешь еще ниже... И когда начинается великое таянье, половодье, IVО, март, март! Некому тебя подморозить. Уже невремя "А была ведь прекрасна просто, бела, богата, |
"Это называется – "брань". И она – невидима. Это – когда…"
***
Это называется – "брань". И она – невидима. Это – когда Обволакиваются образами, вписываются в пейзаж. Они заполняют все низины, все возвышенности, холмы, Что теперь их не выгонишь и не вернешь ничего |
"Вылезает из-под лиственного спуда…"
***
Вылезает из-под лиственного спуда Я сама должна искать себе опору И сама с собой вести беседы, Или хочешь отмолчаться, затаиться, И тогда, раскачивая плавный |
Дочь
Девочка-приемыш – в порядочную семью ...Перед ней выстраивается род человеческий во всей красе: |
До небесного Иерусалима
...Ты теперь еретик и раскольник. Это – птицам на корм, это – трели Это – близко последняя битва: "Проведи меня полем до спуска, До чертога, плывущего мимо, |
Танцующая Зоя
"Зоя, Зоя, век девичий – краток, Серенад здесь не поют испанцы "Эх,– сказала,– что мне с вашей голой В новое и белое оделась, И, притопнув, возле шифоньера И – окаменела вдруг. Икона Черная слепая роговица ...Только стук за стенкой спозаранок. |
Исход
– Лучше свиное мясо в котлах изгнанья, – Лучше на площадях выставлять фигуры – Пусть притеснители наши потоплены – перебиты, |
"Когда бы ты, тогда б я все могла простить, забыть могла..."
***
Когда бы ты, тогда б я все могла простить, забыть могла! Свидетели моих скорбей – о, как бы раскрывали рты! Так что ж, раз это Бог судил, раз это Бог отвел, |
Снаружи и внутри
Маленькая женщина с сумочкой, с завитком у виска И все заливает мертвящий стеклянный свет, Вроде бы, каблук у нее сломался, а это прорыв Вроде бы, на работе сокращения, а это – в крови |
Апология
...Что твердишь ты уныло: нет выхода... Много есть входов! О, всегда я дивилась искусствам изысканным этим, ...Разве зебра не сбавила б спеси дурной с авангарда? Что б придумал новее пустыни, ходящей волнами? Что новее монаха-отшельника в рубище строгом? Потому что здесь все не напрасно и все однократно: ...И окажешься там, где свободна душа молодая! |
"Человеку, бросающему курить, объявляется сразу война…"
***
Человеку, бросающему курить, объявляется сразу война: Человеку, бросающему курить, как сбежавшему из плена рабу, Человеку, бросающему курить, как игроку, выбывшему из игры,– |
Гость
...Но только не жаловаться! Он гостем с подарком войдет, он расспросит детали, И тут-то спохватишься, хочешь уже откреститься |
Вечером
Я ведро в колодец столкнула, и оно зазвенело, запело, И уже кто-то жеребенка своего напоил и чья-то семья чаевничать села, И мое ведро над черной бездной раскачивалось, как весы, качалось, |
"Текст твердя молодой и кондовый…"
***
Текст твердя молодой и кондовый, Моря! солнца! цветов! винограда!.. |
Немощь
В детстве я боялась смерти в виде будничного День сменялся сумерками грязновато-палевыми, Сны смотрели льстивые, грозные и прЕлестные, Мне ж – тончайшей тканью, ожерельем бисерным Мир грозил ей киноварью душной, стеариновою Молнии обшаривали небеса, пошаливали ...Но познавших немощь собственную, ту еще и |
Соловей
Ничтожный, серенький – не видим меж ветвей, Когда погасшая лежит в ногах земля, Чтоб этот сбивчивый, дурной, бесцельный сон Ведь это же не ты, и не твоя |
Деревья
Кабы речь деревьев могла понимать – за гнутый пятак От людей какой получишь привет, какой прием? И когда они в черном смиренье идут сквозь тьму, |
Искушение
Вдруг увидеть: средь чужих дворов Как тебе в той ледяной стране, Иль – по маловерью моему – – Мы не лепим из поденных драм, |
Саул и Давид
Царь Саул и поныне ищет души Давида. И тоска ликует. И смерть глядит, как невеста. Но Давид, повторяю, вовеки – пророк, изгнанник – Как он гонит Давида! Сживает его со света, Оттого-то мой конь имеет двойную сбрую, И когда я умру, уже не имущая вида, |
Имя
Н. Кононову Лучше б, Коля, ты остался ТатарЕнко – Да и я б себе иное имя Там – за именем – судьба совсем иная О, как жаль не бывшего – и Ольги |
Три вопроса
– С кем ты гуляла на празднике этом? – Кто ж послужил тебе, кто расстарался? – С чем бы ты здесь никогда не рассталась? |
На правах погорельца
– С кем ты гуляла на празднике этом? – Кто ж послужил тебе, кто расстарался? – С чем бы ты здесь никогда не рассталась? |
Человек
Сам себе человек говорит, вдруг за голову хватаясь: То вздыхает, глядя во тьму: "Жизнь – сложная штука!" Перечит фразе любой, |
Адмирал Нельсон
Мама полюбила отца за то, что он был, как Нельсон, Дочь их уже не помнит ни Альбиона, ни фольварков, ни фейерверков, Потому что, сгорая, былое великолепье Прокисает вино торжеств. Иссякает жизнь на закате. |
Командор
Афганец, оставайся прав! Кому война – бравурный клич, Ты явлен нам, как Командор, Почто играли вам поход, В волчцах, в поту, в крови, в пыли Вам подносил уже Восток Не в человечьем же тепле Ты видел со звездами – твердь. |
Праздник Рождества
"Да если Господь захочет,– ни нога твоя не преткнется, И был он похож на Угодника Николая – так аккуратно Так поднимал он добрую чарку и пил во славу И пока он показывал старые фото: себя – в лычках, в погонах, ...Я пыталась держаться за стены храма, за столп идеи |
Исцеление
...И тогда рука его перебитые кости соединила, И закатное солнце пятнало все и рябило, И лучи скользили вдоль аккуратного такого пробора, И рука его, наконец, жилами обложила и кожей тесной |
Рэкетир
Не обольщайтесь: он меж нас рожден, Он тоже стосковался по судьбе. Играя с нами с детства каждый дубль, Есть дух войны. Есть пафос общих дел, небрежно так цедя сквозь зубы речь, ...Я знала инока. Он сам был из шпаны. |
"Ах, как Леня – нынешний замминистра культуры – у нас танцевал…"
***
Ах, как Леня – нынешний замминистра культуры – у нас танцевал! Словно он Господу говорил: Господи, Господи, вот он – я! От чрезмерности, Господи, Твоего бытия, И никто не мог ему соответствовать, быть парой, и все молчком И когда уже стал замминистра, к нему на прием |
Счастливая тетя
Буду тетю мою расспрашивать, а вы все – спите: |
В брачной одежде
На солнцепеке – как весел был ситец в горошек! ...Шила блузоны в оборках, кокетках, широко В галантерейную роскошь даров промтоварных Как вдруг обвисло, как скомкалось все безобразно! Может, в Твоих мастерских белошвейных небесных ...В серой казенной рубашке – ладонь у ладони, вот как проходит она в кабинет процедурный! |
Мальчик Петя
...Вот и август кончается, дождик затягивается, Петина мама – совсем седая, отхлебнув торопливо кофе, Петя выходит в сад. Прислоняясь к оконной раме, О, не подсказывай мне развязку к этой давно затянувшейся драме, Мы и так мучительнейше живем и околицами пробираемся к свету, |
На правах погорельца
"Мое,– говорит человек,– время!" И умирает... Как много было хлопот – сутолока, размен квартиры, Как много было волнений – об институте, зачете, ...Вещь ли накидывает узду на своего владельца? Даже свет провели – в сумерках мне не мрачно, |
Сценарий
Я люблю эту пристанционную жизнь, предутренние эти морозы Я сценарий хочу написать о писателе. Вот сюда-то Пусть наймется к лесничему, ходит по лесу дозором; И пока я жду поезда на перегоне холодном, |
"Потемки, ночь: душа чужая…"
***
Потемки, ночь: душа чужая. Заденет, тронет – ан все мимо А то – на свет, на звук и шорох А то – сама в своем тумане, И мне – судить ее сложнее, |
"...И яблони – до пояса в известке…"
***
...И яблони – до пояса в известке, Два празднословящих монаха, В подполье темное, в хранилище: всех – в кучу! Чтоб в день такой-то – тошный и напрасный, И вишни – в прелести, и яблони – в фаворе, |
Пригласите Сережу
Если праздник случится у вас или так – без событья Будет он благодарно смеяться на ваши остроты Только вы не считайте, что чувства Сережины глухи, – Ну и что,– вы спросите,– зачем нам его приглашать-то? – Не подумайте только, что речи Сережины лживы, |
Соседка
До шестьдесят первого года мы жили И когда мне читали сказку про бабу-ягу Поэтому я боялась встречаться с ней в коридоре. Каждое воскресенье она уходила утром куда-то А потом – она несколько дней И я тогда поняла, что Мария Сергеевна А совсем недавно – несколько лет назад – Несколько раз потом меня посещало странное ощущенье, |
Три сестры
Три сестры нас было у матери, Три сестры нас было у матери, Три сестры нас было у матери, Как сойдемся мы, три сестры, хоронить матушку, И одна положит на могилку румяное яблочко, |
Семейные страсти
Лариса всю жизнь говорила мужу: А однажды, когда пригрозила Лариса ему, намекнув на Петрова, И Лариса вдруг вздрогнула. И у зеркала долго искала ответа она, И, уткнувшись в стекло окаянное, прямо лоб в лоб, И уже среди ночи – у мужниной теплой щеки – |
Девичник
Катя гордится тем, что у нее муж престижный, у которого есть возможность; К другой женщине ушел престижный муж Кати. Каждый год они устраивают девичник Восьмого марта. был такой остров, где одни лишь женщины-амазонки жили, так они мужиков к себе и на пушечный выстрел не подпускали, а тех, кого случайно приносила им буря, убивали на месте! Эта история вызвала оживление, подняла настроение: – До свиданья, Катя,– |
Простая история
Тетя Алла была из деревни родом. Тетя Алла по праву считала, – Где твой муж дядя Саша? Ухмыляется, смотрит прочь, вся седая: ...Вот теперь-то припомнишь все Вот и кончился твой полет, от которого ты устала, |
Просто…
Что-то мертвые стали ко мне захаживать... Придут – и сон рвется. Ни о чем их не успеваю спросить: где они, на небесной тверди День говорит: "во-первых..." и "во-вторых...", а также Просто – настала осень. Заморозки на почве, сутулятся сами плечи, |
Апология человека
Что-то мертвые стали ко мне захаживать... Придут – и сон рвется. Ни о чем их не успеваю спросить: где они, на небесной тверди День говорит: "во-первых..." и "во-вторых...", а также Просто – настала осень. Заморозки на почве, сутулятся сами плечи, |
Часть 1
***Человек умирает, и на третий день его облик изменяет ему, на девятый – начинает тлеть его тело, на сороковой – сердце. Так оканчивается человек. ***На третий же день он делается ДРУГИМ. В дом без хозяина набиваются воры, разбойники, бродяги, бомжи. Иногда хочется крикнуть: "Да ведь это совсем НЕ ОН!" И тогда отвечают: "Успокойтесь, гражданочка, это все нервы, нервы!" Потому что – если не он, то КТО? Говорят, что покойник безобразен и страшен и лучше на него не смотреть. Заглядывают ли без трепета и без жути в дом, у которого окна черны, проводка оборвана, провалился пол? БезобрАзен тем, что безОбразен, и страшен тем, что он пуст. Нету в нем его самого – и он стал другой. Покинуло человека его "свое" – и он стал чужой. Но и пустые мысли полны лукавства, вздора и непотребства, а гнездо разоренное полно хищения, отчаянья, страха. Так и его пустота обоюдоостра, полна чем-то инородным прежнему – неподъемной тяжестью безличного: "стемнело" и "моросит". Отошел от человека дух Божий – и пришел СТРАХ. ***Живые сидят и поминают покойного с горячей чаркой в руках. На кладбище – вечно дождь косой, мелкая сетка, ветер пронизывает насквозь. – Он любил сырные корки. Бывало, принесу сыр. А он корки-то не дает обрезать и выбросить, говорит: дай мне, я съем. – А мне, помнится, блестящую такую остроту сказал: у нас, говорит, любой человек имеет право... предъявить документ. Живые жмутся друг к другу, размягченные человечьим теплом, мертвые – уже стали другими, а тех – не найти... ***Но живет человек, и он – это именно ОН. Всякое удивительное и чудесное происходит с ним – даже и без его ведома, без его трудов. Что-то такое горит в нем, светится, и он мягок и податлив, как теплый воск. И дыхание его, как горячее облако на ветру. Глаза его устроены весьма хитроумно и освещаются изнутри. Черный зрачок расширяется навстречу тьме. И всё, что совершается с человеком, написано у него в глазах. Весь он в упругой узорчатой коже, очерчивающей предел: вот здесь человек заканчивается и начинается мир. Болезненны на ней ссадины и царапины и уродливы шрамы, рубцы. Даже слабые ветки могут оставить их. Словно миллионы рабов трудятся день и ночь на него. Словно какой невидимый муравейник копошится в нем: что-то вечно туда-сюда снует, торопится; на бледной его жаровне перегорает-варится; то на черный день тонким слоем под кожей откладывается, уплотняется; то, как нитки с катушки, разматывается, истончается, на ветер пускается. И весь человек переливается, как водопад – кто может его постичь? Вечно что-то в человеке бьется внутри, колотится, гудит, постукивает, потикивает. Песок и гравий под ногою его похрустывает. Вышина небесная над ним посвистывает. Лучи пронизывают его с головы до ног. Помощь ему приходит с самых небес. Разве мог бы он сам по себе хотя бы камень поднять, хотя бы руки свои согреть на лютом ветру, расколоть хотя бы малый орех?.. И живоносное семя его под спудом накапливается, сгущается, тяжелеет, одолевает жаждой, умоляет: – Излей меня! Дай мне там, в благодатной почве, в глубине покоя забыться и прорасти! Так продолжается человек. ***Пока живет человек, непрестанно с ним происходит нечто, творится, выпадает на долю, случается и стрясается. Дорога его на буграх подпрыгивает, раздваивается, расчетверяется, восьмеричной дробью шарахается на знак бесконечности, мелкой восьмушкой по нотному стану мечется – скрипичный ключ вконец заржавел, и ворота не отпираются. ...Несколько раз останавливался, озирался в испуге, пятился – почему-то оказывался впереди. Торопился, летел сломя голову – и потому сильно отстал. Решил срезать угол, пройти напрямик – и заплутал. Заблудился, запутался, потерялся, а оказалось,– уже пришел. В детстве мечтал сделаться дворником, с его утреннею метлою-лопатою по тротуару: "шарк-шарк". Дом, в котором родился и вырос, крепкий добротный дом, долго разбивали большой кувалдой, далеко было слышно протяжное и торжественное: "бум! бум!". Женщина, которую безответно любил, расползлась вширь, тяжело ступает, и капельки пота у нее на лбу. Купил, наконец, японский сервиз за три тыщи в угоду жене – и по дороге разбил. Поехал на юг – и сел на ежа. Несуразная все-таки у человека жизнь, но и нелепицы драгоценны ему. Шел, понурый, по пыльной дороге, увидал: вишня цветет! И улыбнулся ей. Выбежал вон из дома – прямо в ливень, в грозу – досада выглядывала из глаз. Запахи облепили лицо: пьяная жимолость, жадный жасмин, нежность до слез. Небеса отверстые захватили дух. И – подивился сему. Был разбужен раннею птицей и долго еще лежал, щуря глаза. И был благодарен ей. ***Одна женщина любила одного человека, а он ее не любил. И это продолжалось много и много лет. А она неотступно молила Бога, чтобы Он отдал его ей. Но человек этот ее по-прежнему не любил. И, отчаявшись, она возопила к Богу, чтобы Он ее отпустил: разорвал эти сети и дал ей спокойно жить. И Господь услышал ее молитву и отпустил ее. И она почувствовала себя свободной и увидела, что день – почти догорел. И еще она увидала, как жалок тот человек. Как он мелок и потрепан и некрасив. И еще она увидала, что он – ДРУГОЙ. Оделся в его былые одежды и голосом его говорит. ***Человек делается другим, когда от него отходит любовь. И весь он – как обгоревшее дерево с черным лицом. Тревога стоит у него в головах, и опасность бродит вокруг. И если бы не было вечной жизни, можно было бы сказать так: человек умирает, когда его разлюбил Бог. ***Один старый монах говорил: человек умирает на одном из двух полюсов – либо когда он не мог бы сделаться лучше, чем он уже есть; либо когда он не смог бы уже исправиться и продолжал бы катиться вниз... ***Жила одна прекрасная девушка в захолустье, в обшарпанном запуганном городке. И она повторяла: есть ли вообще в этой жизни какой-то смысл, если вот, например, где-то в дремучем лесу вырос прекрасный цветок, который никто никогда не увидит, то он – зачем? И сама же себе отвечала, что – да, и смысл есть, если, конечно, его красоту видит хотя бы Бог. А потом она вышла замуж за столичного человека в зеленых, ядовитого цвета, носках, с выраженьем отрыжки сытости на лице... ***Жалок человек и потерян, когда изменяет себе. Словно кто-то другой начинает выглядывать из него. Новыми повадками его обкладывать, новыми ужимками начинять. На лице у него выписывать: "Ну а что такого-то? Ничего!" или "Вам-то какое дело? Ну да, это я! Я!" ***Бедный все-таки, беспомощный человек! Как же он весь сжимается, напрягается, когда ругают его или даже когда кто-нибудь не согласен с ним! Как он весь кипятится, морщится, чтобы доказать свою правоту. Как он ночью потом в постели ворочается, выискивая неотразимый, непререкаемый аргумент. А потом – впопыхах, сбивчиво выкрикивает его в затылок противнику и мучается, что сказал – не так... ***Жалок человек и наивен и отзывчив на похвалу. Скажите ему что-нибудь приятное о его делах или о нем самом, и он тут же сделает к вам крохотный, чуть заметный шажок. И глаза у него непременно увлажнятся, расширятся, и что-то дрогнет в лице. И, словно ветер, теплое, сладостное волнение его всколыхнет. И он наморщит от напряженья лоб, чтобы это скрыть, и почешет нос, и ковырнет землю носком. И ему тоже захочется сказать вам что-нибудь этакое в ответ, поддержать, что и вы – неплохи. И он с участием потрясет вам руку, похлопает по плечу, заглянет в глаза. А потом, мысленно провожая вас взглядом, подумает: симпатичный все-таки человек! И совсем не глуп. Даже большое добро, сделанное человеку, забывается им скорее, чем крошечная похвала. Свойственно человеку желание быть отмеченным, получить плюс – гирьку на весах бытия. ***Неустойчив все-таки человек – то и дело дает крен: из стороны в сторону пошатывается, покачивается, словно маятник, подвешенный к небесам. То он мучается: – Я бездарен, и мне тошно жить! То – выкрикивает: – Я прекрасен, но это не нужно здесь никому, этого не замечает никто! И только заботы жизни, вязкая ее суета заземляют, уравновешивают его. ***Жалок человек и наивен, когда говорит: – Оставьте меня в покое, дайте же мне покой! Потому что – если в нем самом нет покоя, кто может его ему дать? И если оставить такого в пустой и оглохшей комнате – наедине с собой, он сам начинает через весьма малое время рваться наружу, искать событий, людей. Ибо – страсти его, пребывая праздными, выползают наружу, присматриваются, к чему бы здесь прицепиться, на кого бы напасть. Начинают шикать, шипеть, поднимая головы, перебраниваются на разные голоса. И мысли его раздваиваются, спорят между собой. Будто в пьесе какой, где спорят бранчливые А и Б. И чувства, не находя волнореза, разбалтываются, выходят из берегов. Начинается наводнение, ураган. Гибнет княжна Тараканова в мутной темной воде. ***Удивительно, как человек изворотлив, как он живуч! Чем только ни способен гордиться, хвастаться человек! Что только в себе ни отыщет, чтобы сделать точкой опоры, рычагом, мир поворачивающим к себе. – У меня – самые малосольные огурцы! – У меня – самая больная в больнице печень! – У меня – самые черные мысли, каких не было никогда и ни у кого! – А у меня – самые-самые непростительные грехи! ***Удивительно, как беспомощен человек, как хрупок, словно обложенный скорлупой. Стоит ему лишь услышать тихое: "А я тебя не люблю",– как в нем что-то хрустнет, зазвенит, треснет, оборвется, и тьмою зальет глаза... И тогда он резко так вскочит, и лицо спрячет, и обхватит руками голову, и пойдет не разбирая дороги, и побежит, побежит... ***– Заведу собаку,– говорит человек.– Пусть она будет меня любить, видеть во мне своего хозяина, уважать. Будет меня безропотно слушаться, преданно глядеть в глаза, драться за меня и кусаться, а если надо, то и умрет за меня! И прибавляет горестно: она ведь мне не изменит, не солжет, не предаст. И не скажет на меня никакой клеветы. И не будет меня ругать. И не будет требовать от меня ничего, но только радоваться при встрече со мной и тосковать, глядя на дверь, пока не приду. |
Часть 2
***У одной женщины была мания, что все вокруг в нее влюблены. И она захлебывалась от избытка собственного бытия. А потом она стала старой, и потухло ее лицо. А те, кто знал ее красивой и молодой и ее любил, начали умирать, умирать... И однажды она грустно сказала: – Вот и я уже умерла. Но где-то там, наверху, забыли вовремя выключить мою лампочку, и она продолжает тускло гореть... ***Но гаснет тусклая лампочка, и следы человека обрываются у реки, зарастают мелким кустарником, затаптываются другими людьми. Трудно что-нибудь с достоверностью о нем сказать, разглядеть рисунок его судьбы. Доказать, что был такой человек. И если спросят о нем: допустим, он действительно был, но если он был, то он – КТО? В крайнем случае, можно ответить о роде его занятий: полководец, мытарь, поэт; или о степени его родства с теми, кто еще жив: муж тети Вари, дедушка Олега Петровича, ребенок Танечки с третьего этажа... ***Говорят, человек штучен и неповторим. Никогда на свете не было такого же человека и не будет впредь. Только тот, кто любит его, понимает, что это – так. И если не было бы Того, Кто способен это вместить, каждого человека знать по имени и в лицо,– суетна была бы вся эта бурлящая пестрота, сдерживаемая общими именами Петров и Павлов, Лазарей, Марий, Марф. ***Бывает, человек перерастает себя самого. Словно бы он поднимается вдруг на цыпочки и смотрит на себя – прежнего – сверху вниз. Все ему кажется исполнимым, податливым, как мягкая глина в ловких зрячих руках. И глаза его победоносно поблескивают от избытка желаний, от хмеля ума. И он чуть ли не пританцовывает, нет-нет да и щелкнет пальцами, языком, мотивчик даже какой-то носится у его губ. И сладкое самозабвение окутывает его, как облако, плывущее над землей. И, очнувшись, он спрашивает с изумлением: неужели я сие сотворил? Но проходит весьма малое время, и он опять становится мал. Ветер поднимается ему поперек. Растрескиваются его амфоры, выливая вино. Крошатся его глиняные поделки – тяжелый, бурый песок. Да и сам он чувствует страшную опустошенность, упадок сил. Сумерки сгущаются на его лице, и даже тень делается темнее возле него. И человек спрашивает себя: как? почему? Куда это делось, если я никому этого не отдал? И откуда взялось, если я сам ниоткуда это не брал? Потому что – пока дух Божий пребывает на человеке, не равен человек себе самому. ***Как же человек неустрашимо дерзок и при этом – как он труслив! Боится, как бы о нем чего не подумали, как бы не сказали о нем чего. Боится, что все у него перед носом кончится и захлопнется раздаточное окно. Боится бедности, унижения, уколов, бормашин, клизм!.. И при этом захлебывается пеной ропота, выкатывает грудь колесом, борется, словно какой Иаков в ночи, собственному Создателю кричит: "Уж!о!". И быстрыми такими решительными шагами идет во тьму. Там обступают его льстивые демоны, дружественно похлопывают по плечу. – Ты его ого-го,– говорят,– ты и сам с усам! Или мышцы твои подвешены к небесам? Или мысли твои за веревки привязаны, словно стая собак? Или слова твои с языка срывает суфлер? Или ты, в зеркало глядя, рядом с собой видел кого еще? Задушевный такой, приятельский выстраивается разговор, и они уже панибратски так, запросто, на короткой ноге, пощипывают его, подталкивают, замыкают кольцо. Вот-вот с затылка шапку ему сдвинут на лоб, поддадут тихонько пинка. Шуточки-прибауточки. Воровская малина: коромыслом дым. Чье-то копыто опускается ему на ногу, лукавая рожа ощеривается ему в лицо. – Ничего страшного,– вежливо так говорит человек. И интеллигентно покачивает головой. ***Удивительно все-таки человек изобретателен и хитер. Ведь, пожалуй, в девяти случаях из десяти, когда он не прав, он такую поразительную, вдохновенную нарисует картину собственной правоты. Например, разве он не ужасен в гневе? не уродлив в злобе? разве в зависти на змею очковую – не похож? Даже черты его переломаны и черны: бездна выглядывает из глаз. Потрясает человек кулаками, кричит: убью! ненавижу! – кричит и ходит весь ходуном. А и тут – найдет себе оправдания, приведет за руку свои: "потому" – тонким таким становится он психологом, захватывающий выписывает сюжет: благородное негодование, понимаете ли, праведный, господа, гнев! Жажда справедливости! честности! чистоты! Оправдает себя вчистую, а виновных велит посадить на цепь. ***Странное носит в себе человек чувство своей неловкости, стыда, вины. Словно готов у целого мира просить прощения, что он – не такой: то своего роста стесняется, то полноты с худобой. Волосы зачесывает с затылка на лысину, невзрачное лицо отворачивает, простоту свою пытается маскировать, словно какое вещественное доказательство, улику против себя. Бедность свою за спиною прячет, прикрывает, как дверь. В благополучии – прибедняется, в праздности – кивает на головную боль. Проигрывая,– хорохорится, палкой в землю стучит. Побеждая,– так сдержанно начинает покашливать, озабоченное делать лицо. Томится в тихом унынии, разоблачений боится, преображенья не чает, чудес не ждет. ***Близорукий все-таки человек: не замечает того блаженства, которое носит в себе – все мается своим желанием лучше жить. Все-то ему мерещится – измени он что-нибудь здесь, на земле, переставь, поменяй местами это и то,– сразу такое приветливое, гуманное у мира станет лицо. Получи он другого правителя, заведи порядок иной,– и зло пойдет напопятную, скроется в куче песка. Солнце будет светить приятнее, прохладительнее станут дожди. И человек сделается блаженнее и все проблемы свои решит. Негодующе поглядывает он на противников, которые стоят поперек,– не проехать из-за них, не пройти. И сам себе говорит: это все они виноваты, это все из-за них! Перья дрожат на его серебряном шлеме, меч позвякивает на бедре: заманчиво человеку по-своему повернуть мир. А меж тем – вот уже который день он не может справиться с насморком, носит в руке платок. ***– Суета,– говорит человек,– как же она изматывает меня! Если бы не было суеты, о, каким бы я был! Мысли свои додумывал бы до конца! Вглядывался бы вдумчиво в происходящее и – прозревал! Накапливал бы золотые энергии, как пчела – мед. Возрастал бы, как кедр Ливанский,– до самых небес. А заглянет к себе во внутрь – там неприбранно, там темно. Духота. Маленькие паучки висят по углам. Некуда приткнуться и – шаром покати. И опять человек выскакивает оттуда на бледный свет. Гонится за чем-нибудь пестреньким, мелькающим впереди, отсвечивающим, рябящим, отвлекающим ум. Человек показывает на это пальцем и вздыхает: вот – жизнь. ***Посмотрите на человека, когда он моет, чистит, украшает себя, тщательно скребет кожу, зажмуривает глаза, надувает щеки, намыливая лицо. А потом – такой ровненький, тонкий проводит пробор и какой-нибудь даже галстук повязывает или шейный платок. А потом – новенький и нарядный – в зеркало на себя глядит, и такая как бы даже критическая складка у него меж бровей. А на самом деле ему неловко и себе показать, что он доволен собой. И он, поворачиваясь, немой задает вопрос: ну как? И тот, кто справа от него стоит, поглядывает на него с нежностью, с умилением, думая примерно так: – Прекрасен все-таки человек, когда он полон надежд, когда готов к чудесам! А тот, кто слева располагается от него, посматривает на него зло и насмешливо, норовит посадить пятно. – Ишь, вырядился,– говорит.– Но и это не поможет ему. Любит он человеческую досаду, огорченный возглас: – Ну вот вечно так! ***Хрупок человек, когда он полон надежд, и жалок, когда он машет на себя рукой. Когда он в черном теле своем сидит, когда сухими и настороженными глазами глядит. Знает он тщетность своих надежд, знает безумие своей мечты. Потому что мечта его упирается в небеса – мир не может ее вместить. Человек же зачем-то устроен так, что ничто земное не может его утолить вполне. Неудачником выглядит человек. Он сидит, покачиваясь на стуле, смотрит тяжелым взглядом перед собой. Ничего-то его не радует, ничего он не ждет, ничего ни у кого не просит, ничего не рассчитывает получить. И только старательно теребит больной зуб. Ах, и у него был праздник, на который он охорашивался, улыбался безо всякой причины, начинал петь некстати и невпопад. И кто-то непременно его любил! А теперь он сидит один, с этой серой усталостью в скулах, в плечах, словно никто на свете давно не любит его... ***Один юноша очень боялся армии и хотел от нее улизнуть. И об этом сказал одному священнику: – Понимаете, это такое место, где нет любви. И священник ему улыбнулся и ответил так: – Что ты, мой дорогой! Там же люди, люди... А там, где люди,– всегда любовь. ***Посмотрите на человека, когда он празднует свой день рождения, и все поздравляют его. Говорят ему: поздравляем, что ты родился, что ты прожил столько-то лет. И мы пришли, чтобы радоваться тебе, радоваться тому, что ты – есть. И человек скромно отвечает "спасибо" и складывает подарки в углу. А потом – усаживает всех за стол и потчует. И все тут же едят и пьют. Потому что – большой праздник, когда человек ЕСТЬ. Воистину – это стоит того, чтобы устроить пир. Эй, музыканты, громче, торжественней, веселей! Созывайте всех к человеку, всех, кто любит его! Всех, кто ощущает дух Божий на нем. Всех, кто понимает, что он – это только он. Всех, кто не согласен увидеть его – другим! Наслаждайтесь же человеком, радуйтесь же ему, глядите ему в глаза, обнимайте от избытка чувств. Вот он – такой, как есть,– хлопочущий о закусках, сетующий, что мало вина; оттирающий капнувший ему на брюки бордовый соус, золотой майонез; произносящий что-то возвышенное – в честь друзей, что-то во славу жизни, во славу ее Творца... И даже если он вовсе не хочет праздновать этот день и, фыркая, говорит: нечему тут радоваться! Тоже мне событие! Тоже мне фестиваль! – все равно радуйтесь и празднуйте, пойте ему хвалу, наигрывая на кимвалах и на тимпанах, велеречивых флейтах, нежных виолончелях, органах, скрипках! Потому что человек, покуда он жив, не принадлежит себе одному. |
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православие и современность. Электронная библиотека." (www.lib.eparhia-saratov.ru).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).