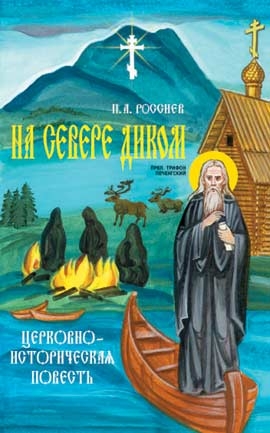Горькая пустыня
Дальний Север, дикая пустыня… Куда ни обратится взор, везде видит топи и болота да голую землю, или громады голых скалистых гор, вершины которых восходят к бледным небесам. Ничто не ласкает глаза, ничто не лелеет слуха — ни соловьи, ни жаворонки, столь близкие сердцу русского человека, не залетают сюда. Зима долгая, лето короткое, такое короткое, что промерзающая земля не успевает отогреваться. Скупо улыбается солнце с далекого неба, по которому то и дело ходят серые тучи, подгоняемые ветром; ветру тут раздолье широкое. Горы темнеют, закрывая собою, быть может, лазурные края, где ярко светит солнце и улыбается природа, где благоухают цветы и легкий ветерок, порхая, шепчет что-то сладкое, приятное… Лазурные края!.. О, нет, они далеко от этой дикой, безотрадной пустыни… Здесь все мрачно, тревожно, веет холодом и смертью.
Залегли топи и болота… В редких местах видится сосновый лесок, либо ельничек, либо корявая березка, пригибающаяся к зеленому мху. В лесках показываются медведи, помахивая длинными пушистыми хвостами бегают песцы, серые волки мелькают меж деревьев, сверкая глазами и скаля зубы на добычу. В болотах копошатся гады, на короткое лето залетают гагары, чайка носится с резким криком, будто она ищет кого-то и не может найти.
Велика эта пустыня. Протянулась она вширь и даль на сотни верст, обрывается у Белого моря на западе, у Ледовитого океана – на севере. Сурово Белое море, студеное, страшен Ледовитый океан. Грозно море, когда на смену серпеню (августу) приходит зарник (сентябрь) и с высоких гор подымается буйный ветер, по-здешнему — "хвиюс". Мечется, ревет, воет он, носясь над пустыней, разгоняет чаек и гагар по теплым гнездам, бурых медведей, серых волков и голубоватых песцов по берлогам и логовам и кидается к Белому морю. Хвиюс баламутит море и оно бушует немилосердно, будто грозит этой пустыне, разбивая ревучие валы об огромные глыбы льда, гуляющего во мраке северной зимы. Ведь тут зима наступает рано — с зарником.
Закатывается солнце, что светило почти три месяца днем и ночью. Зябкая поросль пожелтела, свернулась под дыханием хвиюса. Стало сиверко (холодно). К концу зарника глубокий снег покрывает пустыню, леденеют горы, начинает завывать пурга. Ночь воцарилась, и будет править она до Омельяна исповедника, который празднуется вскоре после Крещения Господня. До тех пор и солнце не взойдет. Сполохи (северное сияние) одни станут теперь озарять это мертвое царство, переливаясь целым морем всевозможных цветов и будто бросая бесчисленные искры на снежный полог тундры-пустыни с ее толстиками (горными кручами), наволоками (мысами) и сланкою (очень мелким кустарником).
Студеное море, бушуя, сливается с Ледовитым океаном, по серой поверхности которого бродят стамухи (ледяные горы). При луне они похожи на величественные, сказочные замки, чудесным образом будто созданные из разноцветных камней-самоцветов: красных, голубых, янтарных, зеленых, желтых, переливающихся всеми цветами радуги... На океанском просторе среди этих ледяных гор видны тюлени, плавающие со своими детенышами на толстых льдинах, качающихся на могучих волнах свободной стихии. Сполох вспыхнет, озарит небо — тюлени выплывают на холодный берег и резвятся. Они здесь одни: охотничья стрела не караулит ластоногих.
Хвиюс то словно немного смиряется, то вновь начинает дуть со страшной силой, будит пургу, и снег кружится над пустыней и превращает ее в первозданный хаос...
Вслед за груднем (ноябрем) пожаловал студень (декабрь). Затрещала Варюха, Савва завострил, Никола загвоздил. Медведь в берлоге еще глаз не открывал. Холодно!.. Спиридон по обыкновению пришел — солнцу бы поворот, а где оно, солнце-то? Еще с серпенем закатилось и до Омельяна не подымется со своей алой постели.
Но вот сУхий воротился. Пришел он, март, с дождями, с туманами, с непогодою, да только уж вешнею. Запыхался март, дышит тяжело, прерывисто, но как ни дыхнет, все уж будто теплом…
Сам хвиюс как бы от него сторонится: знает ветер буйный, что не он друг и споспешник марта, а полуночник, шалоник, побережник — вот какие ветры. СУхий не на сиверко гнет, а на межонное время (лето). Пролетье: Евдокея весну сряжает, Герасим-грачевник, Алексей — с гор потоки...
Курятся туманы, падают дожди. Снег рыхлеет и понемногу оседает. К цветеню (апрелю), глядишь, зачернеют проталины, над ними запрыгают грачи, закаркают вороны, отзовутся гагары, чайки, солдат-птицы, буревестники, ножеклювы и поморники.
Но Белое море по-прежнему бушует, по-прежнему разбивает свои ревучие валы о ледяные громады, которые к концу мая оно вынесет в Ледовитый океан на необъятный простор.
Травень (май). Весна наконец улыбнулась и дикой пустыне своею ласковой улыбкой. Тундра сбросила с себя снежный покров. Улегся хвиюс. Вон белым кружевом стелется ягель, вон показалась и робкая травка. Корявая березка застенчиво прикрывается листочками, соснячок и ельничек, смахнув зимнюю дрему и пушистый снег, зеленеют как-то особенно торжественно. И в этом робком, слабом проявлении жизни растений заключается, увы, вся красота обширной пустыни весною. Ни селений, ни хотя бы одиноких изб не видать. Живут ли здесь люди? Или это край, забытый человеком?
Но, чу, раздался тревожный крик!.. Он разбудил пустыню. Это не крик гагары, или чайки, или другой какой-нибудь птицы; это и не медвежье либо волчье рыкание. На зов откликнулось несколько маленьких существ в таких же оленьих шкурах и в оленьих шапках. Они споро поднялись с земли, на которой сидели в кружок, и перевальчатой походкой направились в сторону встревожившего их крика. А окликнуло округу такое же странное как и они существо, стоявшее на коленях перед оленем посреди тундры.
Олень умирал.
Он лежал на мху, который сплошь покрывал тундру, и глазами, полными слез, смотрел на склонившееся над ним, одетое по примеру ветхозаветных людей, существо. Ветвистые рога умирающего животного были закинуты на спину. Олень не двигался, только задние ноги его с мягкими копытами время от времени подергивались. Животное дышало медленно и прерывисто.
Стоявший перед ним на коленях человек пристально всматривался в оленя, и его кроткие серые глаза также роняли слезы, бежавшие по смуглым щекам и терявшиеся в завитках редкой бороды. Судорога нет-нет да и сжимала его лицо. Казалось, этот человек навсегда расставался со своим лучшим, верным другом, терял все, что до сего времени его радовало и доставляло ему счастье.
Подошли остальные.
— Умирает олень? — спросил один из них.
Стоявший на коленях ничего не ответил на вопрос, он даже не обернулся к подошедшим таким же, как и он сам, людям.
— Да, олень умирает... умирает... — послышались голоса.
Олень доживал последние минуты. Он было приподнял голову, но она беспомощно упала. Ноги его стали еще сильнее подергиваться, слезы неудержимее потекли из глаз.
Стоявший на коленях человек подался всем телом вперед.
— Ильмаринен, — обратился к нему один из пришедших людей, — что же ты не собираешь его слез?
Ильмаринен — таково было имя стоявшего на коленях. Он вздрогнул и как-то безразлично отозвался:
— Ах, да, да...
И, достав из-за пазухи долбленую чашечку, стал собирать в нее слезы, текшие из глаз умирающего животного. По верованию этих детей северной пустыни, слезы умирающего оленя обладают чудесной силой и помогают в минуты тяжелых испытаний, которые судьба посылает людям на их жизненном пути. Собрав слезы, Ильмаринен сжал чашечку в руках, продолжая все так же неотрывно смотреть в глаза оленю. Наконец тот потянулся, еще раз поднял голову, но она опять упала, вновь встрепенулся и — остановил на людях свой враз помутившийся взгляд: в стаде одним оленем стало меньше.
Ильмаринен обнял мертвое животное, погладил по шее и со вздохом поднялся с колен.
— Нет оленя, — промолвил он.
— Мало их у нас! Эна, сколько бродит! — с уверенностью отвечал хриповатый голос.
В самом деле, по тундре бродило большое оленье стадо, пощипывая ягель. Высокие гранитные горы стояли цепью, которая в одном месте разрывалась, открывая вход в Печенгскую губу. Миль на девять протянулась эта губа и, образовав колено, вдавалась в материк. Вдали блеснуло зеркало озера. Кроме Печенгской губы, далее, на запад, прошла Паза-губа. Громоздятся острова. Утонул в зелени мыс, словно богатырь загородивший вход в Пазу-реку. Из синеватой дали доносится шум падунов (водопадов). Могучая, гордая, но дикая природа!
Между тем маленькие люди, одетые в оленьи шкуры, отошли от мертвого животного и вскоре исчезли: одни — в шалашах из древесных ветвей, другие — под землею в ямах с острыми крышами из торфяника. Иных жилищ здесь нет. Эти маленькие люди, кочуя по тундре со стадами оленей, не строят изб. Шалаш служит прекрасным убежищем в непогоду, яма — отличным укрытием от врага: разбойников, вольницы, финнов и новгородских добрых мОлодцев, которые не прочь заглянуть в эту далекую, горькую пустыню и поживиться у простодушных ее детей, даже не имеющих, чем защититься.
Занесет буйный хвиюс чудь разбойную — пастухи и руки опускают. Знать, кебуны (колдуны и жрецы) не умолили "северного духа" предотвратить нашествие, или чудь сильнее, что ли, этого духа? Но коли нашла она, расплачивайся с нею, разбойною. И пастухи отдают оленей, шкуры животных и всякое наличное добро, сколько чудь потребует. А новгородские добрые мОлодцы или бездомная вольница явятся — тоже на страх пустыне...
— "Стало" пришли! Ой, "стало" пришли! — с ужасом повторяют маленькие обитатели пустыни и уже прямо забиваются в свои ямы, оставив на произвол судьбы стада. И сидят в этих ямах ни живы ни мертвы, пока "стало" хозяйничают около стад, занимаясь грабежом.
— Ой, страшны "стало"!
Почему страшны? Потому что "стало" — это ведь дюжие мОлодцы, закованные в сталь. Сами закованные в непроницаемые доспехи, они приносят с собою смертоносное оружие. Где же карликам бороться с богатырями? Но кто они, карлики? Кого обижают все пришельцы с мятежной душой и буйным нравом?
Это — "дикая лопь", по-нынешнему, лопари. И над этими дикарями-язычниками, и над этой-то дальней и суровой страной пролился свет веры Христовой. Новгородская сторона озарила этим светом дальний Север: из города Торжка пришел апостол в народ лопарский. То был Митрофан, в иноческом постриге Трифон, просветитель лопарей, Печенгский чудотворец.
Дикая лопь
Среди русских того времени, к которому относится наше повествование, то есть конца пятнадцатого и первой половины шестнадцатого века, ходили про дальний Север удивительные рассказы. Историк Н.М. Карамзин прямо говорит: "Уверяли, что там, на берегах океана, в горах, пылает неугасимый огнь чистилища; что в Лукоморье есть люди, которые ежегодно 27 ноября умирают, а 24 апреля оживают снова; что перед смертью они сносят свои товары в одно место, где соседи в течение зимы могут брать оные, за всякую вещь оставляя должную плату и не смея обманывать, ибо мертвецы, воскресая весною, рассчитываются с ними и всегда наказывают бессовестных; что там есть и другие странные люди, покрытые звериною шерстью, с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но безногие; есть рыбы человекообразные, но только немые и прочее".
Это говорилось про лопарей, тех самых, что еще с начала одиннадцатого столетия платили дань Господину Великому Новгороду. Он разделил их на двоеданных и троеданных и брал с них сперва шкурками пушного зверя и рыбою, а впоследствии уже деньгами. К дикой лопи приезжали новгородские пристава и собирали дань. Нечего говорить, что люди в звериных шкурах не могли не казаться приставам дикими, и об этих дикарях они слагали всякие басни, которые прикрашивались потом всячески досужим народом.
К тому, что рассказывали о лопарях миряне, монахи добавляли со своей стороны мрачное, безотрадное. В Соловецком монастыре сохранилась рукопись. В ней говорится: "Сие родове (то есть лопари), яко звери дикие, живут в пустынях непроходимых, в расселинах каменных, не имеют ни храма, ни иного чего, потребного к жительству человеческому, но только животными питаются: зверьми, и птицами, и морскими рыбами, одежда же их — шкура оленей. Отнюдь Бога истинного, единого и от Него посланного Иисуса Христа ни знать, ни разуметь не хотят, но им же кто когда чрево насытит, тот и бог для них. И если иногда кто камнем зверя убьет — камень почитает, а коли палкой поразит ловимое — палицу боготворит".
Не совсем, впрочем, правильно записал соловецкий летописец. Когда над бушующими валами Белого моря воздвиглась Соловецкая обитель, то в нее стали приходить и лопари.
— Что вас привело сюда? — спрашивали у них монахи. И пришедшие отвечали:
— Мы хотим остаться с вами, братия.
— В обители преподобных отцов Зосимы и Савватия? — удивлялись монахи. — Да что вам тут оставаться! Вы же привыкли к тундре, к оленьим стадам, к простору и вольной воле.
— Все оставляем, все выбрасываем из сердец наших, — отвечали лопари. — Хотим, подобно вам, посвятить себя исключительно молитве и посту.
— Как, вы хотите принять иноческий образ?!
— Да.
И принимали, и становились иноками лопари.
До великого князя Иоанна III они из года в год в определенное время поджидали сборщиков дани, и вряд ли у какого-нибудь пристава хватало когда-нибудь духу сказать, что лопарь увернулся от дани или что он его, пристава, провел. Этого не случалось. Лопь — дика, но честна. В летописи края недаром говорится: "На самом дальнем берегу океана живут лапландцы, народ чрезвычайно дикий, подозрительный и до того трусливый, что один след чужестранца или даже один вид корабля обращает их в бегство. Москвитяне не знают свойств этого народа. Торговля мехами производится без разговоров, потому что лапландцы избегают чужих взоров. Сличив покупаемые ими товары с мехами, они оставляют меха на месте, а купленное уносят, и такая заочная торговля производится с чрезвычайною честностью".
Начиная с Иоанна III, лопари сами в лице своих старшин привозят дань, только уже не Господину Великому Новгороду, а покорившей его Москве. Они имеют теперь дело не с какими-то приставами, а с "великим князем и царем", как любил называть себя Иоанн. Лопь в Москве… Перешагнуть в Иоаннов град из пустынной, голой, угрюмой тундры было равносильно тому, что попасть в рай.
Известно, что с воцарением Иоанна III собственно началось русское государство и вспыхнула заря новой жизни русского народа. Иоанн достиг полного блеска верховной власти. Его первого Русь сочла, а иностранцы назвали Великим. Пышность и великолепие сопровождали этого кузнеца на троне, мощно ковавшего Россию, которая все росла и росла, захватывая под свою власть на севере, востоке, юге и западе все новые и новые земли. При нем Москва принарядилась, приукрасилась и пышно расцвела под руками своих и иноземных мастеров, призванных по воле великого государя.
Из Твери, Вятки, Рязани, Новгорода, Перми и из старинных русских волостей, захваченных было Литвой, шел селиться в Москву служилый и всякий люд, неся с собою свои дарования, свои вкусы, свои богатства и сокровища. Доиоанновская Москва обветшала. Пустырям и пустопорожним местам, поросшим крапивой, отавой или бурьяном, приходил конец.
Из Пскова пришли на княжеский зов каменщики, из Венеции, Милана, Любека приехали итальянские и немецкие палатные и стенные мастера, прибыл знаменитый зодчий Аристотель Фиоравенти, — и закипела в Москве работа. Одна за другой строятся церкви. Где были пустыри, там теперь тянутся улицы, на месте лачуг, гляди, красуются терема; где стояли палаты, там уж высятся дворцы. Фрязины (под коими подразумевались вообще все иностранные мастера) с какой-то лихорадочной поспешностью украшают московские здания: фряжская живопись видится на стенах храмов, дворцов и палат. Далматский золотых дел мастер изготовляет для царя Иоанна сосуды. Все, что непышно, некрепко, не выходит из ряда вон — все из московского обихода изгоняется.
— Хором-то, вишь, уж не строят на Москве, — говорят заезжие люди.
— Что ж, москвитяне без хором, что ли, обходятся?
— Заместо хором палаты воздвигают...
— А какая разница? Хоромы, палаты — все равно, чай...
— То-то, что не все равно. Палаты — фряжское мастерство, непременно из камня, а хоромы, известно, деревянные, с вышками да сенцами, да гриднями. На Москве ноне все вновь идет. Тесно ей стало в самой себе, ну так...
— Так что?
— Так церкви старые, извечные из города вон выносят...
— Впрямь?
— Да-а. А монастыри старинные с мест переставлены...
— Ахти! Да неужели?
— Истинно. А кости мертвых вынесены за Дорогомилово...
— Ай, и кости потревожены! О, Господи!
Посажены новые сады — Москва зазеленела. Город принял величественный вид. Лопари, как ни дики они были, все-таки не могли не дивиться московской красе. He им, невежественным поморянам, было разбираться, как какой храм построен на Москве и что значит церковь крестчатая, или коробовая, или стрельчатая. Они и слыхом не слыхали о каких-то индийском, ломбардском и мавританском стилях! Попадая в Москву, лопь в восхищении замирала перед великолепием дворцов и хоромов и, не скрывая восторга, простодушно вопрошала москвитян:
— И откуда у вас сие?
— Божие благословение, — отвечали те.
— Да, велик ваш Бог, щедр и милостив, — соглашались лопари.
— Что ж, каждому по вере дается. Примите Святой Крещение, и вам Господь пошлет от щедрот Своих. Он всеблаг и многомилостив.
Все, что видела дикая лопь в Москве, ей и во сне не снилось. Жизнь москвитян представлялась им чудесной; взирая на них, лопари остро ощущали нищету и убогость своего существования. В Москве они воочию убеждались, что их жизнь, в привычном для них устроении, так же бессмысленна, как и существование неразлучных с ними оленей. В конце концов, раздумье взяло верх. Дикарями мало-помалу стала овладевать жажда иной жизни, жажда света, жажда христианства. Побывавшие в Москве рассказывали, возвратившись в тундру, про чудный город и про милости и щедроты христианского Бога. Души встрепенулись. Уже от одних только рассказов веяло каким-то приятным, особенно сладостным теплом. Вера в своих богов поколебалась. Напрасно кебуны, узнав об этом, грозили северным пастухам местью идолов и злого духа, напрасно прочили гибель всех стад, если отступники не образумятся. Лопари поступили по зову сердца — послали старейшин своих к великому князю, "моля его дать им учителей христианских".
Шел 1527 год. В это время княжил уже Василий III, сын Иоанна III. Старейшины лопарские, принеся обычную дань, передали ему и мольбу от себя и от уполномочивших их поморян. Приняв прошение, Великий князь повелел новгородскому архиепископу Макарию — знаменитому в истории Русской Церкви святителю — отправить в Лукоморье иерея тамошнего Софийского собора с диаконом, которые и просветили бы поморян светом евангельской истины. Новгородский иерей с диаконом потрудились среди лапландцев, живших при устье реки Нивы и Кандалакшской губы. Но кроме этих лопарей были еще кольские лопари. И они через несколько лет также изъявили владыке Макарию желание креститься и "с великим усердием приняли священников. Однако, веруя во Христа, сей народ, — как замечает историк Н. М. Карамзин, — продолжал обожествлять солнце, луну, звёзды, озера, источники, реки, леса, камни, горы, имел жрецов… и, ходя в церкви христианские, не изменял и своим кумирам. Архиепископ Макарий и послал туда умного монаха Илию с наставительною грамотою к жителям, которые, уверяя его в своей верности христианству, говорили, что они не смеют коснуться своих идолов, хранимых ужасными духами".
— Вот наши леса, — говорили лопари, — они священные. Мы поклоняемся им, так как в них обитают грозные духи. Они жестоко наказали бы того, кто сорвал бы хоть одну ветвь с дерева.
Как бы в ответ Илия не только сорвал, но и зажег сперва одну ветвь из священного для них леса, затем другую, еще и еще...
Лопари пришли в ужас.
— На что ты осмелился? — восклицали они. — Ты... ты не боишься кары лесного духа?
— Я боюсь кары истинного Бога, — отвечал монах. — Я не признаю никаких — ни горных, ни лесных духов, ни русалок. И ваши леса — простые леса, созданные волею всемогущего Бога.
Тем временем сломанные ветви горели. И что же! Илия оставался цел и невредим.
— Кому вы молитесь? — обратился он к лопарям.
— Мы поклоняемся кумирам, — отвечали они и указывали на грубые каменные фигуры, сделанные неумелыми руками кебунов.
— Не сотвори себе кумира — вот что говорится в истинном Священном Писании, — промолвил монах Илия.
Поселившись на Коле, он стал проповедовать слово Божие, благовествуя, сокрушать языческие жертвенники, бросать в море истуканов. Тщетно жрецы грозили ему местью сокрушаемых им богов, напрасно они накликали на него смерть. Илия делал и делал свое дело, возвещая слово Истины.
Колу основали новгородцы. В первый раз поселение это упоминается в 1264 году в договоре их с князем Ярославом Ярославовичем Тверским. Промышленным новгородцам нужна была Кола. Постепенно обогащаясь торговлею с ненцами, камскими болгарами и другими, новгородцы особо обращали внимание на меха. Это был самый главный источник их обогащения, так как в ту пору меха составляли роскошь и щеголять в них любила вся Европа. А на севере ли не было зверья! Ведь север и северо-восток поросли сплошь лесами. Подвигаясь все дальше да больше, подходя к океану, к сказочному Лукоморью, новгородская предприимчивость строила по пути, где было удобно, города и колонии и крепко держалась за них. С расширением круга торговли, по мере того как росли благополучие и богатство Господина Великого Новгорода, новгородцы все выше поднимали голову и все самостоятельнее держались по отношению к своим ближайшим соседям. Ничего нет мудреного в том, что они именно так уговаривались с тверским князем Ярославом Ярославичем, о чем свидетельствует и данная грамота:
"Князь Ярослав! Требуем, чтобы ты, подобно предкам твоим и родителю, утвердил крестным целованием священный обет править Новым городом по обыкновению, брать одни дары с наших областей, поручать оные только новгородским, а не княжеским чиновникам, не избирать их без согласия посадника и без вины не сменять тех, которые определены братом твоим Александром, сыном его Димитрием и новгородцами. В Торжке и Волоке будут княжеские и наши тиуны (или судьи): первые в твоей части, вторые в Новгородской, а в Бежицах ни тебе, ни княгине, ни боярам, ни дворянам твоим сел не иметь, не покупать и не принимать в дар, равно как и в других владениях Новгорода: в Волоке, Торжке и прочиих; также в Вологде, Заволочье, Коле, Перми, Печере, Югре. В Руссу можешь ты, князь, ездить осенью, не летом, а в Ладогу посылай своего рыбника и медовара по грамоте отца твоего, Ярослава. Димитрий и новгородцы дали бежичанам и обонежцам на три года право судиться собственным их судом; не нарушай сего временного устава и не посылай к ним судей. Не выводи народа в свою землю из областей наших ни принужденно, ни волею. Княгиня, бояре и дворяне твои не должны брать в залог по долгам ни купцов, ни землевладельцев. Отведем сенные покосы для тебя и бояр твоих, но не требуй отнятых у нас князем Александром (Невским) и вообще не подражай ему в действиях самовластия. Тиунам и дворянам княжеским, объезжающим волости, даются прогоны, как издревле установлено, и только одни ратные гонцы могут в селах требовать лошадей от купцов. Что касается пошлин, то купцы наши в твоей и во всей земле суздальской обязаны платить по две векши с лодки, с возу и с короба льна или хмеля. Так бывало, князь, при отцах и дедах твоих и наших. Целуй же святый крест во уверение, что исполнишь сии условия, целуй не чрез посредников, но сам и в присутствии послов новгородских. А затем мы кланяемся тебе, господину-князю".
Не мудрено, что они уговаривались так, а не иначе, ведь это было в новгородском обычае. Приходил к ним князь, и если они принимали его, то только "на всей своей воле". Иными словами, ставили князю свои условия. Согласен исполнять их — оставайся, а коли нет — с Богом...
— Вот наша воля, — говорили пылкие, своевольные новгородцы.
— Тяжела ваша воля, — ответствовал князь.
— Тяжела? — повторяли новгородцы. — Иди куда хочешь; теперь не твое время.
И князь уходил. Ничего больше не оставалось ему делать.
Однажды великий князь Киевский Святополк II снарядил в Новгород посольство. Послы пожаловали и напрямик выложили, что, мол, хочет великий князь посадить у них, новгородцев, своего княжича-сына. А Господин Великий Новгород также прямо послам в ответ:
— Скажите великому князю: "Князь Святополк! Если у твоего сына две головы, то пришли его к нам".
В 1550 году селение Колу назвали острогом, а в 1553 году в остроге построена была первая церковь.
Иеромонах Илия, поселившись в Коле, стал проповедовать лопарям-язычникам единого истинного Бога, Творца неба и земли, единого Отца и Спасителя всех людей. Доброе семя падало на камни, но иное западало также и в благотворную почву, и мало-помалу в Кольской стороне стал разливаться свет христианства. Новгородский монах сеял святое, сеял с ревностью, не щадя сил. Однако язычество царило не в одном только Кольском окружье, по рекам Коле и Туломе. Оно широко властвовало вокруг. Берега рек Печенги, Паз-реки и побережье Северного океана, где бродили лопари со своими стадами, также жаждали света. Но от Колы до них — это не рукой подать. Дикий народ жил на пространстве 500 верст. Где же было иноку совладать с этой могучей "горькой пустыней" и озарить ее светом христианства. Тут требовался могучий духом, избранник Самого Всемогущего Бога, Который бы вложил в Своего Апостола силу, терпение, выносливость и стремление к подвигу необычайные.
И таким избранником стал Митрофан. Он закончил начатое новгородским подвижником Илией дело, от которого принял благословение на труды, а впоследствии и иноческий постриг.
Когда Митрофан явился в Колу, то первым, кого он там встретил, был новгородский иеромонах.
— Благослови меня, святый отче! — обратился к нему Митрофан. И когда благословивший его инок спросил, зачем он сюда пришел такой молодой, полный сил и, может быть, очень нужный родному городу Торжку, Митрофан смиренно отвечал:
— Здесь мое место.
Илия удивился.
По-прежнему со смирением Митрофан добавил:
— Мне был глас: "Митрофан, не в Торжке твое место; тебя ждет земля необитаемая и жаждущая".
Чей это был голос?
— Мне говорил Незримый.
Голос Незримого
Митрофан родился в 1495 году в Торжке Новгородской губернии.
Его отец был священником. Смиренный служитель алтаря, он старался воспитать своего сына в правилах строгого благочестия. Митрофан рано научился читать и писать и еще ребенком возлюбил посещать храм, в котором он чувствовал себя отраднее всего. Он первым являлся в храм на зов церковного колокола и последним уходил из него. Детские игры и развлечения не занимали его ум. Митрофан избегал их. Он целыми днями просиживал над Священным Писанием, словно отыскивая в нем то, чего не давала ему, ребенку, и потом юноше, окружающая жизнь. В священных книгах раскрывался смысл жизни и находился ключ, отпирающий врата вечного блаженства.
Сверстники звали Митрофана позабавиться, но он отвечал отказом. Не для него-де забавы. Его звали на игрища. "Зачем я пойду туда?" — словно говорил его умоляющий взор, который он обращал на ровесников, и те мало-помалу убеждались, что Митрофан не такой как они: какой-то странный, какой-то особенный. Но этого необычного юношу никто из них не решался укорить. Его не понимали, но и не осуждали. Сосредоточенность и серьезность, не по летам отличающие Митрофана, приводили сверстников в недоумение. Отчего он такой? Какими чувствами он полон? Чем живет его чистая душа? Это трудно да и, более того, невозможно было отгадать. И молодежь отступила от него. А он этого только и хотел, хотел одиночества, которое бы помогло ему углубиться в Священное Писание и воспарить мыслью к Богу...
Отцу по душе была Митрофанова скромность и отчужденность от мирских забав. Соблазн, один соблазн эти забавы! Подальше от соблазна — лучше. Кристалл души так-то дольше сохранится, сердце больше останется не загрязненным греховными помыслами, красота внутренняя не увянет. В храме во время богослужения иерей прислушивался к пению и чтению своего Митрофана, и радовал отца его звонкий голос. В этом голосе звучали какие-то особенные нотки, чувствовалась какая-то необычайная проникновенность в чтении сыном кафизм, Апостола, часов. Когда наступало время пения, особенно "Херувимской", у Митрофана вдруг будто крылья вырастали, унося его ввысь, словно он в эти минуты видел сонм ангелов, среди раскрывшихся небес. И неземной восторг, охвативший юношу, придавал его молодому голосу неизъяснимую красоту! Блистали его глаза, румянец вспыхивал на щеках, весь трепетал Митрофан и, трепеща, разливал по убогому храму волны несказанно сладких звуков. И кого бы не захватило такое пение и не оторвало от земли и житейских забот? Отцу не легко было совладать с собою. Когда он произносил возгласы или читал молитву, слышно было, как дрожал его голос. Очевидно, слезы подступали к горлу иерея. Он возвращался после службы домой и говорил:
— Хорошо, прочувствованно, трогательно сегодня пел ты, Митрофанушка, "Хвалите имя Господне"! Слеза прошибала, когда слушал тебя.
Митрофан молчал. Только глаза его все еще блистали, только нет-нет да и затрепещет весь, как голубь или как орленок, который побывал в поднебесье и что-то видел и слышал там, чего не передать бедному словами языку...
По мере того как Митрофан рос, все его помыслы уходили все дальше и дальше от окружавшего его мира. Жизнь, как она протекала в городе, была чужда ему. И люд, населявший Торжок, нисколько не занимал Митрофана, точно он родился в какой-то другой части света, под другими небесами, среди другой природы, а сюда попал случайно и ненадолго и не понимает тут никого и ничего. Укрыться от глаз людских было его любимым делом. И Митрофан прятался в каком-нибудь укромном уголке отцовского дома, где читал, или предавался раздумью, или молился, а то уходил за город — в лес или в поле — и там опять-таки молился, читая или размышляя в дали. Он сроднился с природой, постигая глубокий смысл пустынножительства, и все настойчивее и настойчивее искал в лесных чащах и на широком полевом просторе ответы на вопросы, которые переполняли все его юное существо.
Поля, леса... Когда бы он ни приходил сюда, никого не видать, человеческая нога как будто боится ступить здесь. Там, в Торжке, люди суетятся, волнуются, горят в огне страстей и мелких забот, чаще всего из-за куска хлеба, а тут, как говорится, обок с городом и пустынно, и покойно. Птицы — одни они щебечут и поют, да насекомые жужжат, а зимою по снежным сугробам бегают зайцы, рыщут волки и лисицы. И только. Здесь хорошо созерцать небо, зажигающееся по ночам мириадами огоньков. Каждый огонек, каждая звездочка — ведь это, говорят, око ангельское... Значит, сколько там ангелов! И все они глядят на землю, и на людей, и, стало быть, на него, на Митрофана. Как хорошо! Как отрадно! Как эти ангельские очи согревают душу!..
"Но здесь, — думал Митрофан, — человеку, пожалуй, и нечего делать. Бить зверей, ловить птиц... Зачем? Проливать хотя бы и звериную кровь, неужели это может служить удовольствием для человека? Между тем как там, в пустынях Лукоморья, у Студеного океана, человек нужен, да, да, нужен, но его там нет. Там живут люди подобно зверям и некому научить их жить по-иному. Они невесть что едят, невесть кому поклоняются, и никто, никто не стремится в Лукоморье, чтобы озарить этих людей светом Христовой веры. О, Господи! как страшна их жизнь!..
Отчего они не живут осмысленной жизнью, а пресмыкаются, как гады, или бродят во тьме? Разве Ты их создал не по образу и подобию Своему? Разве Ты не вдохнул и в дикаря душу живу? Разве Ты не дал и дикарю разум? Ты дал, да. Ты дал и дикарям душу живу и разум, и образ Свой, но не уразумели они еще пути к вечному блаженству, не научились молиться Тебе, просить и благодарить Тебя, Подателя благ!.. Когда они смотрят на небо, блещущее звездами, разве они видят ангелов, разве эти звезды для них — очи небожителей? Нет... И оттого-то их души холодны, их глаза не загораются огоньками радости. Они видят небо и не понимают видимого. Небесная твердь страшит их, только страшит. В небесах они не видят Тебя, Господи! Они в страхе падают на землю при блеске молний, при громовых раскатах. Они говорят: то злой дух гневается... Но молнии и гром не оттуда ли, где Твой Престол?.. Господи, Господи!"..
Среди волн Белого моря, на острове, именуемом Соловки, в 1436 году сооружением келии для иноческого поселения было положено начало северной обители. Вскоре здесь инок Зосима построил деревянную церковь Преображения Господня, обнеся ее оградою. Эта церковь и послужила основанием для устроения будущего монастыря. Вскоре весть о новом монастыре разнеслась по Руси, и к нему стали стекаться богомольцы со всех концов государства. В 1465 году в Соловки были перенесены мощи преподобного Савватия, который первый пришел на Белое море и поселился на Соловецком острове, при горе Секирной.
Чернецы, калИки перехожие шли через Торжок в Соловки и обратно, и Митрофан не упускал случая побеседовать с ними о далеком северном крае. Увидя калИку на паперти храма или встретив чернеца на улице, Митрофан зазывал их к себе и, потчуя всем, что имелось в доме, расспрашивал о новой обители, о людях, далекий северный край населяющих, о язычниках-кочевниках, в частности. В свою очередь, побывавшему в Лукоморье паломнику хотелось поделиться впечатлениями, которые отличались яркостью или были бледнее, смотря по рассказчику. Простой горожанин не умел так складно, так красно, так щедро поделиться увиденным, как более грамотный инок или калИка перехожий, много на своем веку потолкавшийся среди разного люда, много повидавший, достаточно наслушавшийся всяких повествований, россказней и бывальщин и кое-что заимствовавший от языка краснобаев. А в тепле иерейского домика, за столом, на котором яства, угощения ради поставленные, дымятся, язык еще больше развязывался и беседа лилась без конца. Митрофан слушал чернеца или калИку и жизнь поморян рисовалась перед ним во всей полноте. Все в этой жизни было необычно, все по-иному — иной уклад, иные нравы.
Митрофан спрашивал чернеца:
— А ты, отче, в бытность свою у преподобного Савватия не видал ли лопи?
Чернец отвечал:
— Лопи-то... Нет, где ж было ее видеть! Она далече от обители. Во Христа не верует, так почто ей в святую обитель приходить? Слыхать слыхивал. Сказывали люди: живет-де та лопь нечестивая, яко "зверие дивие". Шкурой оленей прикрываются, и все токмо сыроядцы.
— И к ним в пустыню соловецкие иноки не заходят?
— Господь ведает. Может и апостольствуют.
— Не может же, отче, эта лопь пребывать всегда во тьме! — воскликнул Митрофан с какою-то горечью. — Ведь не может, скажи, не может?
Инок развел руками.
— В Писании сказано, — отвечал он. — Господь всем человеком хощет спастися, и в разум истины прийти. За всех Он пострадал и потому всем отверзает объятия Своей Божественной любви. Истинно, будет некогда день, когда все языцы обратятся к Нему, и будет едино стадо, и един Пастырь.
От калИк перехожих Митрофан узнавал больше про Поморье и поморян, правда, калИки тоже не всегда и не все видали дикую лопь, но они не останавливались перед вымыслом, которым пересыпали правду. Иным из них доводилось встречать лопарей в Москве, куда всегда тянуло калИк перехожих по той причине, что нигде они не находили столько благодетелей, как в стольном граде. За рассказ, за духовный стих калИка там получал не только обильную трапезу в боярском доме, но и ночлег на пуховой постели.
Митрофан любопытствовал: Встречался ли калИка с лопью и где?
— Доводилось, ох, доводилось, — отвечал тот, и отвечал так, как будто со словом "лопь" у него соединялось воспоминание о пережитом ужасе.
— Где встречал-то их? — допытывался Митрофан, и сердце его билось тревожно. — Не в Соловецком ли монастыре?
— Довелось и тамо-тко, — отзывался калИка. Видел я лопь, не к ночи она будь помянута, и в Москве близ великокняжеского терема.
Митрофан насторожил слух, посунулся вперед.
— Ну! Ну!
— Ну, ин, образа она звериного. Шерстью покрыта, ровно вот нежить какая. Руки длинные-предлинные, а глаза с зеленым отливом.
— Но ведь это люди, калИка, а, люди?
— Прозываются людьми, а только человекоподобия в них мало.
— И не немы ведь они?
— Какое немы — лопочут. Пристава, ин, разумеют их. Пристава, знамо, в тех местах бывали. Народ умудренный. Им не токмо лопь, они с птицей-сирином, и с той могут толковать.
— И это кривда, калИкушка, что у лопи той собачьи головы, а глаза на груди?
Беседуй калИка с какою-нибудь любопытной боярыней, он наверно бы подтвердил, что у лопи головы именно собачьи и глаза так и есть, что на груди, да даже и не боярыне, а всякому другому так бы отвечал, но подтвердить ложь относительно лопи Митрофану калИка не мог. Он не решился обмануть чистую душуотрока.
Да и не поверил бы Митрофан, солги калИка. Это чувствовал он. "Лопь — такие же, как и мы, люди, только темные, всеми забытые" — такое убеждение сложилось у Митрофана, и никто не был в состоянии разубедить его в этом. Он разузнавал все о жизни Поморья. И чем больше слышал он о дальнем крае, тем очевиднее становилось для него, что это глушь непроходимая, дикая, беспросветная. Митрофан принимал к сведению все, что ему о далеком Севере рассказывали — и правду, и сказки. Он все взвешивал по-своему. Правда знакомила его с дикою лопью, сказки сильнее заставляли задумываться над ее горьким существованием, все больше и больше сочувствуя ей. Стремление вывести дикарей на должный путь овладело всем существом Митрофана и с этим желанием он, пламенея, жил.
Но как вывести их на новый путь?
Ответ приходил тотчас из глубины любящего сердца: вывести поморян на новый путь — обратить их в христианство. О, какой это великий и действительно достойный человека подвиг — вывести ближнего из мрака заблуждения и указать ему, как надо жить в Боге! Но именно оттого, что это великий подвиг, он и страшит!.. Как приступить? Что делать? Где взять силу убеждения? Откуда почерпнуть духовную мощь и дар слова? Перед этими вопросами Митрофан останавливался бессильный...
"Апостол Павел, проповедуя христианство, производил своими речами глубокое впечатление, увлекая мысль и чувства слушателей. Святитель Иоанн по праву был прозван Златоустом. Они умели "глаголом жечь сердца людей", проповеди их служили к вящему торжеству христианской Церкви. А что могу сделать я? — раздумывал отрок. — Духом нищ и словом беден. Мое слово не проникнет ни в чье сердце и не вызовет ни в ком ни благодарного отклика, ни слез умиления, ни радости, до того не испытанной, — радости обращения к Богу".
Митрофан мучился, он рвался к добрым делам и в то же время чувствовал свое полное бессилие. А Север, далекий, глухой Север как будто бы все настойчивее звал его к себе, и дикари, казалось ему, двигаясь в темноте, протягивают руки к святым для верующего местам, где сияют величественные храмы и народ молится истинному Богу, всемогущему, всещедрому, долготерпеливому и многомилостивому. "Что делать? Как быть? Как вступить на путь проповеди Христа?" — думал Митрофан. Все, что было под рукою и что можно было почерпнуть из Священного Писания, все это Митрофан прочел, Евангелие, Деяния святых апостолов знал наизусть. Он читал и слышал о проповеди апостола Андрея на месте нынешнего Киева, о трудах равноапостольного Владимира; мучения христиан при римских императорах, иконоборство, и о них ему ведомо было. С одной стороны, запас знаний был налицо, а с другой, величие миссии подавляло. И Митрофан совершенно терялся.
Он пробовал разговаривать с отцом о проповеди христианства среди лопарей. Иерей и не подозревал, к чему этот разговор клонится, казалось, пытливый ум сына хочет охватить все, и только. Ему и в голову не приходило, что Митрофан болеет душой за каких-то там неведомых людей.
— Труден подвиг проповедника? — допытывался Митрофан.
— Знамо, труден, сын мой, — отвечал священник.
— И надо иметь для этого особенную подготовку, батюшка?
— Знамо, надо. Без познаний в Священном Писании как же можно? А паче того вера. Слово без веры в устах проповедника — камень, а не пища духовная. За верующим Сам Господь. И чем возвышеннее, чем сильнее вера, тем ближе Бог. Помогает Он верующему. Известно, что без веры ничего истинно великого не совершилось. И не совершится. Христос простых рыбарей умудрил и сделал их "ловцами человеков". Смиренных возносил Он до седьмого неба. Бывало, что и цари падали во прах. Апостол Петр — кто он был, вспомни-ка. Ну, вот, то-то!
Отцовские слова глубоко западали в полную переживаний за устроение жизни поморян душу Митрофана. "Христос простых рыбарей умудрил и сделал их ловцами человеков". Да, да... Кого Он захочет вознести, вознесет...
А между тем годы проходили, и Митрофану исполнилось 28 лет. Он порывался в холодную даль, а внутренний голос удерживал его. Митрофан слышал этот голос, он говорил ему: "Куда ты? Подвиг труден. Совладаешь ли с испытаниями?" И Митрофан опускал голову. И боль, острая боль терзала его любвеобильное сердце. Однажды, отправившись за город, ибо на душе тяжело было, он в поле вдруг слышит голос.
Митрофан встрепенулся. Кто-то говорит, а кто — неизвестно. Кругом никого не видать. Между тем голос взывал к нему: "Иди и возопи, ибо Я вспомянул вас, милуя, и обручение Моей любви не уничтожится. Иди в землю необитаемую, в которой нет путей, в землю жаждущую, ибо не ходил по ней муж и не обитал человек".
Митрофан схватился за грудь.
— Кто Ты? — спросил он с трепетом.
И послышался ответ:
— Я Иисус, Которого ты ищешь.
Митрофан устрашился.
— Владыко, Господи! Я невежда! — воскликнул он.
— Не говори против ничего, потому что на все пошлю тебя, и пойдешь, и все, что повелю тебе, станешь говорить; не бойся, ибо Я с тобою, — изрек Спаситель.
И снова все стихло.
Но в ушах Митрофана долго еще звучали эти таинственно сказанные слова... Он трепетал; какой-то особенный восторг охватил все его существо, и какая-то неизъяснимая теплота вдруг повеяла на него. "Иди и возопи... Иди в землю необитаемую, в которой нет путей, в землю жаждущую, ибо не ходил по ней муж...". Боже, Боже! Да мне ли это? Он опять оглядывается по сторонам. Нет, он один здесь.
"Меня ждет земля... необитаемая... жаждущая... меня, слабого!".. Ему вспомнились слова: Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскриляющимся. Он слышал их за утреней... Плача от радости, которую называют неземною, Митрофан опустился на колени и стал пламенно молиться. Он молился долго. "Господи, благодарю Тебя, помоги мне там — в земле необитаемой и жаждущей! Подай мне силу и крепость! Святый Бессмертный, просвети ум мой, да прославлю имя Твое до скончания живота моего!"
Возвратившись домой, он рассказал обо всем, случившимся с ним.
Батюшка, благослови меня в дальний путь! — заключил Митрофан свой рассказ.
Старый священник всплеснул руками.
— Митрофанушка, да куда же ты собрался, сынок! Нас покидаешь, старых! Куда ты?
— Туда, в землю жаждущую.
Поплакали, поплакали домашние, и отец благословил Митрофана... "Уяснив слова Господа, Митрофан стал деятельно подготавливаться к исполнению призвания благовествовать язычникам об Искупителе мира Христе. Еще усерднее стал он посещать храм Божий, остальное же время проводил в пустыне в строгом воздержании. А затем он оставил родину и пошел, куда указал ему Господь" (см.: Иеромонах Никодим. "Преподобный Трифон, просветитель лопарей"), именно в Кольскую сторону, на реку Печенгу.
С родным Торжком и благами мирской жизни он расстался навсегда.
Лицом к лицу
Приняв благословение от иеромонаха Илии, Митрофан ушел из Колы на северо-запад, по направлению к норвежской границе. Там и кочевали лопари-язычники. Митрофан знал их язык. Через леса, по болотам, дикими местами, по которым рыскали хищные звери, пробирался он, отыскивая первое кочевье.
В сумке, висевшей у него через плечо, был черствый хлеб и долбленая чашка, чтоб зачерпнуть воды из горной речки или ключа, встретившегося по пути. Долго пришлось идти. Лопари кочевали в северной пустыне на пространстве в сотни верст. Прошло несколько дней и ночей, прежде чем Митрофан увидел в горной котловине оленье стадо.
"Вот она, дикая лопь", — подумал он, и сердце его дрогнуло. Какое-то сладостное и вместе с тем тревожное чувство овладело Митрофаном и, не ощущая усталости, которая еще минуту тому назад давало себе знать, он торопливо зашагал по направлению к скучившемуся оленьему стаду. Он был уже в нескольких десятках шагов от стада, когда наконец его заметил один из пастухов, лежавший на земле. Он гикнул, вернее, как-то дико прокричал, и на этот крик отозвались несколько голосов в противоположных местах. Олени бросились бежать по направлению, откуда послышался первый окрик, и несколько мгновений спустя из-за ветвистых оленьих рогов показался человек, в звериной шкуре, прикрывавшей его с головы до ног. Он замахал руками, как бы предупреждая, чтобы Митрофан не приближался. В глазах пастуха был виден страх.
— Не бойся, не бойся, — крикнул ему Митрофан по-фински, — я друг ваш.
Слова ли родного языка или кротость, чувствовавшаяся в каждой ноте голоса незнакомца, произвели впечатление, но на угрюмом лице лопаря появилась сдержанная, непривычная улыбка, и он сам пошел навстречу Митрофану.
Это был Ильмаринен.
Встретившись лицом к лицу с пришельцем, пастух пристально оглядел его: Митрофан отличался высоким ростом, был сутуловат, окладистая борода опускалась на грудь. Из-под густых бровей его светились ласкою глаза, и если они действительно являются зеркалом души, то в Митрофановых глазах отражалась чистая и ясная душа. Изогнутый нос его резко, как будто сурово возвышался над щеками, худыми, без румянца.
Ильмаринен опять сдержанно улыбнулся.
— Кто ты? — спросил он у Митрофана, и тот отвечал:
— Я купец из Торжка и пришел познакомиться с вами. Может быть, доведется нам с вами торговые дела завести.
Тут подошли остальные.
— Вот, — обратился к ним Ильмаринен, — купец из Московии.
Двое из пастухов дружелюбно улыбнулись.
— Мы были в Москве, — сказали они, — хороша ваша Москва, хороша.
— Он назвал себя нашим другом, — продолжал Ильмаринен.
О, для друга лопарь ничего не пожалеет. Пастухи-оленеводы повели Митрофана в один из шалашей. Шалаш этот был сделан из деревьев. Одно отверстие сбоку служило входом, другое в крыше — трубой.
Там и сям на земле валялись кости оленей и остатки рыбы. Пахло гнилью и мертвечиной. Приезжему человеку тяжело было дышать этим смрадом, но лопари, по-видимому, к нему привыкли. Они равнодушно проходили мимо падали. Гниющая рыба не вызывала у них брезгливости.
Войдя в чум (шалаш), лопари принялись потчевать гостя олениной и треской. Перед Митрофаном появилась сырая пища.
— Москов ест сырое мясо? — спрашивали лопари.
Он отвечал им:
— Никогда не ел, но если это будет вам приятно, я стану есть и сырое мясо.
— А кровь оленью пьешь?
— Нет, крови не пью. И не следует ее пить.
— Твой Бог не велит тебе пить оленью кровь?
— Зачем пить кровь животного, если Бог создал реки, озера и родники, вода которых совершенно утоляет жажду!
— А мы пьем кровь оленей. Она теплая...
— Я знаю, что вы пьете оленью кровь, — сказал Митрофан, — я знаю, что вы поклоняетесь камням, горам, лесам, солнцу, луне, звездам и боготворите всякую тварь до гада болотного. Я знаю и говорю вам: вы заблуждаетесь. Есть только один Бог, и Он — истинный Бог. Это — Бог, сотворивший небо и землю, леса, камни, горы, солнце, луну, звезды, всех животных, птиц и человека. Он — единый Отец и Спаситель всех людей. Московы молятся только Ему, и благо им.
Июльский вечер медленно перетекал в белую ночь, и она таинственно спускалась над пустыней и погружала тундру в какое-то будто робкое, серебряное сияние. С каждой минутой потухали алые сполохи. На синем небе догорали янтарно-пурпурные лучи. От них по горизонту разливался розоватый свет, и, чудилось, он трепетал, как трепещет крылышком бабочка. Только в одном месте облачко, сиротливо затерявшееся в поднебесье, протянулось золотистой камкОй, подернутой сверху маковым цветом. А то сплошная синь небес. Вспыхивали тут и там звезды, вздрагивали, мигали. Луна выплыла из-за гор и точно замерла над ними. Пора бы спать. И не будь Митрофана, лопари, наверное, уж спали бы в своих шалашах и ямах, но теперь сон бежал от северных кочевников.
Окружив пришельца, этого, как он назвал себя, купца из Торжка, "дети пустыни" слушали его рассказы о житье-бытье в Московском княжестве и о чудесах святых угодников. Они слушали с напряженным вниманием, поражались чудесам, поражались и той божественной силе, которую носили в себе избранники Божии.
Митрофан не сразу перевел разговор на эту тему, а постепенно. И чем более он убеждался в том, что рассказ его захватывает слушателей, тем проникновеннее и убедительнее звучал его голос.
В эти минуты Митрофан забыл всех и все в дольнем мире, кроме слов: "Иди и возопи, ибо Я вспомянул вас, милуя, и обручение Моей любви не уничтожится". И они будто вновь звучат с небес, синих, безоблачных небес, которые вон нависли над тундрой необъятным куполом. И хорошо-хорошо чувствовалось Митрофану в эти минуты, и он готов был говорить о Творце вселенной и о святых угодниках долго, без конца. Однако на первый раз проповедник побоялся утомить слушателей множеством новых для них впечатлений и поднялся с земли, чтобы уходить.
Вдруг несколько голосов воскликнули разом:
— Куда же ты?
И грусть слышна была в этих голосах.
Митрофан отвечал:
— Я не знаю куда. У меня нет здесь пристанища. Я пришел к вам из Колы, но пора и уходить. Не у вас же мне оставаться.
Те же голоса произнесли:
— А отчего ты не хочешь остаться с нами?
— Вы разрешаете?
И радостно затрепетало сердце Митрофана.
Ильмаринен положил ему на плечо свою руку.
— Если ты добрый человек, — сказал он, — ты можешь оставаться с нами. Мы боимся "стало", а ты не грозишь и не грозил нам оружием. И говорил ты, как добрый человек. Оставайся с нами, тундра велика — всем много места в ней. Если захочешь есть, позови оленя, убей его и ешь. Бей на выбор — нам не жалко. Если захочется тебе пить... крови ты не пьешь ведь... то близко тут протекает река. Ее вода чиста и вкусна. В той реке и рыбы много. Московы едят рыбу. Мы тоже едим.
Митрофан остался среди лопарей.
Кебуны
Когда Митрофан рано утром проснулся и вышел из шалаша, то он увидел перед собою троих людей весьма странного вида. Это были старики с суровыми, очень некрасивыми лицами, которые окаймлялись острыми бородками. Серые со зловещим блеском глаза глядели из-под густых, низко нависших бровей; седые волосы беспорядочными космами выбивались из-под высоких меховых колпаков и падали на плечи стариков. Подобно лопарям, они были одеты в оленьи шкуры но только теперь почти сплошь увешанные колокольцами. Кривые ноги их прятались в больших оленьих же сапогах. На шее они носили ожерелья из мелких костей и черепков животных.
Из-за спин этих стариков выглядывали Ильмаринен и другие пастухи.
Один из стариков, что постарше, обратился к Митрофану.
— Откуда ты?
Голос его звучал глухо и враждебно.
— Разве они не сказали тебе про меня? — отозвался Митрофан, указывая на Ильмаринена и других пастухов.
Старик еще более сердито сдвинул брови и отрывисто промолвил:
— Они сказали нам, что ты купец из Московии...
— И это правда. Я купец, из Торжка.
— А зачем ты пришел сюда?
— Я пришел к вам, — отвечал на грубый вопрос Митрофан мягко, — не затем, чтобы вас обидеть. Я пришел к вам затем, зачем и ваши старшины иногда приходят к московам и новгородцам — купить соли, толокна, крупы. У вас много оленей, вот я и пришел, чтобы завести с вами торговые дела. Вы мне будете продавать оленей и шкуру их, а я вам — нужное для вас.
— А зачем, если ты купец, говорил вот с ними о своем Боге? Не торгового человека это дело. Коль ты впрямь гость-купец, стало быть, о своих торговых делах и толкуй, а ты их смущал...
Старик сверкнул глазами и смерил Митрофана недобрым взглядом; двое остальных стариков вдруг заволновались и заворчали.
Митрофан, однако, не смутился.
— Я никого не смущал, — твердым голосом сказал он, смотря прямо в глаза старику. — А что я говорил с пастухами об истинном Боге, Творце неба и земли, то разве это греховно? О Боге надо говорить тем, кто не ведает Его. О Боге надо напоминать тем, кто Его забывает.
Старик вздрогнул и выпрямился.
— Кто ты? — грозно закричал он, сжимая кулаки.
— Я сказал, — отвечал Митрофан спокойно. — Но кто ты? Тебя-то я не знаю, да и тех, что пришли с тобой, тоже.
— Я слуга богов! — воскликнул старик.
— Мы — кебуны, — добавили двое остальных.
— А, вы кебуны... Слышал, слышал я... — сказал Митрофан.
И вспомнились ему тут все рассказы, которыми удовлетворяли его любопытство чернецы и калИки перехожие в Торжке. Воскресли в памяти все басни про дикую лопь. Сразу пришли на память эти, по рассказам немало повидавших людей, люди-не-люди, "с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но без ног". "Уж не кебуны ли, — подумал Митрофан, — способствовали своим видом сочинению басен? Легко могло статься, потому что они в самом деле страшны. Словно ад изрыгнул их на пагубу людей... Вот они разгневались — и пена выступила у рта". И, обращаясь к старейшему, он произнес:
— Ты назвал себя, старче, кебуном — слугою богов. Как же можешь ты служить богам, если Бог один?
Старики, перебивая друг друга, что-то завопили. Вопли переходили, очевидно, в проклятия. Трое изуверов окружили Митрофана и готовы были растерзать его, как звери.
Ильмаринен и другие лопари, сколько их было тут, побледнели и, сами не зная как и почему, стали вдруг между Митрофаном и кебунами. Митрофан, с благодарностью посмотрев на своих заступников, на которых "служители богов" обрушились в то же время всею тяжестью своих заклинаний и угроз, между тем продолжал:
— Вы, кебуны, не сами ли создали себе богов и поклоняетесь им? И заставляете также лопь поклоняться невесть кому, и только потому, что не ищете истинного Бога.
— Молчи, пришелец! — топнул ногою старший кебун. — Молчи, иначе не остаться тебе в живых.
— Что же, я готов умереть за Господа моего, — отвечал Митрофан. — Но я бы хотел умереть не прежде, чем вас озарит свет истинной Христовой веры.
— Мы веруем в своих богов и иного бога не хотим знать. Слышишь?
— Слышу. Но благо было бы вам, если бы вы веровали в Бога, Иже на небесех, и не творили бы себе кумиров на земле. Кому вы поклоняетесь? Камням, животным, силам природы. Вы заблуждаетесь и ходите впотьмах. Сказано в Писании: не сотвори себе кумира. Не кланяйся и не служи ему. Един Бог, един Господь наш Иисус Христос, и, кроме Него, нет никакого бога.
Кебун усмехнулся.
— А бог, волнующий море и разбивающий суда? А бог, гремящий над горами? А бог, посылающий молнию? Бури, падеж оленей, ночь и день — разве их дают не разные боги? И солнце не бог? И луна, и звезды по твоему, не божества? — проговорил старик насмешливо.
— Все, что мы видим и не можем или не смеем видеть, — возразил ему Митрофан, — все создал Бог, в Которого верую я и не веруете вы. Он посылает грозу и вЕдро (ясную погоду), Он же создал и солнце, и луну, и звезды, Он повелевает миром, карает и милует людей...
— Довольно! — властным движением руки остановил его старший кебун. — Уходи отсюда... Уходи!..
Митрофан смолк. Опять, видел он, кебунами овладевает ярость. Опять руки их сжимаются в кулаки и глаза грозно сверкают.
Митрофан поклонился всем и отправился. Грустным взглядом провожал его Ильмаринен. Не виделось признака вражды на лицах и других лопарей.
— Куда ты уходишь? — спросил Ильмаринен Митрофана и осторожно положил ему на плечо свою мозолистую руку.
— Я возвращусь к вам, — отвечал тот. — А теперь я удаляюсь в пустыню.
Старший кебун схватил Ильмаринена за плечо и шипя оттолкнул от Митрофана.
С горькой обидой взглянул на старика Ильмаринен, но ничего не сказал.
Кебуны играли видную роль в жизни лопарей, которые весьма их боялись и почитали. При жертвоприношениях кебуны вели себя, как бесноватые: под звон бубнов они громко выкрикивали слова своих заклинаний, пена скоплялась в уголках их рта, зубы стискивались, волосы поднимались дыбом, глаза выдавались из орбит, сходились седые, нависшие брови, тело все кривлялось, ноги стучали о землю, ожерелья и колокольцы на одеждах дребезжали и увеличивали общую сумятицу, костры пылали, лилась кровь оленей... ужас охватывал при этом простодушных лопарей, еще более подчиняя их этим изуверам.
Едва только Митрофан скрылся из глаз, кебуны неистово набросились на лопарей и стали пугать их всякими бедами за то, что они приютили у себя человека, посягающего на их верования и предания и разрушающего поэтому весь их уклад. Грозные речи лились из старческих уст, руки обращались к небу и призывали гром и молнию на преступивших. Но синее небо не посылало ни грома, ни молнии, бесстрастно взирало оно на проклинающих и безумствующих жрецов; изуверы, они хулили христианского Бога, они прочили ужасные бедствия и — диво-дивное! — не во всех лопарских сердцах проклятия и угрозы эти ныне отзывались страшной болью и отчаяньем.
Ильмаринен слушал кебунов и уже не боялся их, как это было еще день тому назад. Угрозы их были похожи теперь в глазах пастуха на слабый отзвук далекого грома. Не страшно. Почему? Ильмаринен не мог прямо ответить на этот вопрос. Но очевидно было, что гость повлиял на внутренний мир лопаря, озарив его светом евангельской любви... Стихийная натура дикаря сразу как-то, словно воск от огня, размягчилась от кротких речей и на нее повеяло ароматом чего-то далекого еще, но достижимого... И хорошо так сделалось Ильмаринену!
Не один он почувствовал это и безучастно воспринимал грозные выкрики и проклятия кебунов; вместе с ним еще несколько лопарей слушало их точно так же.
— Убейте его, если он опять придет! — кричали кебуны.
Как эхо, отозвалось несколько голосов:
— Мы убьем его! Мы убьем его!
Ильмаринен выступил вперед:
— За что убивать москова? Он ни в чем не виноват перед нами. Напротив, он желал нам добра. Он говорил нам хорошее, он возвещал нам о Царствии Божием.
— Вы должны его убить, он смущает народ! — негодовали кебуны.
— Кого он смущает? Никого, никого, — отвечал Ильмаринен, — нет, мы не будем трогать его пока. Если же он действительно будет нас смущать, если мы впрямь найдем в нем вину, тогда и умертвим его злою смертью.
Появление Митрофана в тундре было похоже на внезапный рассвет.
Кебуны — это грозовая ночь, или, по-народному, воробьиная. Сверкает молния, будто вызывает она гром, но он где-то так далеко, что даже глухого, слабого рокота его не слышно. И тьма адская. Голоса заклинающих и грозящих кебунов — это молнии. Они хотят, чтобы с неба грянул гром и поразил нежелающих впредь ослепляться их изуверством. Но гром не раздается. А ночь, темная ночь царит кругом. Ночь невежества. И вдруг среди этого ужасного мрака начинает брезжить свет.
Рассвет...
И тает мало-помалу ночь, и слабее вспыхивает молния. Занимается утро, светлое, солнечное, румяное. Оно идет и разгоняет ночные тени. Солнце подымается со своей пурпуровой постели, и пред лицом его замирают молнии. Уже золотятся и румянятся края и верхушки гор. Уже рдеет восток алыми цветами, и все расплываются и расплываются они, все больше и больше охватывают небесный свод. Новая жизнь начинается. Ее пробуждает прекрасное утро. Гряди, благотворный свет! Слава тебе!
Как утро, разогнавшее тьму, появился Митрофан с кроткой братской проповедью. И не грозно, как кебуны, а ласково заговорил он с лопарями. И от этой проповеди повеяло на них новым, чем-то доселе неизведанно прекрасным. Не угрожал он никому, не проклинал никого и не страшил карою злых духов. А кебуны всегда только устрашают. Увещевать они не увещевают, вразумлять — не в их обычае. Они лишь пугают. Их уста никогда еще не произносили кротких, ласковых слов. Никогда! Они что темная "воробьиная ночь"...
И эту ночь хочет разогнать светлое утро — Митрофан.
Он сразу расположил к себе детские души дикарей, и кебуны почувствовали, что власти, страшной, могучей власти их над лопарями может придти конец. Ее сломит сила христианского учения. Но потерять власть... О, с этим вообще нелегко примириться! Кебуны же ни за что не расстались бы с нею. Самовольно назвали себя "служителями богов", они-де и любимцы их. Только, мол, через них, кебунов, боги возвещают лопарям свою волю. Им, кебунам, дана власть воздавать лопарям по заслугам. От кого же исходит эта власть? От каких богов? От камней, гор, гадов, птиц, зверя и прочего.
Дикаря провести легко. По-детски простая душа ко всему доверчива. Но ночь царит до тех пор, пока не заалеет восток и не проснется солнце. Вот восток заалел, вот солнце Истины проглядывает уже сквозь тьму ночную. Власть начинает уходить от жестоких кебунов, и они цепляются за нее обеими руками и не хотят выпустить,
— Смерть пришельцу! — кричат они.
Безумие!.. Как будто можно погасить свет невежеством!.. Как будто можно умертвить то, что сильнее смерти — проповедь Царствия Божия и будущего воскресения!..
Но утопающий хватается за соломинку. И кебуны хватаются за убийство, как за соломинку, могущую спасти их пощатнувшуюся власть.
Ильмаринен пожимает плечами.
— За что же смерть?..
У кебунов нет веского ответа.
За что же, в самом деле, смерть Митрофану? Что он сделал, достойное казни?
— За что же убивать невинного? — с недоумением повторяет Ильмаринен.
Кебуны молчат. Лица их передергиваются. Глаза сверкают огнем. На губах пена. Они вне себя...
"Служители богов" молчат, хотя ответ мог бы быть ясен и прост: им, кебунам, очень уж привольно живется и расставаться с этой жизнью, им не под силу!
Первые подвиги Митрофана
Митрофан шел куда глаза глядят. Не было у него убежища в этой великой пустыне, не надеялся он и встретить кого-нибудь, кто бы позвал его к себе, приютил и накормил. Но тем не менее отчаяние не овладело душой подвижника. Он знал, что это смертный грех. Не без печали удалялся он от лопарского кочевья, но без уныния. "Уныние проклято Богом, — думал Митрофан, — и, предавшись ему, воззову ли я к человеку, которого пришел найти среди мрака язычества? Предавшийся унынию, буду ли я в состоянии спасти его душу, хватит ли у меня, унылого, сил, чтобы крикнуть ему: брат, спасайся, беги из страшного мрака и погружайся в свет христианства! Открой глаза перед святыней, прислушайся к заповедям Христа!.. А ведь я пришел сюда, на крайний Север, — продолжал размышлять Митрофан, — проповедовать учение Христа. И надо проповедовать, не теряя времени. Жизнь коротка. Не успеешь сотворить доброго дела, как пресечется она. А там, в надзвездной стороне — Судия. И Он призовет к ответу, спросит: что сделал ты для спасения души своей? И не простит раба, ленивого и лукавого..."
Несколько раз оглянулся он назад, пока горные великаны не скрыли от него кочевников и их стада. Опять он, Митрофан, один. И вспомнил он, как вчера приближался к лопарям и как испугались они. А потом отнеслись к нему так приветливо, накормили, напоили. Но что главное — беседа его о служении истинному Богу не была бесплодна. Лопари не только слушали его со вниманием, но и проникались словами его проповеди. И, казалось Митрофану, зерна христианства запали в души если не всех их, то некоторых, и обещали дать полезные ростки.
Хотя бы этот Ильмаринен, — думал Митрофан, идя тундрой. — В его ль душе не вспыхнула какая-то новая искра? Он ли не выразил своего расположения ко мне? Он расстался со мною, как с другом...
Митрофан остановился.
— Куда идти? — он задумался. — Искать ли новые кочевья лопарей или возвратиться в Колу и рассказать иеромонаху Илии о ночлеге у лопарей и первой встрече с кебунами?
После некоторого раздумья подвижник решил отправиться в Колу. И опять перед ним болота, леса, дикие места, по которым рыщут хищные звери. Опять долгий, тяжелый путь. Наконец Митрофан достиг Колы. Он явился в избу к иеромонаху Илии и поведал ему все, что произошло с ним за это время. Оказалось, что в Коле уже несколько дней живут новгородские и московские купцы, приехавшие за пушным товаром в северные места. Митрофан к ним. Рассказал, что знает кочевье, где лопь отличается большим гостеприимством, его приняла как родного и не прочь завязать торговые сношения с московами.
— Им денег не нужно, — говорил Митрофан, — лопари живут в пустыне, где деньги не на что употребить. Оленей и всякое зверье они охотно выменяют на потребное для них: ячмень, крупу или толокно.
— Этим мы запаслись, — отвечали купцы. — Люди бывалые сказывали нам, что лопи надобно.
— Итак, значит, поедем к Печенге-реке? — сказал Митрофан, и вновь радость охватила все его существо.
— Надо ехать, — отвечали купцы.
Сказано — сделано.
Появились олени; вывезли балок (сани, наподобие корыта, только с верхом). Иеромонах Илия велел позвать лопаря, который жил при нем, и сказал ему, чтобы тот отвез Митрофана и троих купцов, куда они укажут. Лопарь исполнил приказ, впряг трех оленей в балок и они поехали, захватив толокна и крупы.
Митрофан сказал дорогою, что он уже не вернется больше в Колу, а останется среди лопарей, так что если этим купцам или другим, каким вздумается сюда приехать, явится какая-нибудь надобность в нем, чтобы разыскивали его близ реки Печенги. Рассказал он своим спутникам, откуда он и каким образом попал на дальний Север.
— Э, да я и отца-то твоего знаю, — сказал один из московов.
Митрофан встрепенулся:
— А неужто?
— Как не знать, — продолжал купец, — небось, попов-то в Торжке не Бог весть сколько. Наперечет все.
На оленях не то, что пешком. Переезд показался и Митрофану, и его спутникам недолгим. Балок остановился наконец в виду знакомого уже нам кочевья. Лопари выступили, глазеют: кто, мол, приехал. Жмутся в кучу в обычном страхе.
Митрофан отделился от купцов и окликнул Ильмаринена.
И все изменилось вдруг.
Лопари отозвались на оклик, Ильмаринен и еще двое идут навстречу прибывшим. Приветливые улыбки осветили их лица.
— Московы! — кричат.
— Друзья ваши! — отзывается Митрофан.
Встретились и поздоровались точно братья родные, которые увиделись снова после разлуки.
Тотчас сказалось гостеприимство.
Митрофан сообщил лопарям, зачем они к ним приехали и что привезли с собою. Кебунов не было в кочевье, поэтому беседа как потекла мирно, так и закончилась. Купцы пробыли у лопарей два дня и уехали, а Митрофан остался. Вдвоем с Ильмариненом заговорили они о том, что составляло смысл жизни Митрофана и сущность его подвига. Ильмаринен признался своему новому другу, что тот перевернул своим появлением весь его душевный мир, что он почувствовал себя после первой встречи с Митрофаном так, как будто вошел в теплую тупу (избу) с холода. Дрожь бежит по телу, но это уже приятная дрожь. Камелёк пылает — и дрожь прекращается мало-помалу, все равно как тает снег под дыханием горячего вешнего солнца...
Митрофану нечего было страшиться за свою проповедь с глазу на глаз с Ильмариненом. И он стал излагать учение Христа. Словно кристальный поток неудержимо несущийся с горы, лилась его вдохновенная речь и не очаровывала, нет, а пленяла она северного дикаря: Ильмаринен жадно ловил слова проповедника, и сердце его растоплялось и билось какой-то особенной радостью, "Нелегко ум, отупелый от неподвижности привычек, загрубелый от копоти суеверий и страстей, навести на стези света и истины — говорит святитель Филарет Московский. Еще труднее заставить сердце разорвать связь с привычками, заблуждениями, с нажитыми привязанностями, с застарелыми пристрастиями".
Но, очевидно, ум Ильмаринена не отупел и не загрубел от копоти суеверий и страстей. Годами наживались привязанности, казалось бы, должны были застареть в лопаре и "пристрастия", но горячее, искреннее, вразумительное слово проповедника лишь зазвучало — и уже попало в цель, всколыхнув сокровенные струны сердца. Митрофан учил, как надо жить, как хранить добрые нравы и каким путем идти к вечному блаженству. Ильмаринен слушал, трепетал, а в глазах у него дрожали слезы — чистые, прозрачные, как утренняя роса, слезы. Пришли другие лопари. Митрофан продолжал говорить о Боге, о распятии и Воскресении Христа. На другой день тоже. И так вся история спасения человеческого рода раскрылась перед дикарями. Любовь, везде и во всем любовь. Все учение построено на высшей, святой любви и кротости. О, как оно не похоже на предания, которыми питают их, лопарей, кебуны! Эти предания кровавы. В них месть, месть, месть... Месть и гнев богов на каждом шагу, ни кротости, ни прощения, ни любви... Митрофан остановился.
— Ты говорил, друг, и чудилось мне что-то хорошее, отрадное, — взволнованно проговорил Ильмаринен.
Митрофан взял его за руки.
— Брат мой, скажи, что именно почудилось тебе? — радостно воскликнул он.
— Не знаю что, — отвечал Ильмаринен, — но словно тяжелый, тяжелый камень давил мне душу, а теперь он отпал и легче стало дышать.
— Уверуй в истинного Бога, брат мой, — сказал Митрофан, — и тогда вздохнешь совсем уже полной грудью. Теперь душа твоя опутана суевериями и языческими заблуждениями. Став христианином, ты тотчас растопчешь их, как смрадного гада, и глазам твоим откроется то, что ты не в состоянии узреть, пока пребываешь в язычестве. Поклоняясь идолам, ты, однако, чуешь истинного Бога. Ты как бы сквозь смрад идолопоклонства почувствовал благовоние христианства. О, мой брат! Ничтожны ваши идолы, ибо бесчувственны они. И кебуны обманывают вас, когда грозят вам карой этих обожествляемых камней, гор, пресмыкающихся, птиц и светил. Бессильны ваши боги приносить добро или зло. Отвернись от них и приими, слышишь, приими единого Бога, Господа нашего Иисуса Христа!
Ильмаринен слушал его, опустив голову. Только при последних словах Митрофана он поднял ее, и Митрофан видел, как пылают щеки лопаря и блестят глаза его.
— Ильмаринен! Ильмаринен! Друг мой! Брат мой! — взывал Митрофан.
Но тот молчал, будто не слышал его. Вот он обратил на Митрофана пытливый взор и долго смотрел, потом окинул таким же взглядом лопарей и опустил голову.
— Ильмаринен, ты молчишь? — спросил Митрофан с тревогой.
Ильмаринен глубоко вздохнул, но опять ничего не сказал. По-видимому, в нем происходила борьба. Тьма боролась со светом... Противоположные внутренние голоса спорили друг с другом и он прислушивался к ним. Казалось Ильмаринену, что в душе его вдруг вспыхнул огонь и хочет очистить ее от той тины, про которую недавно упоминал Митрофан. "Что же, будет больно или нет? — думал лопарь. — Как-то совершится очищение, если это очищение?"
Митрофан было начал:
— Ильмаринен...
Но тот устремил на него умоляющий взгляд и сказал:
— Нет, не говори, ничего не говори! Довольно. — И, быстро поднявшись с земли, пошел от толпы.
— Куда ты? — воскликнуло одновременно несколько голосов.
— Я вернусь, вернусь, — отвечал не оборачиваясь Ильмаринен и удалялся к темневшим в полутора-двух верстах горам.
Все смотрели ему вслед с изумлением.
— Что ты сделал с ним? — прозвучал один укоризненный голос.
— Москов, москов!.. — как эхо, отозвались другие.
Митрофан произнес:
— Я ничего дурного ему не сказал. Я указывал ему жизненный путь. Что я говорил Ильмаринену, то же самое ведь говорил и вам. Вы слышали. За что же укоряете меня?
Старый лопарь угрюмо отвечал:
— Не все тебя слушали...
— Ты не слушал?
— Нет.
— Послушай, я начну снова.
— Не надо!
Старику вторили несколько человек:
— Не надо, не надо.
— Уходи от нас, — сурово молвил старик.
— За что ты гонишь меня? — спросил Митрофан.
— Мы не хотим знать тебя. Ты притворился добрым, но ты — как Нойда-чародей, враг наш. Ты погубил Ильмаринена. Он был хороший пастух. Да, ты похож на колдуна. Уходи поэтому от нас, а то мы убьем тебя. Уходи.
Митрофан, не желая раздражать лопарей, удалился. Он направился в ту же сторону, куда пошел и Ильмаринен. Тревога запала в его душу. Митрофан думал о том, что это вдруг сделалось с Ильмариненом и как объяснить его молчаливый уход. Неужели он погибнет? Но из-за чего? Какие думы вдруг овладели пастухом? К какому решению они приведут его? Митрофан искал глазами Ильмаринена и не находил. Он окликнул его — тот не отзывался. Где же он? Куда он делся?
Раздумывая таким образом, Митрофан дошел до реки. Это была Печенга. Она бежала, образуя вдоль своего пути заливы и островки, на которых обитало множество птиц — морских попугаев, величиною с голубя, с пушистым белым брюшком, черными спинами и крыльями и красными ножками... Леса по берегам тянулись зелеными морями, перемежаясь полянами, и всходили на горы, верхушки которых то более, то менее острые, походили на монашеские скуфьи. Митрофан переправился через реку и, ступая по густой траве, пестревшей цветами, пошел к высочайшей из гор. Когда он дошел до нее, то увидел пещеру. Она чернела в горе, как пасть. "Не сюда ли укрылся Ильмаринен?" — мелькнуло в голове Митрофана. Он вошел в пещеру. Пусто. Ни души. Митрофан сел на камень и осмотрелся. Пещера была невелика. На земле лежали сучья, обгорелые и просто сухие; по-видимому, сюда заходили иногда лопари. "Какая тишина кругом!" — подумал Митрофан. Пустыня, необъятная пустыня да бледно-синее небо. И эта тишина и пустыня напомнили Митрофану окрестности Торжка.
Сердце дрогнуло. Как будто вдруг теплом повеяло из далекого отчего дома. Старик-отец вот точно стоит перед Митрофаном и плачет, провожая его в даль неведомую. И весь Торжок словно открывается с площадями, базаром, храмами. Жизнь течет, хотя и суетная, а все-таки жизнь. В церквах слышится чтение Священного Писания. Поют певчие. На молящихся глядят строгие лики святых. А здесь!.. Пустыня — голая, дикая... Из церкви выйдешь, слепцы у паперти сидят и так-то стройно поют. Сердце надрывает их пение — это правда, однако сколько великого смысла, сколько красоты в духовных стихах, которые они поют! Или калИка перехожий попадается навстречу. Попроси — и чего только он ни расскажет! Ведь каких только людей калИка не видал, где только он не бывал... Там, в Торжке, есть, с кем душу отвести, есть, от кого уму-разуму набраться, тогда как здесь...
Митрофан вздохнул.
— Один я здесь, — продолжал он размышлять, — один. И нужен ли, впрямь, я тут? — и, сказав это, он содрогнулся. Маловерный! — укорил он себя, — в отчаяние впадаешь, в уныние.
И Митрофан упал на колени.
— Господи, прости меня и подкрепи, дабы мог я творить волю Твою. Ты восхотел, Господи, послать меня в землю необитаемую. Подкрепи меня. Господи. Помоги мне. Не отврати лице Твое от этих людей пустынных. Да познают они Тебя, единого истинного Бога.
Он стал молиться. Бежали часы, а Митрофан все молился. Был день. Погас. Вечер уже переходил в ночь. Луна взошла над пустыней. Ночные тени стлались по уступам гор и ползли по тундре наподобие каких-то огромных чудовищ. Митрофан продолжал молиться, не чувствуя усталости. И, углубясь в молитву, снова, как бывало, отрешась от мира, не слышал он, как кто-то неслышно приблизился к нему и положил ему на плечо свою руку. Митрофан очнулся. Он быстро поднялся на ноги и обернулся.
Около него стоял Ильмаринен. Лицо лопаря сияло.
— Ильмаринен?! — в то же мгновение воскликнул изумленный Митрофан.
Ильмаринен торопливо, точно виноватый, опустился на колени и прерывающимся от волнения голосом проговорил:
— Митрофан... я... я хочу молиться... с тобой... вашему Богу.
И, обхватив колени его, лопарь стал целовать Митрофановы ноги. Митрофан поднял его и, обнимая, облобызал. Хотел сказать — не может, язык не повинуется. А Ильмаринен в это время, уткнувшись в него, всхлипывал. От чего? От радости, от переживаемого восторга!
Когда волнение немного поулеглось, Ильмаринен заговорил:
— Митрофан, я слушал тебя давеча. Ты говорил о своей вере. И я поддавался силе твоих убеждений. В душе моей вспыхнул тогда огонь и сжег всех идолов, которым я до тех пор поклонялся. Грозны и немилостивы наши боги. Многомилостив ваш Бог.
— Но, Ильмаринен, и Господь наш Иисус Христос взыщет с нас за все и всем воздаст по делам их.
— Да, так, Митрофан, но ваш Бог, ты говорил нам, справедливый Судия. Стало быть, за добро Он и воздаст добром, от своих же богов что мы видим? Итак, научи меня молиться истинному Богу и еще раз вразуми, как надо жить, чтобы угодить Богу.
— Брат мой!.. — обнимая его, только и мог выговорить Митрофан.
— Да, отныне я брат твой, — отвечал Ильмаринен, — и пока я жив, я твой друг и защитник. Всякую обиду, всякое поругание снесу за тебя. Понадобится умереть — и умру. Будем, Митрофан, делить с этого дня и горе и радости пополам.
Они провели в разговорах всю эту ночь в пещере, а утром пошли в кочевье. Не было границ радости лопарей, когда они увидали своего сородича. И Митрофана встретили приветливо. Даже старик, который накануне гнал Митрофана, и тот радушно поздоровался с ним.
Лопари думали, что Митрофан спас Ильмаринена от гибели и привел к ним.
— Ты нашел его, москов, — сказал старик.
— Да, я обрел его, — загадочно отозвался Митрофан и взял Ильмаринена за руку.
Но радость лопарей сменилась изумлением, как только торжественный, сияющий Ильмаринен объявил, что отныне он не будет поклоняться идолам, так как уверовал в истинного Бога, Которому молятся московы и новгородцы. Поднялся крик. Старые и молодые — все кричали наперебой неведомо что. Наконец, суровый старик подошел к Ильмаринену и сказал не то с укором, не то с сожалением:
— Что ты делаешь?
— Я уже сделал, — отвечал Ильмаринен.
К Митрофану тем временем подступили несколько человек, угрожая ему палками.
— Не трогайте его! — закричал на них Ильмаринен. — Если вы дотронетесь до него, я уйду от вас навсегда. Слушайте: что я сделал, сделал это по доброй воле. Мой отец и дед поклонялись сайде (священным камням) и верили в таинственную силу кебунов. И я поклонялся тоже и верил. Но Митрофан убедил меня, что я бродил впотьмах, раскрыл мне глаза и показал, Кто истинный Бог и объяснил, как надо молиться Ему и жить по Его заповедям. Я, как березка под хвиюсом, склонился со своими верованиями перед убежденным словом Митрофана. И я уверовал в Христа. Вот и все... Если вы не хотите больше знать меня, скажите это сейчас, и я уйду от вас далеко. Ну?..
Все стихло. Все молчали, переглядываясь между собою. Не знали, что сказать Ильмаринену. Растерянные взгляды лопарей встречались, но уста онемели.
Несколько минут длилось молчание. Наконец один из лопарей, молодой пастух, прервал его, сказав:
— Мы все любили тебя, Ильмаринен, и всегда считали умным. Мы слушались твоих советов и верили в твою правдивость. Теперь вот ты отшатнулся от веры отцов и хочешь веровать в Бога московов. Не мне судить тебя, Ильмаринен, за то, что ты сделал. Одно скажу: если ты сделал худо, наши боги тебя накажут. Слышишь? Уходить же от нас... зачем тебе уходить? Мы не кебуны. Кебуны могут говорить с тобою о душе твоей, а мы будем с тобою по-прежнему вместе пасти оленей. Ведь ты останешься добрым лопарем и не будешь обижать нас?
Митрофан отвечал за Ильмаринена:
— Бог не только запрещает обижать кого-либо, но повелевает даже и обидчиков прощать.
— Слышишь? — добавил Ильмаринен.
Четыре пастуха вдруг отделились от кучки и стали около Митрофана и Ильмаринена. Казалось, они хотели таким образом выразить свое сочувствие им. Старик сверкнул на них глазами и что-то прошептал.
— Кебуны идут! — крикнул кто-то.
Жрецы подошли.
Присутствие Митрофана вызвало у них негодование. Опять москов здесь. Как, даже угрозы на него не подействовали? Он даже смерти не боится. Или опять он прикидывается купцом?
И старший кебун спросил надменно:
— Что, ты пришел опять покупать?
Не успел Митрофан ответить, как послышался насмешливый голос старика-лопаря:
— Москов купил много: он купил Ильмаринена.
Старый кебун отшатнулся:
— Как Ильмаринена? — тараща глаза, удивленно проговорил он.
— Ильмаринен перешел в его веру и будет отныне молиться Богу, Которому молятся московы, — так же насмешливо вымолвил старик-лопарь.
Как-то дико взвизгнул старый кебун. Двое других кебунов, взмахнув суковатыми палками, ринулись на Митрофана. Ильмаринен побледнел, как смерть, сделал шаг на защиту его, но в это время несколько крепких рук схватили его сзади, и лопарь упал. Кебуны с ругательствами били Митрофана.
— Друг!.. Брат!.. — взывал Ильмаринен к лопарям. — Заступитесь же за Митрофана! Спасите его!
Ни крика, ни стона не издал воин Христов. Он кротко, покорно сносил побои.
— Убьем его! — кричали изуверы кебуны.
— Убьем его! — кричал старик-лопарь.
— За что же? За что? Нет на нем вины! — воскликнул Ильмаринен.
Он вскочил на ноги и с невероятной силой оттолкнул от Митрофана кебунов.
— Смерть и вероотступнику! — вскричал старший кебун.
— Смерть им обоим! — повторили лопари, но не все. Четверо, что давеча отделились от кучки, встали между избивающими и Митрофаном с Ильмариненом.
— Им смерть — и нам тоже! — крикнули они. — Убейте и нас!..
Кебуны как будто окаменели. Ушам своим не верят. Так говорят лопари?! И остальные лопари поражены. Какими такими чарами обладает Митрофан, что покоряет сердца? Знать, и в самом деле велик и могуч Бог Русской земли. Что сталось с пастухами? Что вдруг восчувствовали их сердца? Какую весть принесло им Митрофаново сердце?
И пока одни точно остолбенели, а другие, раздумывая, диву давались, Митрофан с Ильмариненом ушли в горы.
Злое дело
Кебуны не могли простить Митрофану обращения Ильмаринена в христианство. Поведение четверых других лопарей, явно сочувствующих Митрофану и Ильмаринену, привело языческих жрецов в смятение. "Если так пойдет дальше, — думали они, — мы останемся одиноки или с дряхлыми, доживающими последние дни стариками, и что тогда станем делать?!"
Кебуны собрались на совещание и долго обсуждали, как теперь им быть и как поступить с "возмутителем", явившимся ни с того ни с сего из Торжка. Кто его звал? Зачем он тут? И кебуны решили, что Митрофана лучше всего убить.
— Сами это сделаем или повелим пастухам? — спросил один из кебунов. Старший отвечал:
— Пусть убьют его пастухи.
Решение было объявлено пастухам, но как изумились кебуны, когда на их повеление пастухи отвечали, что, мол, не за что убивать Митрофана. Таков был ответ большинства лопарей. Почва поколебалась под ногами жрецов. Попробовали они, по обыкновению, действовать угрозами, страхом и обещаниями идольского мщения, но это ни к чему не привело.
Молодой лопарь сказал:
— Убить Митрофана легко, но я не вижу вины на нем. Если наша вера настоящая, а вера москова нет, вы, кебуны, докажите это. Вызовите Митрофана на спор и докажите, что он заблуждается. Если он будет посрамлен, тогда мы изгоним его отсюда навсегда, а Ильмаринен опять станет приносить жертвы сайде (священным камням) и чтить вас, жрецов.
— Это ты хорошо придумал, — сказал другой лопарь, обращаясь к молодому.
Согласилось и большинство.
Кебуны долго колебались, подчиниться ли воле большинства и вызвать Митрофана на спор или не вызывать. Положение не из легких. С одной стороны, отказаться от спора — это значит показать свое бессилие в вопросах веры перед московом, а с другой — как вызывать Митрофана, как начинать с ним спор, если заранее предчувствуешь свое поражение? Однако надо было решаться на что-то. И кебуны после долгих размышлений согласились на спор. В глубине души каждого из них теплилась робкая надежда на то, что и Митрофан шаток в своем учении и что удастся сбить его. Главное, думалось жрецам, молод он. А молодость часто не столько опирается на познания свои, сколько на задор.
Митрофану передали вызов.
— Докажи, что твоя вера правая, а наша нет, и мы все, сколько ты нас видал, уверуем в твоего Бога. Если же ты не сумеешь доказать этого, то удались от нас навсегда. Мы хотим жить в мире и покое и не желаем проливать человеческой крови. Но если ты будешь смущать нас, мы должны будем, исполняя волю богов, убить тебя.
— Я говорил, говорю и буду говорить всегда, — отвечал Митрофан, — что единая истинная вера есть вера христианская. Верующий во Христа спасется. Пусть ваши кебуны докажут, что я лгу, пусть же они выступят против евангельского учения и попробуют опровергнуть его. Я готов встретить их, старых, умудренных опытом и будто бы беседующих с богами... Я стану защищать Христову веру, а они пусть говорят в защиту идолопоклонства. Правда не тонет. И она скоро всплывет, и вы убедитесь сами, что заблуждаетесь все и что спасение и блаженная жизнь за гробом ждет тех, кто живет по заповедям, да, по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Я один. Кебунов трое. Итак, пусть они доказывают мое заблуждение...
Начался спор. Кипя ненавистью к кроткому, изливающему любовь проповеднику, кебуны тщетно старались превзойти его в споре. Митрофан был спокоен и уверенно доказывал их неправоту. Присутствующим лопарям становилось ясно, на чьей стороне победа. Их кебунов посрамляет молодой москов! И они пресекли спор.
— Ну что, видите теперь, чья правда? — говорили кебуны, обращаясь к лопарям.
Те молчали.
И это молчание красноречивее всяких слов говорило языческим жрецам, что владычеству их над умами доверчивых "детей тундры" приходит конец и что евангельское учение овладевает ими. Оставшись одни, кебуны решили избавиться от соперника. Убить его — и делу конец. План быстро созрел в старческих головах, оставалось теперь привести его в исполнение. Кебуны обдумывали, где им убить Митрофана. Наконец решили выследить, где он спит ночью, когда уходит от лопарей.
И они стали следить. И выследили.
— Митрофан проводит ночи в пещере, которая темнеет посредине пахты (горы), высящейся за рекой Печенгой.
— В пещере и убить его!
Но как? Кому убить Митрофана?
Решено: втроем пойдут они, кебуны, к пахте и, выждав, когда Митрофан останется один, покончат с ним.
Наступила ночь. Жрецы крадучись направились к пещере. Уходя от лопарей, они узнали, что Ильмаринен в настоящее время находится около оленей. Стало быть, москов один, и с ними троими ему не справиться. Осторожно ступая, они добрались наконец до пахты. Вон и пещера. Надо узнать, спит или нет Митрофан. Если он спит, то расправа с ним будет коротка. И троим тут нечего делать. Кто-нибудь один войдет в пещеру и сильным ударом оглушит спящего. А потом — только добить. Но если москов не спит, в таком случае придется всем им напасть на него, иначе для них самих дело может кончиться худо.
Старший кебун подполз к пещере и заглянул в ее отверстие. Заглянул и невольно отпрянул: стоя на коленях, спиной ко входу, Митрофан молился перед крестом, который висел на стене. Молящийся даже не обернулся, так он углубился в молитву. Кебун подал знак своим, чтобы они как можно тише подкрались. Лишь только два младших кебуна приблизились, старший кивнул им, и втроем они с криком ринулись было в пещеру, но тут же, у входа, упали и забились в судорогах. Увидал их Митрофан и удивился.
— Зачем вы здесь? — спросил он их.
Ответа не было. Несчастные лежали уже без движения, точно мертвецы.
— Зачем вы здесь? Что с вами? — испуганно и вместе с тем участливо произнес Митрофан.
Вместо ясного ответа послышались стоны. Кебуны шарили около себя руками, что делают обыкновенно слепые, когда ищут что-нибудь. Они хотели и, очевидно, не могли ничего сказать. Силятся подняться с земли — тоже невмочь. Митрофан вышел из пещеры и недоумевающе смотрел на стариков. Главный жрец что-то пробормотал, обращаясь к Митрофану. Тот не понял ничего, но наклонился и помог ему стать на ноги. Кебун зашатался. Митрофан поддержал его. Из старческих глаз кебуна закапали слезы, он воздел руки и заговорил что-то, прерывисто, запинаясь. Ясно было, что язык ему не повинуется.
Свершилось между тем дивное событие: Бог покарал нечестивых, злоумышлявших на жизнь ни в чем неповинного человека.
Митрофан понял наконец, что произошло за его спиной в то время, как он стоял на молитве, и стал просить Бога смилостивиться над кебунами не ведающими, что они творят. Он еще молился, а они уж могли стоять на ногах, хотя ноги их то и дело подкашивались. Зрение вернулось к жрецам, вернулась способность говорить.
Жрецы сперва со страхом смотрели на "таинственного" москова, а потом этот страх сменился какою-то покорностью. Эта покорность напоминала покорность хищного зверя, который долго проявлял свою страшную силу и в конце концов должен был все-таки покориться человеку.
— Вы пришли сюда... — начал Митрофан.
Главный жрец прервал его и с какой-то горечью вымолвил:
— Убить тебя.
И опустил он свою седую голову.
Морщинка вдруг упала между Митрофановыми бровями, и дрогнула его нижняя губа. "Они приходили, чтобы убить меня. Бог не попустил. Но что я сделал им дурного? Неужели проповедь истины не может быть совершаема без кровопролития и смертей? Неужели человек должен стать убийцей, чтобы в конце концов все-таки преклониться пред величием христианства и стать овцой стада Христова?"
С нескрываемой печалью взглянул Митрофан на своих врагов и только промолвил:
— Идите туда, откуда вы пришли. Идите с миром.
И, поклонившись кебунам, он воротился в пещеру и снова стал молиться. Теперь он уже благодарил Бога за свое спасение.
Слабой походкой, точно после продолжительной болезни, направились кебуны от пахты. Ночь еще не начинала таять... Еще ветерок, предвестник утра, не летал над тундрой, которая спала мертвым сном пустыни. Кебуны возвращались к лопарям, подавленые только что происшедшим. Неудача мало того, что угнетала их, но также и страшила. "Что может быть, — думали они, — когда лопари узнают об этом? Не повредили ль мы сами себе? И, в свою очередь, Митрофан не отомстит ли нам?"
Такие и подобные мысли приходили в голову каждому из жрецов, и трепет овладевал ими все сильнее и сильнее по мере того, как они приближались к лопарскому кочевью.
Они вошли в свою палатку, куда обыкновенно никто из посторонних не входил, улеглись на оленьих шкурах, но долго не могли заснуть. Страх за последствия неудавшегося убийства гнал прочь от них сон. Кебунам казалось, что если они уснут, Митрофан подкрадется и убьет их, то есть отмерит тою же мерою, какою они мерили ему.
Ночь проходила, но никто вообще не являлся. Страх как будто стал затихать. Брала свое усталость. Мало-помалу кебуны начали погружаться в дремоту. И, наконец, заснули.
А в это самое время Митрофан молился за врагов своих. И никто не узнал, даже Ильмаринен, никому из лопарей не сказал Митрофан, что произошло в эту ночь.
Ночь ушла и унесла свою тайну...
Божие дело
Лет 15 прошло с тех пор, как Митрофан поселился в Лапландии. В течение этого времени ему удалось многих обратить ко Христу, а во многих поколебать веру в могущество и власть кебунов. Лопари все больше и больше убеждались, что Митрофан желает им только добра и что единственною целью его проповеди служит желание просветить их и помочь осмыслить им их существование. Число друзей и приверженцев его росло и росло. Располагали лопарей к Митрофану его смирение и любвеобильное сердце.
Область его проповедничества все увеличивалась и, вместе с тем, росло число отступников от язычества. Митрофан трудился, не зная устали, опасаясь, чтобы ни один день не пропал даром. Лопари приходили беседовать к нему вразумляться; он же разбирал и всякие недоразумения, возникавшие среди уверовавших во Христа лопарей. Во многом ему помогал Ильмаринен, который глубже других проникся христианством и толково разъяснял своим соплеменникам, как надо поступать в том или другом случае. Но хотя сторонников нового учения насчитывалось уже немало, однако и язычников оставалось еще очень много. Не у всех лопарей доставало мужества отречься от веры отцов и отвернуться от кебунов.
Жрецы еще властвовали над большинством.
Однажды летним вечером проповедник христианства плыл на утлой ладье по Нявдемской губе. Светлые, чистые воды ее бежали меж гористых то зеленых, то серых берегов к острову Шалима. С Ледовитого океана дул ветерок и подталкивал ладью. Митрофан плыл к лопарям, кочевавшим по этому острову, чтобы побеседовать с ними, как вдруг он видит — на горе Акко собралось множество лопарей. Шум от их голосов разносится далеко вокруг.
Акко возвышалась над островом. Ее вершины уходили в синюю высь, туда, где парЯт только орлы.
Митрофан вздрогнул.
"Что это, — подумал он, — они собираются приносить жертвоприношение?!" В толпе лопарей он вскоре заметил тех, которые поколебались в своей вере под влиянием его, Митрофановой, проповеди. И вот теперь, увы, они опять поддались власти кебунов?..
Он налег на весла и торопливо поплыл к острову.
Остановив неподалеку от берега лодку, Митрофан стал смотреть на происходящее, ожидая, что же будет.
Между тем пять лопарей подвели кебунам по оленю. В руках у жрецов сверкнули ножи, хорошо отточенные. В ту же минуту зажглись пять костров. Вокруг них стали лопари. Послышались серебряные, будто дробящиеся звуки. То жрецы ударили в бубны. Дикий окрик вырвался из уст одного жреца, был подхвачен другим, третьим, и тотчас повторился. В оленьих шкурах, поверх которых болтались разноцветные лоскутки с привязанными к ним колокольцами, кебуны стали притоптывать, взмахивать руками, опускать их и кружиться. Выкрики все учащались, кебуны начинали неистово кружиться, колокольцы звенели, бубны звучали, а костры разгорались. И толпа лопарей мало-помалу притихала, словно она оцепенела.
Митрофана передернуло от такого зрелища. Не раз он говорил лопарям, что эти жертвоприношения не нужны, нелепы, ужасны и что они выгодны исключительно для жрецов, но "дети пустыни" все-таки не могли отказаться от пролития оленьей крови...
Неистовство кебунов уже достигло крайнего предела. Старший из них что-то выкрикнул, каким-то стоном отозвались остальные, и вдруг все они кинулись к оленям; ножи сверкнули в воздухе около шеи каждого из пяти оленей. Кровь хлынула из зарезанных животных, забила фонтанами. Еще трепещущих оленей кебуны подхватили с помощью прислуживавших им лопарей и бросили на костры. И сами снова завопили, завыли, забесновались.
"Господи! Господи!" — произнес Митрофан и, подняв правую руку, перекрестил гору Акко...
Вдруг будто гром глухо пророкотал.
Миг — и толпа ахнула, поверглась ниц. На Акко чудесным образом отпечатался крест...
Митрофан сошел на берег.
— Вставайте! Не бойтесь! — обратился он к толпе.
Лопари понемногу пришли в себя. Видят пред собою Митрофана, и не видят ни кебунов, ни пылающих костров. Где они? Ищут глазами жрецов и не находят. Точно в воду те канули.
— Где кебуны?
— Вот что сталось с вашими кебунами, смотрите! — говорит Митрофан и показывает на камни, лежащие там, где только что бесновались жрецы.
— Где костры?
— От костров только пепел остался.
— Так быстро это произошло?!
— Дело Божие.
Толпа пришла в смятение. Дело Божие — чудесное дело. Но чудо совершилось так неожиданно, так быстро, что никто не успел опомниться. Митрофан успокоил лопарей. "Бог покарал жрецов, — говорил он им, — за их обман и изуверство. Отныне вас некому обманывать. Веруйте в Бога единого, возлюбите Его и ближнего своего".
Толпа, не спуская глаз с него, слушала его, и Митрофан проповедовал христианство, горячо убеждая и наставляя в вере собравшихся.
А на горе Акко сиял чудесно запечатлевшийся крест.
Митрофан в Новгороде
Итак, община уверовавших во Христа лопарей уже стала значительной. Пришло время принять им и Святое Крещение, но кто мог совершить его? Митрофан не имел иерейского сана, да и священника поблизости не было, поэтому принято было решение отправиться в Новгород, чтобы просить владыку прислать иерея на Север. Вместе с тем надлежало позаботиться и о постройки церкви в "прегорчайшей пустыне". Таким образом, возникал еще вопрос о найме плотников, при этом Митрофан имел в виду плотников-новгородцев, которые, как известно, славились своим искусным мастерством.
Историк И.М. Снегирев так описывает зодчество того времени: церкви строились каменные и деревянные, без печей, холодные, более одноглавые, о двух и трех верхах и пятиглавые, с некоторыми отступлениями от древнего стиля зодчества, но с точным соблюдением древней церковной символики. Своды в церквах делались крестовые, стрельчатые, купольные, без столпов и на четырех столпах; твердые стены их с железными связями состояли из квадратных камней или веских кирпичей. Наружность их украшалась узорчатым орнаментом, а также образцами, кои заменяли на севере мозаику. Стенные окна церквей были в один свет, как и в предшествующем (то есть XV) веке, высоко от полу, длинные, узкие, косящатые, со слюдяными в железных и жестяных переплетах оконницами; как в окнах, так и в дверях церковных удерживался то готический стиль по сочетанию пересеченных дуг, то мавританский, соединяющий два каблучка, сходящиеся мысом. Потолки и своды между железными связями слагаемы были из глиняных кувшинов, или горшков. На церковных главах, под крестами, по большей части четвероконечными, ставились полумесяцы, которые обыкновенно изъясняются как символ победы креста над луною или как памятник свержения монголо-татарского ига, а по толкованию преподобного Максима Грека, преобразуют высоту крестного восхождения Христа [1].
Отправился Митрофан в Новгород...
Лопарская община провожала его без печали, зная, что добрый наставник москов скоро воротится назад и привезет с собой владычные милости. Конечно, как всякое расставание, и это было овеяно грустью. Но не тяжела была печаль. Лопари были убеждены, что недолго им оставаться без наставника. В свою очередь, благословив общинников, Митрофан просил их об одном: не слушать кебунов, не страшиться их гнева, если жрецы откуда-либо появятся и, пользуясь отсутствием его, вздумают увещевать лопарей возвратиться к язычеству. Общинники обещали, клялись Митрофану, что никому уж не смутить их и что крепка их привязанность к христианству.
Митрофан уезжал поэтому, не опасаясь за жизнь общины.
Ильмаринен, который очень полюбил его как старшего брата и всюду следовал за ним, подобно тени, не захотел оставаться в тундре без наставника и друга и попросил Митрофана взять его с собой в Новгород. Напрасно тот указывал лопарю на то, что его присутствие необходимо в общине. Ильмаринен стоял на своем.
— Ты тверд, брат мой, — говорил ему Митрофан, — ты можешь влиять на более слабых своим примером, ты в случае чего можешь поддержать поколебавшегося. Твое слово, при надобности, может удержать другого брата от тяжкого греха. Останься в тундре. Напоминай братьям в мое отсутствие обо мне, который, мол, отправился в Новый-город ради нашей же общинной пользы.
Не помогали слова Митрофана — Ильмаринен все-таки стоял на своем.
— Я не останусь без тебя, брат, — отвечал он Митрофану, — я затоскую по тебе и умру.
И лопарь говорил это таким искренним и грустным голосом, а в глазах его, ясных как вешнее утро, светилась такая мольба, что Митрофан не мог не согласиться и взял его с собой.
Далеко, вплоть до Колы, проводили их общинники. Митрофан с Ильмариненом стали мало-помалу выбираться из "прегорчайшей пустыни". До Новгорода путь неблизок. Но каждый новый день, каждая следующая ночь приближали Митрофана и его спутника к славному городу. С каждым днем все больше и больше веяло на них "новгородским духом", духом люда промышленного и предприимчивого. Чем-то сказочным представлялся Новгород в воображении лопаря. Ильмаринен много слышал о нем; "чудеса да и только" — говорили об этом городе все, кто хоть раз в нем побывал. Не город, а царство всякой благодати. Красота, диво-дивное. В храмах Божиих благолепие. Стоишь за богослужением, ровно вот не на земле ты, а на небесах. И поют не люди, а Ангелы. "Взглянуть бы на все это хоть одним глазом, — думал Ильмаринен, — возликовать, и ликуя взлететь до неба, а потом жить этими впечатлениями и умереть с ними там, на далеком Севере, где ни городов с сияющими храмами, ни сладкогласного пения, ни жизни кипучей, но дремлют леса на мрачных высоких горах, воют ветры, грозятся метели да лежат снега большую часть года".
И, предвкушая уже близкую радость встречи с Новгородом, все ближе и ближе подъезжая к нему, Ильмаринен испытывал тот особенный трепет, какой испытывает человек, едущий осенью в холод и дождь полем на горящий впереди, приветливый огонек. Ильмаринен расспрашивал Митрофана о Новгороде, а тот отвечал, что знал, точнее, что слышал, так как самому ему Новгород был ведом мало. Мельком он его видел.
— Славный город, это истинно можно сказать, — отзывался Митрофан.
Он был взволнован не менее Ильмаринена. Но волнение, им овладевшее, было иное. Не мог он спокойно ехать по тем самым местам, по каким ехал и шел на подвиг, после того как Незримый указал ему этот путь. Воспоминания всколыхнулись и перенесли назад к детству, отрочеству... Пригорки, леса, деревни, проселочные дороги — все напоминало подвижнику прошлое, хотя и не далекое еще, но уже неуловимое, кроме как в воспоминаниях, невозвратное.
Показывался ли вдали убогий дом под сенью развесистых яблонь, — Митрофану вспоминался тотчас отчий дом. И сердце начинало биться, как молоточек. Воскресали в памяти мать и отец, зимние вечера, ласки, согревавшие его, ребенка. За слюдяными окнами зимняя стужа, а в домике старого иерея тепло, хорошо. Он, Митрофанушка, сидит на лавке, прижался к старику. Отец гладит его по головке и наставляет, как надо жить, чтобы Богу угодить. Церковь ли выплывает вдали из утреннего тумана или из-за пригорка, или леска, — Митрофану опять-таки кажется: вот храм, где отец его приносит Бескровную Жертву... Впрочем, приносит ли?.. Не умер ли уже старик? Встречался ли попутно город какой-нибудь, хотелось видеть в нем родной Торжок, а в звоне колоколов его слышать звуки благовеста торжковских церквей. Воспоминания воскрешали в Митрофане все, что он похоронил в себе, покидая родные места и поселясь на далеком Севере... Но, воскрешая прошлое, воспоминания не кололи более сердца его, нет, они только волновали. Не ликовал Митрофан при виде знакомых и родных мест — связь прервана, и уже не восстановить ее.
Новые места, холодные, пустынные, дикие, приковали к себе Митрофана, овладели его умом и сердцем. В родных местах он чувствовал себя уже чужим, ненужным... Здесь и без него много пчел, а там, в Лапландии, их нет. И он там многополезная пчела, которая собирая мед, возделывает воск. И из этого воска делается великая свеча Христовой веры. И горит она, и озаряет мрачный край, и освещает правый путь тем, кто до сего времени предавался "самому поганскому идолобесию"...
Тут, где они теперь едут, и другая природа, и люди менее сурового, чем северные дикари, вида. Здесь солнце щедрее на ласки, леса гуще, величественнее, травы ароматнее, цветы ярче. Здесь, в поднебесье, слышны переливы птичьих голосов, которые почти совсем не будят далекой тундры. И тем не менее это уже не влечет Митрофана, чуждо ему. Уже не променяет он на это дичь глухого Севера. С Севером он сроднился, сжился. На Севере открывались перед ним пути, которых он искал в Торжке.
Волнение сменило умиление, когда они с Ильмариненом въехали наконец в Новгород...
— Вот он, славный город! — воскликнули оба.
Но в голосе Митрофана звучала радость, которая овладевает человеком, достигшим желанной цели, а в голосе Ильмаринена звучал восторг.
Новгород Великий встретил их рано утром. Стоял июнь — ветреный, ясный. Солнце золотило маковки храмов Божиих и играло на поверхности Волхова, бурлившего в своих зеленых берегах. Балок, в котором ехали Митрофан с Ильмариненом, быстро скользил по новгородским улицам, обращая на себя внимание новгородцев — хоть и раннее время, а город уже проснулся. Народ валил в церкви. На торговых площадях пробуждалась жизнь. Откуда-то доносились обрывки разговоров, пение слепых, тут и там покрикивали калачники и сбитенщики, предлагая "честным господам" свой товар:
— Калачи горячи!
— Сбитень! Сбитень!.. Сла-адкий!..
Горячие калачи и сбитень сладкий покупались шибко. 0бок с калачниками и сбитенщиками торговали медами сытными, огородники — дарами земли-кормилицы, а молодые парни из тех, что, бывало, не последними красовались на вече — соколами для охоты. Ильмаринен не знал, куда и на кого глядеть ему. Все ново, все так захватывает внимание.
— Куда править-то, брат Митрофан? — спрашивает он, а у самого глаза разбегаются.
— Правь прямо, а потом я скажу, где свернуть в сторону, — отвечал ему Митрофан.
— Прямо к владыке едем?
— Нет, мы остановимся у купцов, кои к нам в тундру ездят. Оставим у них оленей, а сами — в Святую Софию к обедне. Обедню отстоим, тогда и к владыке под благословение.
— Быть так, — кивнул головою Ильмаринен.
И вновь он дивится, ахает, головой качает, по сторонам посматривая. Колокольный звон густыми волнами плывет над городом, и долго-долго не замирали малиновые звуки, хотя их и сменяли новые. На Ильмаринена этот благовест подействовал в особенности сильно. Никогда он не слыхал еще ничего подобного. А тут... И диво на каждом шагу, такие звуки, за сердце хватающие!..
Приехали они к Ярославову дворищу, где прежде собиралось вече по звону вечевого колокола — тут и жили купцы, наезжавшие к лопарям за их промысловым товаром. Северян "гости" новгородские встретили, что называется, с распростертыми объятиями и долго дивовались, как это они нежданно-негаданно пожаловали. Стали было потчевать всем, что "было в печи", да в подклете, да в погребке, но Митрофан и Ильмаринен наотрез отказались от еды и питья, потому что торопились в Святую Софию к обедне. Перво-наперво помолиться да натощак ко кресту приложиться, а уж потом не грешно и попить, и поесть. Хозяева согласились и отпустили приезжих.
Святая София — Софийский собор — была величайшей святыней древнего Новгорода; недаром говорилось тогда: "Где Святая София, там Новгород". Да, вольного, вечевого города нельзя было отделить от детинца (кремля), сердце которого — Софийский храм. В важных религиозных и политических делах, а иногда и в вечевых распрях, новгородцы обращались к Святой Софии и собирали вече на архиерейских дворах, в особенности при избрании владыки, нового князя и при начале войны.
Нужно было кому-нибудь убежище — его давала Святая София. Построенный князем Владимиром Ярославичем, Софийский собор служил не только домом молитвы, верховным судилищем и оплотом правды, но также усыпальницей князей, владык новгородских и наиболее именитых новгородских граждан.
Святой Софии новгородцы отдавали все свои надежды, упования, ей несли свои мольбы и благодарность за великие и богатые милости. В стенах Софийского храма испрашивалось благословение Премудрости на призыв нового князя, из Святой Софии выходил владыка под сенью креста и шел на вече, где, как нередко случалось, страсти одолевали всякое благоразумие и грозили бедами их рабам — новгородцам.
Святая София! — было кличем новгородца, за которую он бился до последней капли крови и готов был ради нее идти в огонь и в воду.
Загорался Новгород — жилые постройки того времени были сплошь из легко воспламеняющегося материала, — новгородцы сносили все ценное под покров каменного храма — Святой Софии, и она сохраняла их добро в целости. Софийская кладовая — соборная достопримечательность.
Митрофан и Ильмаринен пришли вовремя. Обедня еще не началась, и они успели помолиться пред иконами и оглядеть все уголочки просторного храма. Ильмаринен присматривался ко всему. Его внимание привлекал всякий священный предмет. Каждый столбушек казался ему диковиной. А верхние-то своды — да ведь это само небо, опустившееся пониже к земле, чтобы люди могли получше созерцать его!
— Боже мой, Боже мой! — воскликнул Ильмаринен, — сколь Ты велик!
После обедни, возвратясь к купцам, Митрофан и Ильмаринен услышали, что приехали-де в Новгород удачно.
— А что такое? — спросил Митрофан.
— Да как же, — отвечали хозяева, потчуя их. — Ведь послезавтра пойдет крестный ход на Хутынь. Какое торжество-то!..
В историческом очерке Хутынского Варлаамиева Спасо-Преображенского монастыря читаем, что в 10 верстах от Новгорода, на берегу реки Волхов находилось возвышенное место, покрытое густым лесом. Место это называлось "Хутынь" (худынь, худое место) и пользовалось дурною славою. По мнению народному, здесь жила нечистая сила, и все боялись сюда ходить.
Желая проводить жизнь в совершенном уединении, преподобный Варлаам (в миру Алексей — сын богатых и именитых граждан Великого Новгорода, живший в XII веке) вознамерился поселиться на этом страшном для всех месте. Подходя к Хутыни, он увидел светлый луч, просиявший из густой чащи леса, и по этому знамению понял, что его намерение поселиться здесь согласно с волею Божией. С чувством благодарности к Господу воскликнул преподобный словами псалмопевца: Сей покой Мой во век века, зде вселюся, яко изволих и помолившись усердно Господу, поставил себе преподобный келию посреди глухой чащи и начал вести подвижническую жизнь, весь день проводя в трудах, сам обрабатывая землю для необходимого посева, а ночь — в молитве, и изнуряя свое тело строгим постом, суровою одеждою и веригами. Много нападений должен был перенести строгий подвижник от диавола, но преподобный усердно слезною молитвою и строгим постом разрушал все ухищрения врага.
Благочестивая жизнь святого Варлаама скоро сделалась известною на Руси; к нему стали приходить и князья, и бояре, и простые люди, прося наставления, совета и благословения; многие просили позволения поселиться вместе с ним. Как ни любил уединение преподобный, но, помня заповедь Господню о любви к ближним, по которой каждый прежде и более всего должен заботиться о пользе других, с готовностью и любовью принимал всякого и подавал советы и наставления. Его строгая нестяжательность, знание человеческого сердца и людской слабости, любовь и снисходительность к раскаивающимся, кроткое и вместе с тем проникнутое силою искреннего чувства слово назидания производили неизгладимое впечатление на всех приходивших к нему. Каждый получал наставление применительно к своему положению.
Число иноков, желавших подвизаться в обители преподобного, постоянно увеличивалось. Святой Варлаам построил небольшую деревянную церковь в честь Преображения Господня в память того чудесного света, который осиял это место, когда святой Варлаам принял намерение поселиться здесь, и несколько келий для братии.
Пустыня святого Варлаама начала процветать подвижниками.
Однажды преподобному пришлось быть у Новгородского архиепископа. При прощании владыка велел ему пожаловать через неделю. Святой Варлаам отвечал: "Если Бог благословит, я приеду к твоей святыне на санях в пяток первой недели поста святых апостол Петра и Павла".
Удивился архиепископ такому ответу, но не потребовал объяснения. Действительно, накануне определенного дня в ночь выпал глубокий снег и в пятницу целый день был сильный мороз.
Преподобный на санях приехал в Новгород к архипастырю. Видя печаль архиепископа по случаю такой безвременной непогоды, вследствие которой могли вымерзнуть хлеба, святой Варлаам сказал ему:
— Не печалься, владыка, не скорбеть, а благодарить Господа нужно за этот снег и мороз. Если бы Господь не послал этого снега и мороза, то был бы голод во всей стороне, которым Господь хотел наказать нас за грехи наши, но по молитвам Богородицы и святых умилосердился над нами и послал мороз, чтобы перемерли черви, подтачивавшие корни хлебов. Наутро же наступит опять тепло, снег этот растает и вместо дождя напоит землю, и будет, по милости Господа, плодородие.
На другой день действительно наступило тепло. Архиепископ послал принести с поля ржаных колосьев с корнями; на корнях оказалось множество вымерших червей. Вместо голода, которого опасались, было такое плодородие, какого давно не видывали. В память этого замечательного случая прозорливости святого Варлаама и ознаменован крестный ход, который совершается ежегодно из Новгорода в Хутынский монастырь.
Митрофан обрадовался и рассказал Ильмаринену, в чем дело. Лопарь просиял. Еще бы, увидать такое торжество! За все прожитые годы он не видел того, что здесь видит и еще увидит в течение немногих дней...
Утолив голод, Митрофан с Ильмариненом отправились к владыке Макарию. Архиепископ Новгородский списывал Жития святых, в чем ему помогал боярский сын Василий Тучков, когда служка ввел Митрофана и Ильмаринена в келию.
У Митрофана, как говорится, сердце захолонуло при виде владыки Макария и Василия Михайловича Тучкова. Думал ли он когда-нибудь, живя в Торжке, что войдет в покой владыки да еще станет разговаривать со святителем? Он, который считал себя ничтожнейшим в мире!.. Увидал святителя и преисполнился благоговения к нему.
Войдя в келлию, Митрофан отвесил владыке, а потом Тучкову по нижайшему поклону и, молвив: "Благослови, святый отче", подошел к архипастырю. И когда владыка Макарий благословлял его, то Митрофан опустился на колени. Ильмаринен последовал его примеру, в точности повторив все, что сделал старший брат. Святитель усадил их рядом с собою на лавке. Он слышал о Митрофане. Местные купцы, бывавшие у лопи за товарами, сказывали о молодом подвижнике, эту самую лопь просвещающем истиною христианства. И архиепископ мысленно благословил апостола Севера, а вот теперь довелось и свидеться.
Владыка с самого начала заговорил с Митрофаном просто, приветливо, как равный с равным. Осведомился новгородский святитель об Ильмаринене. Митрофан отвечал, что это новая овца стада Христова, кроткая, послушная овца. Потом владыка Макарий стал расспрашивать, как и почему Митрофан избрал сей великий, но и тяжкий путь и каким образом он просвещает "прегорчайшую пустыню". Митрофан все поведал святителю. Сказал он ему, что всегда искал уединения и что еще в детстве тяготел к делу Божиему, сказал, какой глас ему был свыше и, наконец, сообщил, как он начал проповедь среди лопарей. Завязал-де торговые дела с пастухами, а потом повел речь о Боге и жизни во Христе:
— Стал им говорить о слепоте и диавольском помрачении; когда кротко говорил, а когда и дерзновенно обличал их. Так, сказывал им об истинном Боге, в Троице славимом, о создании мира, потом о рассеянии языков, об Аврааме, затем перешел к Моисею, пророкам и царю-псалмопевцу, возвестил им о воплощении Бога, о страстях Господних, о Его о смерти, Воскресении Христовом, Вознесении Господнем, Втором пришествии Спасителя…
— И внимали они тебе? — прервал его владыка, в голосе которого зазвучала какая-то особенная нежность.
— Внимали, владыка, внимали! — отвечал восторженно Митрофан. — Говорил я далее забытым всеми язычникам, что Вознесшийся сидит одесную Отца… Говорил им о всеобщей смерти — и внимали они, внимали! Говорил им о воскресении мертвых, о Царствии Небесном и жизни бесконечной и очевидно было, что души их смягчались и что слова: "бесконечное Царствие" вызывали у них чувство блаженства, неизъяснимо-сладкой отрады! Говорил о страшных муках, ожидающих грешников — и лопари содрогались, лица их темнели, и, казалось, на души их ложились грозовые тучи!..
Чем более говорил Митрофан, тем восторженнее и торжественнее звучал его голос. Словно хвалебный хор пел. Словно радость изливалась чарующими звуками, великая радость, затаенная всей глубиной сердца и души. И когда Митрофан рассказывал, лицо его вспыхивало румянцем, а в глазах точно зарницы отражались, сверкая... Он трепетал весь. И приятен был ему этот трепет, он чувствовал, что в нем выражается все его великое ликование.
Закончив рассказ, он замолчал.
Владыка также молчал. Он как смотрел на рассказчика, так и остался неподвижен. Восторг Митрофана сообщался и ему. Архипастырь, видимо, сдерживал рыдания. Из груди его вырывались приглушенные, сдавленные звуки. Но слезы были сильнее владыки, и они заблистали на его добрых, вдумчивых, отражавших такую же душу глазах. Минуты две-три или больше продолжалось молчание. Наконец владыка очнулся от потрясения и, медленно протягивая свою руку к руке Митрофана, сердечно произнес:
— За коим делом, любимый брат, ты приехал сюда? Сказывай, авось и я в чем пособлю тебе. Знаю, что без нужды ты бы не поехал, не оставил бы своих сиротами.
Митрофан положил земной поклон. Ильмаринен — тоже.
— До тебя нарочито, святый отче, и ехал я, — сказал Митрофан.
Владыка вновь усадил их рядом с собою и просил рассказать, что им надобно от него.
Митрофан сказал:
— Владыка святый, ехали мы к тебе слезно умолять прислать в пустыню прегорчайшую иерея, дабы он крестил уверовавших во Христа лопарей. Там, на месте-то, нет иереев, чтобы приобщить их чрез Таинство Крещения к Церкви Православной. Помоги, владыка. Община наша стала значительна и требует благоустройства. Благослови нас на строение обители и на наем новгородских плотников.
Владыка обещал прислать иерея немедленно и дал Митрофану грамоту благословенную на построение церкви. Благословил он северян и на наем плотников, причем указал, каких и где нанимать.
Митрофан и Ильмаринен воротились от владыки сияющие. До вечерни пошли они по Новгороду поглядеть на все примечательное. Было перед чем остановиться, было на что поглядеть в славном городе. Митрофан, само собой разумеется, рассказывал своему спутнику, какое воспоминание связано с тем или другим местом. Вот тут, на Ярославовом дворище, собиралось вече. Эна, высится вечевая башня. Замолк вечевой колокол... Не позовет уж никого никогда его протяжный звон...
— А то еще близ Новгорода, — делился с Ильмариненом Митрофан, — есть городище. Там княжий двор, где живали новгородские князья.
— Далеко от города? — любопытствовал Ильмаринен.
— В двух верстах.
— Поглядеть бы!
— Пойдем.
И они побывали на былом княжьем дворе, что раскинулся живописно на вершине зеленого холма. Оттуда весь Новгород был виден как на ладони со всеми башнями, кремлем, святой Софиею и неугомонным седым Волховом. Именитый город! Эва, Плотницкий, а эна — Словенский конец. И все девять башен грозного детинца (кремля). Будто муравейник, кишит гостиный двор с рядами: кожевенными, сурОвскими, хлебными, щепными.
— Отчего княжой двор не в самом Новгороде? — спросил Ильмаринен Митрофана.
Тот отвечал:
— Таков обычай. Князья новгородские не имели права жить в самом городе.
— Отчего так?
— Чтоб не перечить вольнице.
Осмотрев место новгородского веча, Ярославово дворище и посетив городище, Митрофан с Ильмариненом побывали у вечерен, а на следующий день отправились на Красное поле в скудельничий монастырь. День спустя довелось им идти с крестным ходом в Хутынь.
Едва только начало рассветать, едва только солнце зарумянило зеленые верхушки окрестных лесов и поплыло по кровлям новгородским, вышел крестный ход из Софийского собора и направился к Владычным водяным воротам. В утреннем воздухе сквозь холодок полилось церковное пение. Колокольный звон висел над детинцем. Владыка Макарий прошел в водяные ворота и вышел к волховскому берегу. На реке выстроились насады (лодки наподобие нынешних паромов). Богоносы, владыка и духовенство вошли в насады, в одном из коих нашлось место и Митрофану с Ильмариненом. Поплыли. Начался молебен. Оба волховские берега были запружены народом, благочестивым, богомольным, возносящим со духовенством молебную песнь Богу.
В половине третьего пополуночи выходил крестный ход из Святой Софии. И по мере того как плыли 10 верст до Хутыни, утро занималось, занималось, из румяного делалось золотым. Солнечные лучи падали на Волхов-реку, на зеленые берега, на деревни и леса окрестные и золотили их. И толпы народа текли за крестным ходом в ту же Хутынь, купаясь в волнах колокольного трезвона. Возвестили колокола на новгородских колокольнях, им вторили колокола со звонниц монастырей Юрьева и Антониева. Откликалась малиновым благовестом Хутынская звонница.
Молебное пение лилось и лилось в воздухе, замирая в лесах, в которых под утренним солнцем радостно звенела птичья многоголосица, будто вторя человеческим голосам. Народ, что тянулся за крестным ходом берегом, подпевал клиру, и таким образом создавалось зрелище торжественное, трогательное и величественное. Оно умиляло, брало за душу, трогало до слез.
Хорошо чувствовалось в это время Митрофану. Ему казалось, что он не на земле, а на небесах. Стройное пение молитвословий, какой-то особенный восторг, охвативший всех паломников и не скрываемый ими, — все это так далеко от суетной земли, на которой выстроились города, хоть и красующиеся церквами, но погрязшие в мелочных расчетах и денежных делах. Ильмаринен же совсем растерялся. Всего он ожидал от Нова-города, всяких чудес, но этакого торжества и благолепия лопарь и не чаял. Вовек он не забудет их.
Ильмаринен следил за всем происходящим, жадно ловил звуки клиросного и народного пения и от полноты душевной плакал. О, будет что рассказать своим! Впрямь, жизнь московов и новгородцев не чета им… Сколько величия! Богу молятся, Бога благодарят, Бога просят, без кровавых жертв, без того беснования, которое неразлучно с кебунскими заклинаниями. И, стало быть, Бог слышит христианские молитвы и подает людям, если, на что ни посмотришь, на всем виден отпечаток довольства или красоты.
Здесь народ живет по-иному, не по-лопарскому. Они, лопари, точно звери, на мху спят или в вежах (палатках) укрываются, в духоте, тесноте, нечистоте. Опять-таки, как звери в норе. И подивиться не на что, и умилиться нечем, поучиться чему-либо не у кого. Вот только с появлением Митрофана прояснилась их жизнь. Раскрылся смысл человеческого существования; становится понятным, почему именно человек — венец творения и создан быть царем природы.
Между тем насады подплыли к Хутыни.
Из-за монастырских ворот выплывает пятиглавый храм Преображения Господня. Заиграло солнце на его главах и полукружиях. Самим преподобным Варлаамом построенный храм просуществовал около 312 лет, и так как он пришел в ветхость, то в 1515 году по грамоте митрополита Московского и всея России Варлаама освятили новый.
Навстречу новгородскому святителю вышел настоятель хутынской обители, также с крестом и хоругвями. Крестные ходы сошлись и двинулись в монастырь. Святитель благословил не сослужащих с ним петь молебен за алтарем Спасо-Преображенского собора.
За молебном шла литургия, во время которой новгородское духовенство перенесло кресты и хоругви опять в насады, где готовилась также трапеза. Святитель, настоятели монастырей и софийское духовенство трапезовали после литургии в монастыре. И тут Ильмаринен видел, как они вкушали хлеб Богородичный и как подымалась чаша о Государевом многолетнем здравии и благоденствии.
После трапезы, опять по Волхову, воротились в Новгород.
Митрофану и Ильмаринену понадобилось еще несколько дней, прежде чем они смогли нанять плотников и смастерив второй балок для них, выехать из Новгорода к себе на Север. Новгородские купцы пожертвовали кто деньгами, кто товаром, кто снедью. Боярский сын Василий Михайлович Тучков подарил облачения и священные книги, им переписанные. Владыка архиепископ Макарий благословил Митрофана грамотой, образами и крестами для будущей церкви и нательными для новоначальных христиан.
Сделав дело, Митрофан и Ильмаринен поклонились новгородским святыням, да и двинулись в обратный путь. С ними же отправились и плотники. Вздохнул Ильмаринен, когда выехали из Новгорода. Оглянулся в последний раз на древний город и не скрыл тяжелого вздоха. Нелегко было очарованному всем виденным лопарю расставаться со святым местом. Он думал: "Скажи теперь Митрофан: "Останемся, Ильмаринен, в Новгороде, будем доживать тут, подле Святой Софии, вдали от вырастившей тебя тундры, вдали от близких, вдали от оленей и Студеного моря!" — и я бы не задумался, в ту же минуту согласился бы. Как хорошо тут! Боже Ты мой, как хорошо тут!" Сидевшие рядом в балке плотники точно угадали его думу. Он вздохнул — они спросили: "О чем вздохнул, кого вспомянул?" Ильмаринен вздрогнул, вспыхнул. Глядит на всех виноватыми глазами. Те продолжали: "Аль Новый город пожалел?" Ильмаринен, опуская голову, тихо отвечал:
— И то. Как тут хорошо, не уехал бы отсюда вовек.
— Свой дом-от лучше, — сказал плотник.
— Знамо, — добавил другой.
Митрофан молчал. Молчал и тогда, когда Ильмаринен виновато взглянул на него.
- Это чисто внешнее сближение основано на том, что полумесяц напоминает греческую букву "ипсилон" (ипсилос — высокий). ^
Обитель созидается
С неописуемой радостью встретили лопари своего наставника. Митрофан рассказал им обо всем, что видели они с Ильмариненом в Новгороде, где побывали, как их встречали новгородцы. С напряженным вниманием слушали общинники Митрофана, дивились, восторгались, но толкам не стало конца, когда Ильмаринен заговорил и порассказал о Новгороде и новгородских храмах таких чудес, какие им, кочевникам глухой тундры, никогда и во сне не снились.
— А это кто же? — спрашивали лопари, указывая на плотников, кафтанников и сермяжников в мягких шапках. — Купцы, что ль? За товаром, знать, приехали?
— Это плотники, искусники новгородские, — отвечал Митрофан. — Мы наняли их, чтобы построить нам храм. Владыка новгородский благословил и грамоту дал. С Богом примемся за святое дело.
И принялись. Закипела работа на Печенге близ океана Студеного. Новгородские плотники, общинники, сам подвижник — все отдались этой работе. Под рокот океанских волн, под шум ближайшего падуна (водопада) спорилась она, нелегкая хотя бы уж потому, что на месте не было материала и бревна приходилось носить за две версты. Стены храма воздвигали бревенчатые. Митрофан не знал, казалось, устали. Соблюдая строгий пост, он сам рубил деревья, строгал их и носил на своих плечах на место стройки. Дивились все, откуда у него, с виду слабого, такая сила берется и чем эта сила питается, поддерживается. Плотники, народ закаленный и к такой работ привычный, а и то нет-нет да и присядут отдохнуть, дух перевести. Лопари с благоговением глядят на своего наставника, просят его не слишком утруждать себя, но никакие просьбы не действуют.
— Да ведь трудно тебе, непосильный ты труд взял на себя, наставник наш! — говорит Митрофану Ильмаринен.
Увы, тот не внемлет.
— Долго ль так-то дойти до полного изнеможения, — продолжает Ильмаринен, и глаза его с мольбою смотрят на апостола. — Долго ль заболеть?
Другие поддерживают его.
Митрофан грустно качает головой, как бы сожалея, что они могут так говорить. Кто он? Пчела, несущая мед в соты человеческого сознания и самосовершенствования. И что его, Митрофанова, ноша в сравнении с той, какую взял на Себя Христос ради спасения человеческого рода? Пушинка.
Одновременно с сооружением храма строилась и мельница для обители. Под рукой не было жерновов, достать их можно было только в Коле. И Митрофан отправился туда, чтобы купить жернова и на себе их перенести потом к устью Печенги, где строился храм.
— Умоляем, не трудись сам! — Взывали к нему ученики.
Митрофан отвечал им:
— Братия моя! Не празднество велие создано бысть всякому человеку; иго тяжко на сынех Адамлих от дне исхода от чрева матере их до дне погребения в матерь всех. Уне бо тебе, Митрофане, на выи своей обесив осельский камень носити, нежели братию праздностью соблазняти!
И он ушел в Колу, где купил жернова, один из которых и понес на себе. Невзирая ни на крутые горные подъемы, ни на болота, ни на топи, он нес жернов, голодный, жаждущий, но не потому, что нечего было есть и пить, а потому что исполнял данный им обет воздержания. Потом он воротился в Колу и за другим жерновом.
Построение храма не мешало Митрофану продолжать проповедь христианства среди лопарей и укреплять в вере обращенных. Ночь — время отдыха после трудового дня. Но Митрофан и ночью почти совсем не отдыхал: он или молился, или шел на проповедь. По горам, по тундре, утопая в болотах, он переходил от кочевья к кочевью, от шалаша к шалашу и проповедовал лопарям Евангелие. Ни непогода, ни северный мороз не останавливали его. Надо было претерпеть — он претерпевал, надо было снести поругание — он терпеливо сносил ради Христа Спасителя. И увеличивал и увеличивал семью северных христиан. Проповедь его до такой степени захватывала иных лопарей, что они отрекались от мира и давали обет уйти навсегда в обитель, как только она будет отстроена. Поступали пожертвования, скудные и щедрые, Митрофан передавал их на строящийся храм, ничего не оставляя себе — "нищему ради Христа". Таким образом, пока обитель созидалась, она уже владела землями, озерами, оленями. Были уже и денежные средства.
Близ строящегося при устье Печенги храма во имя Святой Живоначальной Троицы Митрофан срубил себе келейку. Здесь, в убогой обстановке, он проводил часы в молитве и поучал всех, кто являлся к нему за советом, или оказывал помощь. Здесь он, оставшись наедине с собою, предавался размышлениям о судьбе основанной им обители. И не раз, может быть, омрачалось чистое чело его, когда сквозь тьму грядущего вырисовывалась кровавая ночь под Рождество Христово 1589 года. Он провидел эту ночь, провидел, что многие в его обители "падут под острием меча" и в то же время знал, что Всесильный Бог восстановит обитель. И не скорбел ли он в своей убогой келие, прозорливый?
Между тем край, до сего времени дикий, пустынный, безжизненный, принимал уже новый вид. "Благодатию Божиею, — как сказал преподобный Максим Грек, — многие иноверные обратились в православную веру. Прежде того они жили, как звери в пустынях, пещерах и расселинах, не имея ни храма, ни необходимого для жизни, питаясь зверями, птицами, морскими рыбами, и кто что ловил, тем и торговал. А теперь православие распространилось до Варгава, устроен монастырь и собралось большое братство иноков на Печенге, близ моря".
Сам Митрофан являл собою как бы солнце этой убогой страны. Кроткий, самоотверженный труженик, он сиял нравственною чистотою и смирением. Святость жизни и сила его верующей души были настолько велики, что дикие звери безмолвно повиновались его слову. Однажды, замесив хлеб, он вышел из келии, в которую затем на запах забрел медведь и стал есть находившееся в квашне тесто. Возвратившись и увидев медведя, Митрофан сказал ему: "Иисус Христос, Сын Божий, Бог мой, повелевает тебе выйти из келии и стоять смирно". Медведь вышел и стал у ног преподобного, а Митрофан, взяв ветвь, начал хлестать ею зверя, говоря при этом: "Во имя Христово даю ти многие раны, яко грешному" (см.: Иеромонах Никодим. "Преподобный Трифон, просветитель лопарей"). Наказав зверя и запретив ему впредь подходить к обители, старец отпустил его на волю. С того времени медведи никогда никакого вреда не причиняли ни оленям, ни другим животным за монастырем записанным.
В бытность мою (автора повести — Ред.) в Печенгском монастыре в 1901 году, я спросил у отца казначея, заходят ли теперь медведи в обитель.
Монах даже обиделся:
— Как же они могут заходить, если преподобный не приказал. Лисицы иногда посещают, волк забегал, выл, а медведям нельзя ходить.
Впрочем, говорили, в недавнее время, когда решено было восстановить монастырь на прежнем месте, в колонии Баркино неожиданно появились медведи. Предложили власти колонистам переселиться на другое место, те отказались; им в другой раз предложили — опять не желают; тогда медведи собрались из разных мест и давай допекать упрямых. У одного колониста корову задерут, у другого ягненка утащат, — так и выжили. И опять ушли неведомо куда.
Построен был наконец храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Но прошло три года, прежде чем освятили его. То и дело Митрофан наведывался в Колу: не прибыл ли иерей по указу новгородского владыки. Иерей не приезжал. Наступил 1532 год. Просинец (январь) преломился уже, а все нет да нет священника. Наконец, почти перед самым сеченем (февралем) Митрофан, придя в Колу, встретил там иеромонаха Илию. Низко поклонившись ему, он стал звать его на Печенгу, говоря, что вот уже три года прошли, как там построен храм, и стоит он неосвященный, и новоначальные христиане тщетно ждут церковного торжества. Илия отправился с Митрофаном на Печенгу и 1 февраля освятил церковь, крестил живших в общине лопарей, а самого Митрофана постриг в монашество с именем Трифон.
Так было положено начало Печенгской обители, значение которой для Русского Севера неизмеримо велико. Не выразить словами то, что сделал пришедший из Торжка подвижник. Для этой оценки немощен наш язык. Историки дальней обители многое уже сказали о благотворном влиянии на развитие народов Севера духовной и культурно-просветительской деятельности преподобного Трифона. Как ни бедна была, значительными событиями история Печенгской обители, тем не менее она успешно послужила на пользу родной земли.
Созидая Печенгскую обитель, преподобный Трифон полагал твердое основание и опору для распространения православия на Кольском полуострове. Крестив лопарей, преподобный ввел этот народ в лоно Православной Церкви, а основанная им обитель за все время своего существования была им как бы матерью, о чем красноречиво говорит царская грамота 1607 г. на имя игумена Ефрема: "Монастырь Живоначальной Троицы стал в лопи дикой для крещения лопского. А приходят в тот монастырь лопяне и ненцы, крестятся и стригутся многие нужные люди, и коли голод бывает, то приходят к ним кормиться многие люди". Обитель была источником света Христова и питательницею для обездоленных. А то, что лопари и доныне все православные, хотя они легко могли подпасть под влияние католицизма и протестантизма, и свято чтут память преподобного Трифона, ясно говорит, что Печенгский монастырь достойно продолжил дело своего основателя.
По свидетельству историка, когда преподобный Трифон основал на Печенге свою обитель, нашлось много желающих потрудиться там под его руководством, так что к концу его жизни число монастырской братии возросло до 100 человек. Известно, что во все века, начиная с принятия христианства на Руси, пустыня с неудержимою силою влечет к себе благочестивые души, ищущие спасения и равноангельского жития. И не дивно: человеку, удрученному житейскими скорбями и невзгодами, уловляемому сетью мирских соблазнов и искушений, волнуемому греховными помыслами, вожделениями и страстями, как слабому и скорбному духом грешнику, желающему обрести мир с собственною совестью и милость от небесного Судии и Мздовоздателя, пустыня — тихая, желанная пристань, куда удаляются люди, по выражению псалмопевца, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури.
Нельзя указать более пригодного места для монашеских подвигов покаяния и поста, терпения и самоотвержения, и в то же время для развития и укрепления в себе дара молитвы, возвышающейся до пламенного рвения немолчно славить Бога во псалмах и песнях духовных, в молитвах и славословиях черпая для себя утешение мирное, светлое, радостное настроение духа и обновленные силы для благочестивой жизни.
После всего сказанного понятны становятся слова глубоко поучительного церковного песнопения: Пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетного кроме. Вот почему древние отцы, а вслед за ними преподобный Трифон, избирали для своих иноческих трудов и для устроения обителей места уединения, удаленные от суеты и треволнений мира. Вот почему преимущественно такие монастыри прославились и славятся строгой иноческой жизнью, умиляющим дух стройным, благолепным церковным чином и служением, многими и долгими молитвами за живущих и умерших. Таковы монастыри Святой Горы Афонской, а у нас в России — Валаамский, Соловецкий и другие.
Многое сказанное о Печенегской обители, однако не проясняет всецело ее значения. Будущее дополнит трудами новых историков то, что сделали прежние бытописатели северной святыни.
Итак, 1 февраля 1532 года в "предгорчайшей пустыне" состоялось событие, подобного которому этот край не ведал: новые христиане с умилением молились Богу в храме пред иконами святых, лики которых озарялись возжженными свечами. Кадильный дым возносился, наполняя храм благоуханием. И аропат ладана, казалось, проникая в души новообращенных лопарей, вытеснял из них память о годах языческого существования. Митрофан, теперь уже инок Трифон, пел и читал в храме и своим примером благочестия увлекал всех. Сам вид его вдохновлял обращенных, каждый чувствовал себя исполненным каким-то особенным, неизведанным до сего времени счастьем. Трифон ликовал, может быть, больше всех. И как было не ликовать ему, если сбылось наконец то, к чему он так стремился, если сбылась мечта его юношеских лет и свет христианства озарил десятки человеческих душ! Север осиян! Север пробужден! Мрак язычества рассеивается! Над тундрой звучит святое имя — Христос! Разрушены жертвенники кебунов: одни из них где-то затаились, посрамленные, другие, узрев всю ложь своего учения, прониклись верой в Господа. Теперь громче плача белых чаек, громче шума океанских волн над тундрой звучит хвала и благодарение Царю царей, Владыке неба и земли. Точно сквозь пологи туч, распахнув их края, солнце выглянуло и согрело землю, и осветило горы, и возрадовались души людские. Отныне уже не царить мраку! Прошлое не возвращается. Свет Истины, воссияв у печенегского устья, разольется по всему великому северному краю, и ничто не заглушит благовеста печенгской монастырской звонницы…
Если Митрофан был еще как-то связан с миром, то Трифон стал чужим для него. Иноку чужды все мирские блага, радости и невзгоды. Он живет духом в Боге, всецело угождая Ему. Трифоном овладело одно желание – устроить на Печенге обитель, чтобы она изливала свой неугасимый свет на тундру, всегда являясь днем, победившим мрак языческой ночи. Считая себя не равным, и уж не бОльшим среди других, но последним и меньшим, смиренный инок наметил и будущего игумена, настоятеля обители. Но если явилась надобность в игумене, значит, были и иноки? Да, были.
После принятия крещения лопари, побуждаемые своим внутренним голосом, один за другим несли в дар храму многое, если и не все, из того, что имели: приводились к священным теперь для них стенам оленьи стада, дарились озера и реки, богатые рыбой, жертвовались деньги. Словом, лопари не жалели ничего, да и как могли жалеть, если самих себя отдавали на служение Богу: тотчас по крещению многие из них приняли монашество. Ильмаринен был пострижен с именем Петр, ибо, уверовав, твердо стоял в вере и умел других убедить отречься от заблуждений и склониться под сень Православия. Вступив в число братии, Ильмаринен отдал ей все, чем владел.
Трифон, принимая дары от жертвователей, объяснял им, что всякое даяние высоко у Бога, и положил поминать всех благотворителей о здравии, а в случае кончины имена заносить в синодик и поминать за упокой.
Оставалось избрать игумена.
Братия, само собой разумеется, просила подвижника и апостола Севера принять на себя управление обителью, но Трифон отказывался.
Его стали умолять.
Он тогда сказал:
— Мне ли, грешному и худшему из вас, управлять вами!
— Желаем, Трифоне, чтобы ты управлял нами! — отвечали все.
— Нет, трижды нет, братие, — ответил он твердым голосом. — Недостоин я править, это выше моей меры.
— Кому же тогда игуменствовать?
— Сей достоин.
И смиренный инок указал на своего ученика Гурия:
— Гурий да будет начальником вашим.
Никакие просьбы и мольбы не могли повлиять на Трифона. Он оставался непреклонным в своем решении быть простым иноком. Таким образом безвестному дотоле Гурию суждено было сделаться первым игуменом далекой северной обители, весть о которой вскоре разнеслась по всему Русскому государству. В обителях православных пошла молва о новой святыне. Имя ее основателя, Трифона, уже давно стало известным даже в глухих уголках, благодаря тому что калИки перехожие и чернецы, странствуя по отечеству, заходили и в холодную, то есть северную, даль. Они и разносили по городам и весям славу о подвижнике. Среди этих калИк и чернецов бывали и такие умудренные годами старцы, которые помнили еще Трифона юношей, когда он певал на клиросе в торжковском храме. У таких в сказаниях недостатка не было.
Из всех обителей самая ближняя к Печенгской — Соловки. До них скорее всего и доходили известия от устья Печенги. Когда был освящен храм во имя Святой Троицы, взоры соловецкой братии обратились к новой обители, многих стал привлекать к себе величавый своей добродетелью образ Трифона. Одни из соловецких монахов отправились на поклонение новой северной святыне, другие — затем, чтобы навсегда поселиться в "Печенге". В числе последних был иеродиакон Феодорит. Его благочестивая душа искала более сурового, чем Соловки, убежища, ей хотелось еще более строгих подвигов. Феодорит желал переменить Соловки на Печенгу еще и потому, что она нуждалась в устройстве, и каждый грамотный инок был для нее особенно ценен, так как возникла надобность в переводе молитв и священных книг на родной для лопарей язык. А иеродиакон был не только иноком высокой подвижнической жизни, но и грамотным, начитанным монахом. Пребывание в Соловках научило его языку северян. Феодорит испросил благословение у своего игумена и удалился на Печенгу. С радостью принял его Трифон, вдвоем они принялись за перевод церковных книг.
В то же время со всей Руси стали стекаться в Печенгскую обитель калИки, богомольцы, чернецы. Впервые над диким простором лопарской тундры послышалось пение духовных стихов, стройное, проникновенное пение. И печенгская братия, и просто лопари-христиане внимали ему со сладостным замиранием сердца. В промежутках между церковными службами калИки и чернецы захожие садились вряд или вкруг и пели. Сердце радостно трепетало от такого пения. Ухо слушателя не хотело расставаться со словами, которые, однако, замирали, чтобы уступить место другим:
Любимая моя мати, |
Разве пустыня лучше мирского жития? Разве "мир" не приведет в Небесное Царство? Или, кроме как в пустыне, нельзя уж и спастись? Трудно на земле спастись среди людей, которые уклонились от Истины. Кривда осталась на земле. И царит она, хоть и сказано:
Кто будет кривдой жить, |
Да, не живет человеческий род по заповедям Господним, а меж тем с каждым днем, с каждым часом все приближается и приближается Суд Божий. Гляди, уж и скоро, пели калИки, Архангел Михаил вострубит:
Первый раз он вострубит — |
Все на Суд Божий пойдут и придут. И что должны будут приять те, кому скажет Праведный Судия:
Вы воли Господней не творили, |
Что должны такие приять? Что приимут? Что? Зато легко будет нищей братии, потому что она в земной юдоли имя Христово носила. Лазарь спасется, ибо убог был и болезнями угнетаем. Алексей, человек Божий, будет возвеличен там — в надзвездной стороне, так как на земле был нищим. В худую ризу облачился, роздал все свое достояние неимущим, сам сделался нищим, дабы лучше, усерднее Богу потрудиться.
КалИки приходили и уходили, но некоторые чернецы, добравшись до Печенги, просили Трифона благословить их на иночество в его монастырь. И, получив благословение, оставались, расставшись с недавним прошлым, променяв благодатный юг, с его благоухающими степями, синими задумчивыми ночами и красотами, на угрюмый Север. Из шумных городов с горделивыми палатами и хоромами, с величественными храмами, из городов, где все ласкает глаз и казалось бы, радует душу, — и оттуда уходили в холодную даль, в бедную обитель.
Она, как мать детей, всех принимала приветливо, тепло. Являлись труждающиеся, обремененные, ищущие успокоения душевного, и "Печенга" утешала их. Число братии все возрастало. Трифон был подобно светочу для них. Он укреплял одних, наставлял других, служил примером истинного подвижничества для третьих. И продолжал проповедь, уходя в тундру к язычникам-лопарям.
Наступали тяжелые времена.
Голод начался на Севере, охватив весь край. Морозы, стоявшие в течение нескольких лет, побивали посевы. Лапландия и смежные с нею места должны были погибнуть. Населению грозило вымирание! И вот чуткий к чужим бедам Трифон, чтобы спасти лопарей от очевидной гибели, отправился за сбором подаяний в Новгородскую волость. С ним несколько иноков, в числе которых, разумеется, и Петр, бывший Ильмаринен.
Отслужив молебен, Трифон и его спутники попрощались с остающимися в обители и двинулись в путь. Выезжали они из Лапландии в виде нищих — смиренно. Любовью к бедствующему брату горели их души, и эта святая любовь придавала им силы и делала тяжелый путь легким. Вновь Новгородская волость раскрывает перед ними врата. "Ужель я опять увижу Великий Новый город?" — думал Петр, и им овладевала радость. Спутникам, которые еще не видали вечевого города, он рассказывал о нем с восторгом. Трифон разговаривал мало — он как будто весь ушел в себя, моля Бога об умягчении сердец имущих. И в голове его теснились воспоминания из прочитанного. Ему вспоминался Иосиф, который насытил целый Египет, когда эту страну поразил голод.
Первым городом, встретившимся им на пути, был Великий Устюг.
Любовь к ближнему
В то время, которое описываем мы, Устюг цвел. К нему съезжались "гости заморские", привозили они свои товары, а увозили за сине море местные. Город богател, и так как этому способствовали иноземные купцы, то они пользовались особенным почетом и уважением устюжан. Для них город отвел особое место: в Немчиновом ручье возникла слобода.
Трифон знал, что русские купцы отличаются добротою и, раз дело касается братской помощи, откликнутся на нужду. Притом, голод ведь грозит тем самым лопарям, с которыми им, устюжанам, приходится вести торговые дела спокон веку. Лопари — народ честный. Не помочь им — значит лишиться навсегда хороших людей и прервать сношения с теми, кем нельзя не дорожить. Трифон надеялся немедля отослать все собранное в Устюге на Север для раздачи нуждающимся. И он не ошибся в своих видах на устюжан.
Действительно, на помощь северянам по его зову откликались не только купцы — русские и "немчины", а вообще горожане, у которых что-либо имелось.
"С миру по нитке — голому рубаха". Так и здесь. Собралось пожертвований всякого рода столько, что можно было отослать с ними двух иноков, дав им оленей. И Трифон благословил их ан обратный путь, сказав как распределить пожертвования, присовокупив утешение, чтобы несчастные не отчаивались, а, уповая на милосердие Божие, ожидали следующих его, Трифона, посланцев.
Иноки уехали на Печенгу, а Трифон с оставшимися, возблагодарив Бога за все, покинул Устюг и пошел в глубь Новгородской воласти, не минуя по пути ни одного городка, ни одной деревни.
Всякое даяние благо. И ради него он стучался в каждую избу, в каждые палаты, в каждую лавку.
— Подайте, милостивии, Христа ради, — звучали голоса сборщиков, — Хри-иста ра-ади!..
И не оставалась равнодушной к чужому горю душа русского человека.
Восемь лет странствовал Трифон, собирая пожертвования, и в течение этого времени он обошел, конечно, всю Новгородскую волость из конца в конец. Кажется, не было такого уголка, куда бы не заглянул он и где бы не прозвучал его голос, взывающий к помощи.
После холодной зимы наступала весна красна. На полях рыхлел и темнел снег, еще недавно отливавший серебром, и, понемногу тая, открывал проталины, на которых торопился вырасти первый цветок — подснежник. Над пробуждающимися от зимнего сна полями жаворонки пели славу Творцу. Солнце с каждым восходом своим все теплее дышало, все усерднее согревало землю. Зарождались и стремились в бурные реки ручьи, одевались в зелень леса, возвращались из-за синя моря пташки-щебетуньи — все они говорили каждый по-своему, все спешили возвестить о том, что пришла весна.
Трифон и его спутники видели пробуждение природы. Солнце ласкало их своими горячими лучами, бодрило и наполняло души их новыми надеждами на человеческое сострадание и отзывчивость. Дышалось легко на лоне матери-природы. А мать-природа одевалась все наряднее. Май наступил. Встретили его приход сорок сороков птичьих, встретили песнями бойкими, песнями звонкими. Что ни день, то краше поля, луга и леса, звонче птичья многоголосица. Наконец покрылись поля цветочным ковром. Ярок, пестр он. Ароматен, как миро. На лугах точно изумруд кто разметал. Глядишь не наглядишься, не налюбуешься. Свежая, сочная трава... То-то любо скотинушке! Егорий отомкнул росу, и с того дня апрельского искрится она, роса, на траве луговой — чистая-чистая, как слеза младенца. И сверкает она алмазом, когда месяц взойдет над землей и осветит спящий мир. Хорошо! Хорошо! Дышит грудь луговым воздухом, будто бальзам пьет. И крепнут силы, крепнут, крепнут...
За весной вслед идет лето с зорями ясными. От зари до зари вдосталь наработаешься. Рано солнце всходит, поздно закатывается. Сумеркам негде сгуститься, гонит их мрачные тени солнышко-ведрышко. И рано утром, и днем, и вечером, и ночью светло. В чаще зеленых лесов томно кукует кукушка, соловей, птичка-невеличка, сидя у гнезда своей серой подружки, распевает всю ночь напролет. На болотах, на озерах стон стоит от переклички уток, куликов, бекасов. Серый зайка по лесу мчится, медведь дозором обходит лесные заросли, волк-бирюк рыскает, ища, где бы поживиться чем-нибудь. А из травы выглядывают разные ягоды, грибы гнездятся семьями. Зреет хлеб на полях. Как море, колышется нива. Крестьяне "страдают" около своих полей. Думы беспокоят тружеников, из года в год одни и те же думы: что-то даст нива? Каков будет урожай? Не побил бы град посевов, морозы не отняли бы у них — страждующих — хлеб.
Летним утром или вечером, проходя мимо посевов в деревню, боярскую усадьбу или ближайший город, Трифон благословлял труды крестьян и молил Творца, да не разрушит Он скромных надежд и упований бедняков! Крестьяне... Не определяет ли это слово людей, несущих крест? В самом деле, их ли жизнь отрадна и красна? До поту зарабатывают они свой скудный хлеб, да и тот, случается, отнимает у них стихия или хищники вроде саранчи, жучков, мышей... "Боже, не остави их", — говорил Трифон. Лето вспыхнуло и уже бледнеет. Солнце ровно бы на убыль идет, дни становятся короче. Сумерки стали ложиться на землю, миновали белые ночи. Уже рано смеркается и поздно рассветает. Солнце дольше прячется на небе. Утреничками за лицо пощипывает. Где стояли лужицы, там, глядишь, уж лежат словно бы стеклышки. Свертываются листья на деревьях, и мало-помалу теряют они свой зеленый наряд. Упавшие листья под ногами шелестят. Заходили в поднебесье тучи, тяжелые, мрачные, словно свинцом налитые.
На осень переходит...
Грязным проселком вечером шли два человека. Оба были в убогих одеждах и мало похожи друг на друга. Один повыше ростом, другой пониже. У первого, немного сутуловатого, изогнутый нос и длинная борода, побитая насквозь сединою, большой открытый лоб. Это Трифон. У второго борода короче и седина только начинает серебрить волосы. Это Петр, Ильмаринен. Впереди на изволоке показалась деревня. Высокие избы выстроились в два ряда, образовав улицу, по которой уныло бродит скот. Полчаса спустя Трифон и его спутник были уже на деревенской улице и стучались в окно первой избы. Вышел старик из сеней и долго всматривался в прохожих.
— Кто будете? — спросил он их.
Трифон отвечал:
— Мы люди странные. Пришли, Христа ради, от самого моря Студеного. Посетил лютый голод горький наш край, оттого и пришлось идти да собирать милостыню.
Старик вздохнул.
— Ин, пойдем в избу, — сказал он, — пойдем. Дело к ночи, не на улице ж вам ночевать. Холодно, чай. Не летечко уже, когда на травке, под Божиим небом, всюду постель готова.
Трифон и Петр направились за стариком, благодаря его.
А старик на ходу говорил:
— Как не приютить и не согреть перехожих людей! Как отказать вам в приветливом слове ежели Сам Бог явился Аврааму в образе трех странников у дуба Мамврийского! А, может быть, ваш приход принесет с собою облегчение и нам в нашем горе. За странным-то, сказывают, Сам Господь шествует.
— Какое горе тебя посетило, добрый человек? — живо спросил Трифон.
Старик тяжело вздохнул.
— Внучек мой помирает, — отвечал он. — Какой ласковый да работящий был, а теперь лежит на полатях, чисто полымем пышет. Охватило, чай, его, распаленного, ветром. Знать, вышел из теплой избы на двор, не прикрывшись овчиной, вот и поплатился.
И старик заплакал.
Трифон и Петр вошли в избу. Она была довольно просторная, но темная, так как оконца уже не пропускали света, а лучина, хоть и ярко горела, да слишком и коптела. Немногочисленная семья старика сидела за столом и доедала не ахти какой разносольный ужин; с полатей доносится стон больного человека. Он и стонал, и охал, и временами просил воды. Утирая слезы, немолодая женщина, дочь старика, подавала ему берестяную кружку и говорила при этом:
— Господи, помилуй! На-ко, выпей, Иванушка!
Введя странников, старик вымолвил, обращаясь к своим:
— Вот, родненькие, я приютил двоих каликушек. Не гнушайтесь ими, а накормите, напоите их, чем Бог послал. Садитесь, люди странные. Садитесь, богоданные. Не осудите наше убожество.
Трифон и Петр, отвечая на поклоны и приветствия, отвесили хозяевам по низкому поклону.
Трифон сказал:
— Мир дому сему! Пошли Господь Свою отраду вам, дай вам доброе здоровье...
— Ох, старичок, — со слезами в голосе заговорила женщина, подавая хворому Иванушке питье, — прогневали, видно, мы Царя Небесного, ну-тка, какое попущение — свалился работничек наш. Слышь, стонет-то! Ах-ти, мой бедный Иванушка, ах, дитятко мое ласковое!..
Женщина заголосила. Ее стали успокаивать, уговаривать, чтоб не тревожила своими причитаниями больного, который еще невесть что подумает. Она успокоилась. Хозяева стали потчевать гостей, но Трифон сказал:
— Не надлежит ли сперва совершить великое, потом уж сесть за стол?
— Да вы ж, чай, проголодались? — возразил старик. — Сколько времени шли-то до нас, небось, не час и не два?
— Много больше, — поправил его Петр.
— Ну, то-то вот, — покачал головою старик. — А вблизи ни деревень, ни выселок нету. Голода негде было заморить. Садитесь-ка, да похлебайте водицы с лучком. Хлеб-от недавно печен, хо-ороший. Можно, ежели вы пьете, и квасу достать с погребицы. Эй, Настя, сбегай-ка на погребицу...
— Благодарим, благодарим, — удерживая побежавшую было девушку, сказал Трифон, — по нас и хлеба с водою и луком довольно. Хлеб да вода — самая хорошая еда, самая здоровая...
— Квас то сытнее...
— Не хлебом единым жив человек, — возразил старику Трифон и добавил: — Итак, помолимся, братья и сестры, Господу Богу. Может, дойдет наша молитва до Престола Всевышнего и Он, Всемогущий, Всемилостивый, исцелит болящего.
— Помолимся, помолимся! — отвечали с готовностью все находившиеся в избе в один голос.
Трифон, Петр и семья старика стали молиться. Они молились долго и горячо. Наконец, молитва окончена, и дорогие гости сели за стол. Накормив странников хозяева уложили их спать, започивали и сами. Все затихло в избе. Только сверчок чирикал где-то за печкою, да время от времени охал на полатях Иванушка. Со вторым петухом притих и он. Забылся во сне. Рассвет робко занялся на востоке, а уж в избе поднялись. Мать подошла к Иванушке.
— Ну, что, жалкой? — спрашивает, а у самой сердце бьется-бьется.
Иванушка улыбнулся.
— Полегчало за ночь, мамонька. Не горю, как с вечера. Отлегло, отлегло...
— Слава Тебе, Господи! — перекрестилась мать.
В семье все повеселели. Дошла молитва до Престола Всевышнего, и призрел Он, Всемогущий и Всемилостивый, на грешных рабов Своих! Все благодарят Трифона, все преисполняются глубоким чувством уважения и почтения к страннику-старцу и его спутнику. Между тем Трифон подходит к Иванушке, благословляет его и говорит: "Не отчаивайся, Иванушка, отчаяние — великий грех. Моли Бога, и Он подаст тебе здоровье. Живи по правде, по заповедям Христовым. Кто живет в Боге, тому легко жить, и жить, и умирать. Лучше, говоришь, тебе, полегчало. Так Господь хотел — Он милостив. Бог даст, к вечеру с полатей подымешься, а потом оправишься и вновь за честный труд примешься. Бог труды любит".
И всех утешал старец. Благословляемый, напутствуемый добрыми пожеланиями хозяев, вышел он вместе с Петром из избы и пошел по деревне. А деревня вся знала уже о приходе странников, людей Божиих, и слышала, что по молитве их стало легче угасавшему было Иванушке. Поэтому всюду их встречали приветливо, и умножалось число даров в пользу голодающих лопарей. Трифон с Петром пошли далее, в соседнее селение. Оттуда вернулись к своим, оставшимся ради сбора в ближнем городке. Передав инокам пожертвования, Трифон отправил их на Север. Был уже седьмой год на исходе с тех пор, как они ушли из Печенги. Еще год странствовать.
Переходя из города в город, из села в село, не обходил Трифон и боярских хором, в которых доводилось ему и утешать скорбных, и исцелять больных, и быть советником в важных вопросах.
Не запирались двери палат перед нищенствующими. Смело входили они на боярский двор. Челядь докладывала господам и вслед затем вводила "Божьих людей" в боярские хоромы. Случалось, что сам боярин первый замечал сирых гостей, и, не дожидаясь холопьего доклада, звал странников в жилище, где кормил, поил их и беседовал целыми часами подряд. А то проходили странники прямо в светлицу боярыни, и там-то уж рассказам конца не бывало. Замкнутые в четырех стенах, боярыни-то, случалось и боярышни, отводили душу в занимательных беседах со много видавшими на своем веку странниками.
Трифон, впрочем, не был похож на других странников и калИк перехожих. Он мало говорил и лишь о том, что заставило его странствовать по Новгородской земле. Он сказывал о лопарях, об обители, осиявшей дальний Север, о первых печенгских иноках, о том, наконец, что не иссякла Русь добрыми делами. Сдержанность, серьезность придавали его словам особенную значимость, а истинно подвижническая жизнь свидетельствовала о величии старца.
В боярских домах пожертвования в пользу лопарей текли обильно.
ВидЕние Грозного
Восемь лет миновали. Трифон возвратился на Печенгу. Благодетеля своего и избавителя от голодной смерти-лопари и печенгские иноки встретили радостно. Обитель устроена. Но неспокоен еще Трифон. Не дает ему покоя мысль, что в будущем обитель может подвергаться всяким напастям со стороны властей. Оградить Печенгский монастырь от этих случайностей становится заветною мечтою апостола далекого Севера. Это последнее, что надо сделать для обители. Конечно, придется в третий раз покинуть тундру, но разве можно останавливаться перед трудностью путешествия, когда дело касается святыни, когда необходимо укрепить ее благосостояние? Кто-нибудь другой, но не Трифон, может ставить собственные удобства выше братских, выше благополучия обители и тех, кто удалился в нее от мирской суеты. Отложить путешествие Трифон также не может. Куда же надобно отправляться ему? Кто может оградить обитель от случайностей на вечные времена? Надобно идти в Москву. Царское слово — только оно и в силах оградить.
Шел 1573 год.
Трифон в это время был уже 78-летним старцем. Преклонные лета не давали возможности откладывать на завтра то, что можно было сделать сегодня. Болезни подкрались давно уже и могли уложить его на смертный одр, так что пришлось бы расстаться с мыслью об исполнении заветной мечты. Трифон глядел вперед, стараясь предусмотреть неприятное и предохранить от этого новую обитель. Медлить нельзя, говорил он себе, надо идти в Москву. Надо, надо. Надо просить царя оградить святыню от бед, хотя бы и мимолетных, и малых. Царское слово — закон. Царское слово — вернейший и надежнейший оплот. Это щит, которого не пробить никакой стреле произвола и насилия. Царь благочестив, думал инок. Благочестие — опора его. И наша. Царь щедр на дары обителям, сознавая, что иноки — истинные молитвенники об оставлении людских грехов вольных и невольных. Правда, и до северной тундры доходили слухи, будто переменился царь Иоанн Васильевич. Омрачилось чело его. Сдвинулись брови сурово, и взгляд его царский не изливает более той доброты, как при покойной царице Анастасии. Грозен стал Иоанн. Но для кого грозен, и то сказать? Ведь для мирян. Для бояр, для народа для кого угодно, только не для монаха.
Монах не от мира сего, лукавого, греховного, суетного. Иноческий чин — что ангельский. Отголоски земных страстей не долетают до честной обители. Она, словно небо, далека земли… И Грозный милостив к инокам. С ними он как равный с равными... Если же и прогневается на него, Трифона, так ведь царский гнев как бы отцовский. А отец рассердится на сына, да скоро и смилуется. Свое чадо-то, свое родное. Впрочем, за что ж на него, Трифона, и прогневаться царю? Нищ он и убог, криво не мыслит и таким возжелал быть, что среди равных стал меньшим. Мог бы быть господином, а он для всех слуга. И к царю Грозному вот теперь собрался не ради того, чтобы ходатайствовать о привилегиях для себя, а о покровительстве для ближних своих, для тех, кто переживет его, и для будущих, будущих иноков. А ему, семидесятивосьмилетнему старцу, много ли надо? У него все есть, что может иметь смиренный инок: келия, кусок черствого хлеба, кружка воды, убогая постель, а над нею изображение распятого Спасителя. Это все — и сверх этого ничего не надо. Ничего, ничего. Все помыслы инока сводятся к подвигу, посту и молитве. В них смысл монашеского существования. Они — ключи к вратам Царствия Небесного. Но для обители требуется гораздо большее. Обитель ведь целый мир, великий мир, которому необходима прочная основа для благополучия и процветания.
И Трифон идет в Москву. С ним — настоятель Соловецкого монастыря.
Москва времен Иоанна Грозного во многом изменилась в сравнении с тем, какою была до XVI столетия: она и приукрасилась храмами, и обстроилась домами. Однако о красоте "царствующего града" еще рано говорить. Царствование Иоанна Грозного, по словам историка И.М. Снегирева, не ознаменовано успехами в гражданской архитектуре, которой более покровительствовал Борис Годунов. Войны, пожары, моровое поветрие, многие опалы на бояр и на земщину, частое отсутствие царя в столице были причинами того, что от его времени осталось мало памятников гражданского зодчества, в то время как Борис Годунов (пользуюсь языком Никоновой летописи) "Москву, яко некую невесту, преизрядною лепотою украси и величества ради и красоты проименова Царь-град".
Воитель Иоанн Грозный уделял внимание литейному делу. При нем было отлито много колоколов и пушек, в том числе знаменитый дробовик "Царь-пушка". А так как русский человек без Бога ни до порога, то Иоанн Васильевич заботился и о построении церквей и о их благолепии. В ряду наиболее известных — величественный храм Василия Блаженного, что близ Кремля, и Китайгородские соборы. Церковные маковки поднялись над Москвой.
Царь Иоанн обратил внимание и на церковную живопись. В дальнем Сольвычегодске возникает новая живописная школа, которую создают знаменитые Строгановы — "строгановский пошиб отличается точностью обрисовки, тщательностью отделки мелочей и доличного, разнообразием в лицах, яркостью красок и, наконец, золотою иконописью". Но Строгановы — что! В самой Москве появляются такие изографы, как Феодор Ухтомский, Феодор Едикеев, Дионисий Изограф. Святители-митрополиты занимаются иконописным делом, возвышая его своим саном.
Новым повеяло. Устами владык и царя "Стоглав" предписывает: "с превеликим тщанием писать образ Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Богоматерь, и святых пророков, апостолов, священномучеников и мучениц, и преподобных жен, и святителей, и преподобных отцов, по образу и подобию, по существу, смотря на образ древних живописцев, и знаменовать с добрых образов, а святителям таковых живописцев беречь и почитать паче простых человек. Чтобы святые и честные иконы и бытейское письмо были не на соблазн миру, но во утверждение православию, и в просвещение и умиление! От самопомышления и своими догадками Божества не описывать!"
Какие споры велись по поводу иконного писания! Сам Иоанн Грозный стоит на страже Святой Церкви и упорно отклоняет все, что противно духу православия.
Помимо церквей, Москва не отличалась ни пестротой, ни особенным разнообразием или красотою зданий. Путешественники-иностранцы сравнивали ее по величине с главнейшими городами Западной Европы, но дальше этого сравнение не шло. Улицы составлялись преимущественно из деревянных домов и домишек. Точнее, это были брусяные избы. Печь в них заменялась очагом, освещение было лучинное. Избы крыли соломою. Окна реже были слюдяные, чаще слюду заменяли бычий пузырь и намазанный маслом холст. Через низкие двери москвичи входили в сени, не забывая при этом пригнуться; из сеней лесенка вела вниз в амбар, где сберегалось всякое добро, над которым находилось жилище. Уютом отличались только дома зажиточных москвичей. Мостовых и в помине не было. Летом на улицах росла трава, а зимою лежали снежные горы. Дом от дома, изба от избы отделялись или плетнем, возле которого росла всякая сорная трава, или фруктовыми садами, где летом щебетали птички. Выделялся лишь царский дворец. Все, что изобретал и изобрел уже человеческий ум в области зодчества, всякие вычурности и украшения не могли не коснуться царского дворца.
Утро.
Успеньев день.
Солнце поднявшись над городом, золотило Москву, играя своими лучами на маковках церквей, на кровлях домов, и красило день догорающего лета. Колокольный звон повис над городом. От густых, гулких звуков вздрагивал воздух.
Окруженный боярами, царь Иоанн Грозный шествовал в Успенский собор к обедне. Малюта Скуратов, Басманов, Вяземский — все любимцы покорителя Казанского и Астраханского царств — плотным кольцом окружили его. Глаз не спускали с Иоанна. А он шел, сдвинув густые брови и наклонив несколько вперед голову, много переживший на своем веку. Было сурово царское лицо, на котором лежал отпечаток преждевременной старости. Продолговатый, заостренный нос придавал выражению лица только больше хмурости, как и редкая, короткая с сединой, борода.
Царь был в драгоценном одеянии. На бармах (оплечье из золотой парчи со священными изображениями) сияло солнышко. Тяжело опираясь на посох, безмолвно взирая по сторонам, Иоанн шел, видимо, погруженный в раздумье, которое было чуть ли не постоянным его спутником и другом.
Легкий, отрадный сон и спокойствие, красящее жизнь, были утрачены вслед за тем, как умерла царица Анастасия. Словно с нею ушло все, все хорошее, светлое, радостное, точно с нею вместе земля поглотила тепло и свет Иоанновой души.
Никто не осмеливался сейчас прервать царского раздумья.
Нервной, торопливой походкой шел царь.
Вдруг он вздрогнул, в глазах его отразился не то испуг, не то удивление. Он остановился и торопливо произнес:
— Кто вы?
Никто, кроме царя, никого не видал. Опричники с изумлением смотрели на Иоанна. Кого-то видит он, к кому-то обращается с вопросом. К кому же? Кто эти неизвестные? Бояре озираются по сторонами. Все свои кругом. Ни одного пришельца таинственного. А царь между тем с кем-то разговаривает... Сон наяву. Впрямь — диво дивное.
Малюта Скуратов было приблизился к Грозному.
— Государь, — начал он.
Но Грозный отстранил его посохом.
Отойди, — отвечал он, — Малюта... дале дале…
Кто вы? — повторил он прежний вопрос трепетным голосом.
Окружающие пожимали плечами. Недоумение их росло. Все переглядывались между собой. Кто перед царем? Кто? Тени ли выходцев с того света, страшные, костлявые, ужасающие выражением своего лиц, или другие кто — незримые, лучезарные жители горних, райских высот?
Перед Грозным стояли на пути два инока. От одного из них, у которого была длинная седая борода, исходили как бы лучи. Они стояли рядом. Их лица светились, глаза сияли кротостью. Ни утомления, ни страсти не было на их старческих лицах. Иноки низко поклонились царю.
На вопрос, дважды повторенный: кто вы? — Грозный услышал:
— Один из Соловецкого монастыря, другой — из Кольской округи, провозвестник проповеди Христовой лопарскому народу и устроитель церкви Живоначальной Троицы, что на реке Печенге, смиренный Трифон.
И исчезли.
Грозный подался всем телом вперед, словно хотел удержать старцев, но их уже не стало. На дряблых щеках царя вдруг вспыхнул румянец, тревожно горящими глазами обвел он окружавших его опричников и бояр; царь дрожал, как в лихорадке.
— Вы видели? — спросил он с трепетом, ни к кому в отдельности не обращаясь.
— Никого не видели, государь, — отвечали несколько голосов.
— Но они стояли предо мной! — произнес Иоанн настойчивым голосом.
Окружающие вопросительно глядели на него.
Никто не осмеливался уже, подобно Скуратову, приблизиться к государю и спросить, кто они?
И тайна покрыла встречу.
Грозный вошел в Успенский собор под впечатлением только что происшедшего. Предаться молитве он не мог, не мог отрешиться от земного и воспарить мыслью к небесам, где нет страстей, откуда не доносятся до слуха царского ни слезы, ни стоны, ни жалобы, ни мольбы. Став в соборе на обычном для себя месте, царь хотел всем своим существом погрузиться в богослужение, и не мог. Он пробовал подпевать клиросу, повторять диаконские возгласы; он страшился как будто чудесной встречи с иноками, не зная, чего они хотят, зачем стали на его пути. Хотели просить о чем-то? Хорошо, если так. Но, может быть, затаили укор?
Охваченный душевным трепетом царь терялся в догадках…
Царские милости
Тем временем как царь Иоанн сам не свой стоял в Успенском соборе, Трифон с настоятелем Соловецкого монастыря подходили к Москве. Великий путь был пройден. Усталость давала о себе знать, но оба подвижника не обращали на нее внимания. Как и Трифона, соловецкого настоятеля занимала одна мысль: что-то встретит их в Москве.
А Москва все приближалась.
Из-за зеленых лесов и садов выплывала она, подставляя солнцу кровли домов и церковные колокольни. Уже показался Кремль, опоясанный белыми стенами с зубчатыми башнями и стрельницами, уже словно шли навстречу инокам посады, над которыми сияли церковные кресты. Ближние вливались в дальние посады, укрепленные решетками и рогатками, обнесенные оградой из прочного дерева. Ворота, как темные пасти, зияли в них, вознося башни к лазури небес.
— Вот она, Москва! — сказал Трифон и стал истово креститься, опустившись на колени. Спутник последовал его примеру.
— Помоги нам, Всещедрый!
— Вложи согласие в уста государевы!
Иноки молились долго и пламенно. Праздничный благовест плыл к ним от города — малиновый, сладостный. Все колокола, сколько их было в городе, оглашали округу перезвоном и этот говор уносился за леса, за поля, за пригорки и таял на просторе, куда уже не долетал московский гул.
Но хотя и приближался стольный град, однако идти до него надо было еще несколько часов, и не ранее, чем к вечеру, мог он принять гостей. Старые ноги не крылья: не очень-то быстро несут вперед.
В виду города иноки присели отдохнуть на траве, уже начинавшей желтеть, на пригорке, где гнездился кустарник. Тонкая, прозрачная паутина тянулась от сучка к сучку орешника.
У обоих иноков с собой челобитные. Заговорили о Москве. Все надежды на нее. Она одна вольна вознести дальнюю лопарскую обитель или оставить ее на произвол судьбы. Что-то Бог даст?
— Смилуется надежа-государь, — говорил соловецкий настоятель.
— Сердце царево в руке Божией, — говорил в ответ апостол Севера.
— Любит он обители и печется о благе иноков своих…
И повелась беседа о том, как щедро Грозный оделяет монастыри всем: и вкладами, и угодьями, и утварью. Ведает государь, что за монастырскими оградами, вдали от мирского суесловия, возносится пламенная молитва о его царском здравии и спасении в будущей жизни. Долго беседовали так далекие гости; отдохнув, опять побрели.
День переливался в вечер, когда они достигли дальнего посада. Город принимал их в свои пределы.
За посадом — прямо муравейник! Дом за домом, дом над домом, дом возле дома. Ближе посада, отделяясь от него глубоким рвом, тянулись, казалось, без конца в даль и ширь огороды, на которых еще краснела морковь, завивался горох, топорщилась репа. Раскидистая яблоня нависала над грядами, свешивая сочные яблоки, еще не успевшие очутиться на зубах у детворы, которая где-то шумела, а где — за плетнями не видать.
Старый престарый огородник, увидя иноков, проходящих мимо, окликнул:
— Здорово, Божии люди!
На приветствие они отвечали поклоном.
— Зашли бы ко мне в убогую горенку, богоданные! Чай, умаялись. Издалеча, знать, бредете... — продолжал огородник.
— И то издалеча.
— Ну, то-то...
— Спаси Господи, зайдем, добрый человек.
— Отдохнете, подкрепитесь, чем Бог послал.
Иноки завернули к огороднику. Узкая дорожка между гряд привела их к крылечку, которое, в свою очередь, вводило в горенку, бедную, но чистую. Полумрак глядел изо всех ее углов и хотя отчасти скрывал бедноту.
Гостеприимный хозяин усадил иноков в передний угол и, потчуя, стал расспрашивать, откуда они.
— Давненько я живу под Москвою, — говорил огородник, — немало хаживал по городским улицам. И всех иноков, что на Москве, ведаю, а только вас доселе не встречал...
— Мы от моря Студеного, — отвечали гости.
Хозяин слыхал о море Студеном... Далече, мол, оно... Сказывают, кипит-шумит там, где живут люди с песьими головами, летают птицы неведомые, бродят звери лютые, каких православному человеку и видеть не дано.
— Ужель оттудова вы, Божии люди? – изумился огородник и смерил иноков с ног до головы. Знать, в старческую голову закралось недоверие.
— Оттудова.
И иноки постарались разуверить старика, что никаких людей с песьими головами у моря Студеного нет, птицы неведомые не летают, звери диковинные не водятся, и люди, и птицы, и звери там такие же, как везде. Народная молва сочиняла сказки, и только доверчивые этим сказкам верят.
Отдохнув, подкрепив силы, Трифон и соловецкий настоятель поднялись с лавки, чтобы уходить. Старик оставлял их ночевать, но они решили добраться до московского монастыря и заночевать уже в келие у какого-нибудь инока.
Совсем стемнело.
Пожалуй, и любой бы боярский двор с превеликой радостью принял иноков: таким гостям бояре всегда были рады, не говоря о боярынях... У боярина ли Стриги, Семенова, Савостьянова, Тучкова, у князя ли Телепни-Оболенскаго, даже во дворе самого казанского царя Сафагиреевича — всюду ожидали Божиих людей, за мир грешный молящихся, привет и ласка. Но и Трифон, и соловецкий настоятель предпочли удобству боярского гостеприимства иноческую убогую келию в Златоустовском монастыре.
Ночь прошла.
Еще до благовеста к обедне, рано-рано поднялись они и отправились к Успенскому собору поджидать царского выхода. Челобитные заготовили, торопятся занять места подле паперти церковной, где нищие и слепцы располагаются. Конечно, не пили, не ели. Утро мало-помалу теряет свой румянец, солнце всходит, но всходит как-то робко, медленно — не по-вешнему. Утренничек, правда слабый, приятно бодрит. Дрожь пробегает по телу, но такая приятная дрожь. Откуда-то доносятся пастушьи рожки, где-то лают собаки; пробуждаются пернатые: их хор уже славит Творца.
— Хорош город Москва! — думает Трифон, и ему вспоминается его путешествие в Великий Новгород с Ильмариненом. Как он тогда дивился новгородской пышности да благолепию новгородских церквей! Посмотрел бы на Москву лопарь, больше бы стал изумляться.
И в то же время как стрела мелькнула мысль о родном Торжке. Но только мелькнула и пропала, как зарница в синеве вечерних небес. Далеко Торжок. Далек он от него, Трифона. Порвалась цепь, связывавшая обоих. Некогда дорогой звук отдается в ушах глухо, безразлично, не волнуя ни сердца, ни ума. Никого ведь из сродников там не осталось в живых. Могильные холмы на городском кладбище скрыли милые черты дорогих, близких, родных лиц. Мира, открывшегося в детстве Митрофану, не стало. Он словно угас. Взамен него открылся новый, непохожий на угасший: он в гранях небес, или небесного. Земля как бы боится приблизиться к нему со своей суетой.
Опять благовест поплыл над Москвой.
Всколыхнулась престольная.
В Кремле, в ожидании царского выхода, собрался народ. Затянули "Лазаря" слепые, заголосили нищие и убогие, и калИки. С каждой минутой росла и росла толпа, и к тому моменту как выйти царю Иоанну из дворца, площадь представляла собой целое море голов. Трифон и соловецкий настоятель остановились у соборных дверей: царь, проходя в храм, не мог не заметить их. Легче нельзя было подать ему челобитные.
Вот и государь шествует. За ним все те же приближенные, что и вчера. Те же выражения лиц, те же одежды. Только один новый человек. Он совсем еще юн. Он идет ближе к царю и одежда его — не боярская. Так одеваются только царевичи. Это и в самом деле царевич Феодор. На лице его с бледным румянцем написана кротость. Кротость и какое-то чисто иноческое смирение. Поглядеть: будто бы царевич не из дворца вышел, а из келии. Снял монашеский подрясник и облачился в пышное, златотканное одеяние, не себе в удовольствие, а кому-то другому. Он не земной житель. Его захватил церковный благовест. Волны звуков, тающих в поднебесии, словно колеблют небесный свод, и он разверзается, и в синеве его видятся только одному ему, царевичу, небожители, в светлых ризах, светлокудрые... И ни на кого не взирает Феодор. Его мысли там — в бездонной глубине, где по ночам звезды кроткие сияют...
Иоанн Грозный, тяжело опираясь на посох, неторопливо идет, раздавая милостыню направо и налево и испытующим оком оглядывая народ. Слепые славят царя — покорителя Казанского царства. Царь внимает, но он по обыкновению мрачен. Это мрачное спокойствие... Таков уж Иоанн!
Феодор равнодушен к словам, доносящихся из уст поющих слепцов, но его жалобят самые голоса их, надтреснутые, хрипловатые, надрывчатые.
Он обернулся к Малюте.
Скуратов подался к нему.
— Дай им... — сказал Феодор, протягивая пригоршню монет.
Скуратов поклонился, вымолвив:
— Тотчас, царевич.
И милостыня царевича растеклась по жилистым, мозолистым рукам, которые потянулись со всех сторон, едва только Феодор опустил руку в кошелек.
Вдруг из царских уст вырвалось:
— Опять вы?!
Грозный ступил на паперть и увидел двоих иноков. Трифон и настоятель преклонили колена и, низко кланяясь царю, подали челобитные.
— Вы?! — повторил Грозный как-то растерянно.
Он взял обе челобитные и передал их Феодору. Грозный с недоумением смотрел на монахов.
Трифон осмелился:
— Повели, благочестивый государь...
Царь прервал его взволнованно:
— Видел вас вчера, а теперь иду к Божественной литургии.
И царь вошел в собор. Опричники последовали за ним. Феодор, оттиснутый, остался на минуту на паперти. Он посмотрел своими задумчивыми глаза на монахов, и сердце царевича вдруг как-то забилось-забилось, он ощутил в себе какую-то особенную теплоту. Между ним и этими неведомыми иноками сразу установилась незримая связь.
— Кто вы? Откуда? — дрожащим голосом спросил Феодор иноков и, услышав ответ, добавил: — Зачем пришли?
Трифон сказал.
— Благослови меня, муж праведный, — и Феодор склонился пред старцем для благословения.
Затем он вошел в соборный притвор и торопливо снял с себя златотканое одеяние.
— Стрига, — обратился он к седобородому боярину, — Стрига, поди и отдай, в ней я шел, одежду мою странному иноку Трифону и скажи ему: благоверный-де царевич послал тебе свою одежду — да будет его милостыня прежде всех. Пусть он переделает эту одежду в священническое облачение. Стрига, я вижу в нем мужа праведного!
Стрига в точности исполнил царевичеву волю.
— Благодарю Бога, в Его же деснице сердце царя и царевича! Земно ти кланяюсь, боярин! — отвечал Трифон, умиленный.
После обедни Феодор торопливо отправился к старшему брату своему, царевичу Иоанну и поведал ему о встрече с иноками и о том, что он пожаловал праведному мужу Трифону свое драгоценное одеяние.
Покуда Феодор беседовал с Иоанном и предлагал братцу принести инокам дар и вместе с ним, Феодором, умолять отца пожаловать щедро и Трифона, и соловецкого настоятеля, собиралась Дума. Оповестили бояр, что угодно царю подумать с ними.
Оба царевича — Феодор и Иоанн, приступили к батюшке с просьбой. Грозный приласкал их и обещал великодушно одарить странных иноков.
Дума собралась. Дьяк прочитал челобитные Трифона и соловецкого настоятеля.
— Чем пожаловать их, сказывайте, бояре! — промолвил Иоанн, — Думайте да молвите. Видел я тех иноков вчера, и сказал мне тайный голос, что оба странные иноки — мужи достойные. И не о себе они пекутся, а о нуждах обителей своих.
— Полно, так ли, государь? — отозвался первым матерый боярин, — Изволил ты, надежда-государь, вымолвить, что будто видел тех иноков вчера. Сегодня, государь-батюшка, их точно что видели, а вчера-то никого.
Грозный сдвинул брови, сердито посмотрев на боярина.
— Зря говоришь! — сурово произнес он. — Я с ними довольно разговаривал вчера. — И, окидывая всех глазами, в которых вспыхивал недобрый огонек, Грозный добавил. — Вы ль, бояре, не видели?
— Голос твой слышали, государь, иноков же отнюдь не видели и голоса их не слыхали.
Царь ударил оземь посохом.
— Как не слыхали?
Гневное царское слово, как гром, отдалось в палате.
— Как вы не слыхали?
— Бог свидетель, правду молвим, государь...
Грозный не слушал.
— Эй, сыскать иноков и пред наше царское лицо поставить! — повелел он.
Сыскали Трифона и Соловецкого настоятеля и поставили пред государев лик.
Вспыхнул и побледнел Иоанн, побледнел и вспыхнул вновь:
— Вы ли вчера со мной говорили? — глядя в упор, спросил он монахов.
Трифон и настоятель выразили недоумение.
Грозный широко раскрыл глаза:
— Аль не говорили? — произнес он тише, но так, что в его голосе слышно было недоверие.
Трифон отвечал:
— Нет, великий государь, вчера мы и в царствующем граде не были. Многими свидетельствуемся.
Грозный содрогнулся:
— Многими... свидетельствуетесь?..
— Свидетельствуемся, государь, яко сегодня только увидили тебя.
Грозный пожимал плечами. "А с кем же говорил я вчера? Ведь не обманывали же меня собственные глаза! Ведь именно этих двух иноков зрел я вчера, и на том самом месте, на котором они стояли и сегодня! Не видение же это было? Или видение, одно из тех, которые так часто посещают меня?" Царь терялся в догадках.
— Так вас не было вчера?
— Не было, государь.
— Бояре... — начал было царь и остановился. Он задумался на какое-то время, но потом торопливо заключил:
— Ладно. Ин быть так. Так Всевышний хотел.
Наступило молчание. Царь нарушил его.
— Чем пожаловать благочестивые обители, бояре? — сказал он. — Молвите, а я Богом свидетельствуюсь, что хочу всею душою и всем сердцем щедро наградить их. И царевичи к тому нас умоляют.
Дума заговорила. За решением дело не стало. Не впервое доводилось осыпать милостью и щедротами обители. И раньше многократно бывало.
— Так решено?
— Решай сам, великий государь.
— Читай, дьяк, — повелел Иоанн.
Дьяк прочитал решение думы, скрепленное согласием царя:
"По умолению детей своих, царевичей Иоанна и Феодора, пожаловали мы царского нашего богомольца от Студеного моря-океана, с Мурманского рубежа, Пресвятой и Живоначальной Троицы Печенгского монастыря игумена Гурия с братиею, — или кто в том монастыре игумен или братия будет, — вместо руги (содержания) и вместо молебных и панихидных денег для их скудости на пропитание, в вотчину: морскими губами Матоцкою, Илицкою и Урскою, и Печенгскою, и Позренскою, и Нявдемскою губами в море, всякими рыбными ловлями и морским выметом, коли из моря выкинет кита, или моржа, или иного какого зверя, и морским берегом, и его островами и реками, и малыми ручейками, верховьями и топями, горными местами и пожнями, лесами и лесными озерами и звериными ловлями, и лопарями, которые лопари наши данные в Матоцкой и Печенгской губах ныне суть и впредь будут, со всеми угодьями луговыми и нашими, царя и великого князя, денежными оброками и со всеми доходами и волостными кормами, чтобы тем им питаться и монастырь строить, а нашим боярам новгородским и двинским, и Устькольской волости приказным, и всяким приморским людям, и карельским детям, и лопарям, и никому иному... в ту вотчину не вступаться".
Щедро одаренный царем, Трифон воротился в свою обитель.
Перед концом
Отныне Печенгский монастырь под царской жалованной грамотой. Инокам далекого Севера уже нечего бояться или беспокоиться о том, что ожидает их мирную обитель завтра. Появились угодья, рыбная ловля. Милостыня, собранная апостолом лопарской земли, приумножила монастырское благосостояние. Эта милостыня помогла инокам построить на Пазе-реке храм во имя святых Бориса и Глеба.
Обитель стала мало-помалу процветать.
Трифон исполнил заповеданное ему от Бога. Солнце завершало свой ход и закатывалось, но и закатываясь, оно посылало тепло и свет. Словом и делом служил братии старец. Это был любящий брат и учитель. Смирением начался подвиг, смирением же подвиг и заканчивался. Когда Грозный хотел назвать его в грамоте устроителем далекой святыни, Трифон умолил царя не делать этого.
— Я меньший из равных, великий государь!
— Но ты же воздвиг православие у моря-океана Студеного, честный отче!
— Упомяни, великий государь, имя достойного игумена Гурия, — стоял на своем старец, — а меня не надо. Что я? Слабый червь... Не моими трудами, а Божиим повелением создавалась обитель.
И царь уступил мольбе праведника.
А он подвизался, как простой послушник, исполняя всякие работы, хотя и приближался к столетию. Уже с лишком 80 лет были прожиты. Пост, молитва, труды по устроению обители составляли по-прежнему смысл его жизни. Не ограничиваясь церковной службой и келейной молитвой, он уходил из обители и где-нибудь на горе или в тундре молился целыми часами или предавался богомыслию.
Солнце медленно закатывалось...
Кто знает, может быть, смерть потому и подкрадывалась так медленно к подвижнику, что он служил "правилом веры и образом кротости" и на его примере крепла вера и приумножался подвиг остальной братии. Может быть, жизнь старца теплилась и теплилась потому, что обитель, пока жил Трифон, не должна была еще испытать на себе того, что суждено ей было пережить после его кончины и что апостол предсказал на смертном одре...
Но как бы то ни было, солнце веры закатывалось. Жизнь избранника Божиего угасала как свеча, и Трифон, идя навстречу вечности, стремился поучать и поучать иноков. Лопарь, который прежде назывался Ильмариненом, как бы предчувствовал уже близкую разлуку с наставником и старался быть ближе к нему. Он, как Мария у ног Христа, садился близ Трифона и слушал его поучения, и молился, и плакал вместе с ним, сокрушаясь о грехах своих...
С престарелым учителем лопарь уходил порой на маленькие островки, где стояли землянки и где жили иноки-рыболовы. А то они являлись в поселок Викид, где была гавань и куда, случалось, заходили иноземные корабли.
Корабли привозили в обитель необходимое для нее, а взамен увозили рыбу и лес... Там же строились лодки и карбасы. Трифон сам входил в переговоры с корабельщиками, помогал нагружать корабль, благословлял тружеников, насаждал в слабых душах заезжих людей благочестие.
И все чаще и чаще стал уединяться в своей келие.
Смерть, между тем, приступила. И вот уже, кажется, она близка, но как бы не решаясь сразу лишить жизни праведника, она сперва посылает свою сестру — болезнь, и та подкашивает старца.
— Значит, пора, — смиренно думает он.
Закат близок. Но проповедь веры, правды, евангельской любви и чистоты души, однако, продолжает все еще раздаваться как последний всполох солнца на закате.
Братия готовится встретить сумерки, с горечью ожидая часа прощания со своим смиренномудрым пастырем.
— Наставник наш оставляет нас...
Сдержанные рыданья и горькие слезы все чаще и чаще вторят шуму океана.
Кончина апостола Севера
Декабрьский день — темный, темный... Солнца нет. Темно и в келии Трифона. В маленькое слюдяное оконце робко пробивается свет и плавает на подоконнике, озаряя лишь краешек образа, висящего в переднем углу. Возле окна на стене Распятие. На полу разостлана рогожа, а на ней лежит, подложив полено под голову, старец. Измождено его лицо, морщины изрыли высокий лоб. Длинная седая борода покрывает грудь. Старец тяжело дышит. Печать какой-то особенной печали легла на его лицо. Бескровные губы шепчут слова молитвы.
А за окном воет ветер и Ледовитый океан ходит сердитыми валами, встревоженный северной бурею. Слышно, как шумят волны, как плачут они, разбиваясь одна о другую, пенятся и с ревом несутся вперед навстречу новым валам, встающим высокой стеной во мраке зимнего дня. И слышно, как кричит чайка, носясь над океанским простором, будто ищет она что-то и не находит и вторит своим криком стону седых волн, вольных, всесокрушающих...
Старец прислушивается к голосам океанской бури, шепчет, а брови его, густые, нависшие, сдвигаются сурово-сурово. Он один. Это апостол дикого Севера Трифон. Подвижник чувствует, что болезнь, которой он страдает уже давно, как бы уходит от него. Легче ему становится. Точно буря развеивает эту болезнь... С другой стороны, апостол также чувствует, что жизнь его тает и что недолго уже ему озарять собою северную пустыню. Келейник-ученик его пошел за игуменом и братией, с которыми умирающий хочет проститься. Чу, шаги... Это они. Действительно, отворилась дверь, и в келию входят игумен Гурий и братия. У игумена в руках чаша со Святыми Дарами.
— Пришли... — проговорил Трифон и приподнялся с пола. Кротким, проницательным взглядом окинул он всех их, и едва-едва заметная улыбка появилась на лице доброго наставника.
Одни из иноков опустились перед ним на колени, другие низко опустили головы. Кто-то тяжело вздохнул, кто-то не выдержал и глухо зарыдал.
— Я хочу... проститься с вами, — сказал Трифон спокойно. — Затем и звал вас, любимая братия моя...
Игумен Гурий заплакал. Плача, он вымолвил:
— Зачем, наставник наш, оставляешь нас сирыми?
Трифон кротко посмотрел на него и отвечал:
— Братия моя, не скорбите, и добрый путь течения моего не прерывайте. Все свое упование возложите на Бога. Иисус Христос, Бог и Спаситель мой, меня во всех приключавшихся со мною несчастиях не оставил, тем более не оставит вас, собранных во имя Его. Я же заповедую вам: любите Его, в Троице славимого, всем сердцем своим и всею душою своею, и всею мыслию своею.
Трифон умолк, с любовью посмотрел на всех и, поднимая правую руку, продолжал:
— Чадца моя! Любите и друг друга. Храните иночество честно и воздержно. Начальствования избегайте; вы видите — много лет не только своим, но и вашим нуждам послужили руки мои, и всем я был послушником, власти же не искал...
Силы оставляли апостола. Голос его звучал все слабее, прерывисто... Трудно дыша, Трифон продолжал:
— И еще молю вас — не скорбите о моей кончине. Смерть — мужу покой... У всякого человека душа в теле, как странник, пребывает некоторое время, потом уходит, и мертвенное тело вскоре же обращается в прах, ибо все мы, всякий человек — червь. А разумная душа уходит в свое отечество, небесное... Возлюбленные мои, стремитесь туда, где нет смерти, где вечный свет. Там один день лучше тысячи дней земных. Не любите мира и того, что в мире. Ведь знаете, как окаянен сей мир.
Трифон опять умолк.
А буря выла за окном и океан клокотал, вздымая холодные волны. Они вздымались горами, шли к берегу, точно желая поглотить его. Пеной обдавали прибрежные скалы. Казалось, волны сердились, не слыша ниоткуда ни отклика, ни жалоб, ни мольбы.
Расходился Северный океан. Будто злые духи — эти адские силы — собрались на холодном просторе и справляли свой шабаш, замышляя вместе с тем козни против людей. В вое ветра чудились голоса бесов, в плеске и шуме волн — их фырканье. Чудилось, это они пенили океан, и собирая кипень, кидали ее на берег, где стояла одинокая обитель. Кидали, чтобы смыть, стереть с земли ненавистное им...
Трифон повел рукою к оконцу.
— Слышите, братия? — сказал он.
— Это океан расходился, — отозвалось несколько голосов.
— Как океан, и мир неверен и мятежен, — продолжал Трифон. — Точно пропасти, в нем уловки злых духов; как ветрами, волнуется он губительною ложью и горек диавольскими наветами и точно пенится грехами и веянием злобы свирепствует. Враг только и думает о погибели миролюбцев, всюду простирает свою пагубу, везде плач. Наконец, всему смерть...
И умирающий старец склонил голову. "Смерть... всему смерть…" Да, она уже стояла за согбенными плечами апостола Севера и протягивала к нему свои худые, костлявые руки, чтобы лишить его жизни... Острая коса смерти виделась уже слабеющему избраннику Христа. И Трифон без страха, без волнения смотрел на эту развязку. Голос смерти слышал он, один. И не содрогался. "Смерть, ведь всему смерть…" Он слегка коснулся одежды игумена Гурия и произнес:
— Еще заповедую вам. Когда, по воле Божией, душа моя разлучится от тела моего, погребите меня у церкви Успения Пресвятые Богородицы, в пустыне, куда часто уходил я на богомыслие и безмолвие.
После этих слов Трифон попросил приобщить его Святых Таин. Братия стала на колени. Ученик умирающего Петр помог ему подняться с рогожки. Петр плакал. Но спокоен был сам старец. Только лицо его светилось, как будто отражая внутреннее торжество. Трифон стал на колени перед чашей со Святыми Дарами, и игумен Гурий приобщил его.
Всем стало вдруг как-то особенно отрадно. Горечь предстоящей разлуки навсегда с любимым наставником уступила место радости и умилению при виде причастника.
Братия облобызала умирающего.
И вдруг он, поникнув головою, горько заплакал!
Всех охватило крайнее недоумение... Все переглянулись между собою. Что это значит? Откуда слезы? Почему вдруг умиление старца сменилось горькими слезами? Не тоска же по жизни проснулась в нем? Не страх же смерти...
Взволнованный и удивленный игумен склонился к плачущему и сказал:
— Преподобный отче, ты нам запрещаешь о тебе скорбеть, ибо с радостью идешь к Сладчайшему Иисусу. Скажи же нам, отчего ты прослезился?
Умирающий не сразу отвечал.
Он довольно долго, как бы испытующе, смотрел на иноков и потом, переведя взгляд кверху, пророчески промолвил:
— Будет на сию обитель тяжкое искушение, и многие примут мучение от острия меча, но не ослабевайте, братия, упованием на Бога, не оставит Он жезла грешных на жребии Своем, ибо силен и паки обновить Свою обитель.
И обратясь к своему ученику-келейнику, добавил:
— Я хочу лечь... силы слабеют...
Иноки помогли ему лечь на рогоже. Снова просветилось его лицо. Холодеющие губы зашептали молитву... Через минуту старец скончался.
Игумен Гурий склонился над ним: всматривается, дышит ли основатель обители. Нет, не дышит...
— Братие... наш наставник... оставил... нас, — глотая слезы, проговорил игумен Гурий. И убогая келия огласилась рыданиями иноков.
Это совершилось 15 декабря 1583 года.
Умер и царь Иоанн Грозный. Меньше чем на год пережил он великого подвижника Севера. После его кончины престол наследовал кроткий царевич Феодор Иоаннович.
Однажды, во время войны со шведами за освобождение Нарвы, когда благочестивый царь почивал, явился во сне ему старец, высокий, согбенный, с большою белою бородой.
— Встань, государь, выйди из шатра, а то будешь убит.
Феодор спросил:
— Кто ты, инок?
— Я тот Трифон, которому ты подал свою одежду, чтобы твоя милостыня предварила другие. Господь Бог мой послал меня к тебе.
Царь Феодор открыл глаза. Проснулся. Огляделся — никого нет. Но сон был и он явственно предостерегал его от погибели. И царь поспешно вышел из шатра. Ядро из осажденной Нарвы ударило прямо в постель Феодора.
Чудо свершилось! Феодор горячо возблагодарил Бога за милость Его к нему, царю, и отправил в дальнюю Печенгскую обитель гонца, который бы нашел Трифона.
Гонец отправился. Вот он в обители.
Иноки радостно встретили царского посланца.
— Где праведный старец Трифон? Отведите меня в его келию, — просил он и услышал в ответ:
немало лет уже минуло, как праведный старец скончался.
Эпилог
Всех их, 116 иноков, шведы сожгли вместе с монастырем. Сожгли они также все постройки, церковь, большую часть имущества, скотный двор и мельницу. Сожгли также поселок под названием Викид, где была монастырская гавань, все карбасы и лодки, а оставшиеся в гавани суда изрубили на части. Итак, от монастыря не осталось ни одного строения, кроме бани, стоявшей невдалеке да двух землянок, находившихся на двух маленьких островках, куда шведы не могли проникнуть. (Из старинного датского документа)
Ни день, ни ночь. Хаос какой-то. Хаос, как накануне творения мирозданья. В двух шагах не видать ни зги. Стелится мгла по земле, подымается от земли, все заволакивает. Кажется, не стало моря Студеного, нет уже и гор, и земли. Исчезла тундра. Кто-то гудит, воет, не то плачет, не то стонет. Кто-то, чудится, носится в этом хаосе и извергает проклятия. Кто? Злой дух. Он стонет и сеет зло, преступления... У самого моря, в одном дне пути от Печенги, поставил свою вежу (шатер, чум) фильман (кочевой лопарь, владелец оленьего стада) Иван. Его сам преподобный Трифон окрестил; только он крестился из жадности, ожидая даров, и, не получив их, питал большую злобу и на преподобного, и на Самого Бога и продолжал жить как язычник.
И Бог, видно, от него отступил.
В 1589 году его оленям приходилось плохо, стужа сковала снега, олени каждый день издыхали от бескормицы, и стадо его таяло, как тает летом льдина на солнце.
Обозлился вконец лопарь Иван и начал думать, как ему возвернуть убыток. Думал, думал, запряг кережу (сани) и отправился в иную северную страну, в такое место, где, как он знал, живут зимой морские пираты.
Он предложил разбойникам довести их до Печенгского монастыря, чтобы ограбить его. Те обрадовались: давно точили они зубы на монастырь, да боялись и не знали дороги. Ивану атаман обещал 50 серебряных шведских монет да еще двадцать дал вперед. Злоумышленники надели пачеки (шубы, мехом наружу), вооружились, запрягли целую райду (олений поезд) кереж, двинулись и приехали на Печенгу в самый день Рождества Христова.
Сбылось пророчество умирающего апостола Севера. Явилось на обитель тяжкое искушение, наступал час многим принять мучение от острия меча.
Вот что было дальше, как то записано и передано лопарским преданием. За два часа до нашествия разбойников 51 человек братии и 65 послушников после обедни сели за стол в трапезной, а отец настоятель, прежде нежели благословить трапезу, взял святую книгу и только что раскрыл, чтобы прочесть ее именно в том месте поучения, где у него была закладка, как побледнел, зашатался и упал на землю.
Братия подумала, что он ослаб от воздержания. Один из них подбежал, чтобы поднять настоятеля, как вдруг вскричав, закрыл лицо от страха. Все поднялись и увидели с ужасом, что там, где лежала закладка в книге, кровавыми буквами появился помянник по новопреставившимся убиенным и следовал список их имен, начиная с имени настоятеля обители.
Поднялся плач и смятение, но настоятель повелел всем идти в церковь и там вместе с братией пал пред иконами. В это время подъехали разбойники, стали ломиться в двери освещенного храма и, окружив деревянный монастырь, подожгли его со всех сторон. Между иноками был один богатырь, бывший воин. Взглянув в окно и увидев, что разбойников не больше 50, он стал просить настоятеля благословить его и других самых молодых и сильных иноков защищать обитель, так как у них-де есть топоры и ломы. Но настоятель сказал:
— Нет, это воля Божия, о ней пред своей кончиной, не упоминая часа, предсказал преподобный Трифон, а потому нельзя ей противиться и необходимо беспрекословно уготовиться принять мученический венец.
Услыхав эти слова, братия смирилась и смолкла. С горячей молитвой пали иноки ниц пред алтарем.
В это мгновение ворвались разбойники, но ни один из монахов не пошевелился, не ответил на вопрос о монастырских деньгах и имуществе. Злодеи будто озверели, и иноки все до единого приняли мученическую кончину, не поднимая головы и с молитвою на устах. Перебив всех, разбойники бросились искать добычу, грабить утварь и монастырь, но нашли очень мало, так как монахи, ведя скромную, богобоязненной жизнь, о накоплении земных благ не заботились. Между тем пожар охватил всю обитель, и грабители, боясь сгореть, поспешили выйти из церкви, взобрались на соседнюю гору и стали делиться, причем Ивану досталась серебряная святая чаша, которую он, трясясь от жадности, спрятал за пазуху.
Стоя на горе, злодеи ожидали, когда загорится деревянная церковь, но огонь пылал кругом, оставляя нетронутой ее. Вдруг в воздухе над пылающим монастырем показались три белоснежных лебедя.
В смятении разбойники стали спрашивать друг друга:
— Откуда эти лебеди? Теперь зима, а зимой их никогда еще у нас не бывало.
А лебеди поднимались над горевшим монастырем все выше и выше и вдруг образовали на небе золотой круг, загоревшийся ярче самого пожара. Затем из охваченной пламенем церкви стали вылетать одна за другой 116 белых как снег птиц, размером с чайку, только красивее ее, подниматься вверх и сливаться с золотым кругом, который разгорался и расширялся так, что стало глазам больно смотреть на него. "Видно, большой грех учинили мы, пролив праведную кровь!" — вскричал испуганный атаман, и они все разом в великом смятении бросились с горы к своей райде и погнали прочь оленей. Долго неслись они, совсем замучив оленей, а наутро стали перебираться в Норвегию. Иван, не доверяясь разбойникам и боясь быть ограбленным, ехал шагов на пятьсот впереди их на сильном олене, а за ним тянулась райда с разбойниками и добычей. Вдруг на самом крутом месте задний олень споткнулся и вместе с санями и седоком полетел в пропасть, потащив за собою все остальные привязанные ремнями друг за друга кережи с их седоками. Полные ужаса и отчаяния крики огласили воздух; адским хохотом отвечал злой дух из пропасти, а ему громко и бесконечно вторило насмешливое эхо гор.
Вздрогнул и оглянулся ехавший впереди Иван; видит, все разбойники вдруг пропали из вида. Повернул он оленя и бросился назад, но у обезумевшего от страха животного шерсть встала дыбом; закинув рога на шею и не слушаясь более хозяина, бросилось оно в сторону и как раз на том же месте сорвалось и полетело в пропасть. Долго летел вниз Иван и упал на что-то мягкое. На небе горели всполохи (северное сияние); при их свете увидал он, что лежит на куче своих разбитых и окровавленных спутников, а под ним шевелятся их руки и ноги, поднимаются головы и молят о помощи; кругом целая стая волков с жадностью рвет еще живых и пьет их кровь. С алчностью накинулись ближайшие волки и на еще живого оленя.
Иван с отчаянием выхватил нож и, поражая бросавшихся на него волков, в ужасе кинулся стремглав по ущелью. Долго бежал он и очутился наконец в тундре. Кругом лес, посредине прогалина, а на ней большой, высоко и широко бьющий из земли ключ. Обрадовался ему Иван; изнывая жажды, он вытащил из-за пазухи серебряную монастырскую чашу, зачерпнул ею воды и жадно поднес к губам, но вода оказалась теплой, красной. Попробовал — кровь!.. С ужасом бросил он чашу в воду, а она не тонет, стала на воде стоймя и сияет, как огненная, а внутри кровь горит, как рубин. Волосы поднялись у христопродавца, глаза полезли из орбит; хочет перекреститься — рука не двигается, висит как плеть. Но вот поднялся из ручья водяной столб и осторожно понес чашу к небу; как солнце, горела в воздухе святая чаша; кругом сразу сделался светлый летний день, пока Сам Господь не протянул десницу и не взял чашу в Свое святое лоно. Тогда опять все померкло, наступила темная ночь; с ревом обрушился поднявшийся до неба водяной столб, охватил мертвого Ивана, завертел и втянул в подземную пучину.
И теперь в Норвегии за Варангер-фиордом есть, говорят, бездонное озеро, воды коего до сих пор имеют красноватый цвет. Никто: ни человек, ни дикий олень — не пьют этой красноватой воды, а из середины озера поднимается большой желтоватый камень имеющий форму чаши. Нет в этом озере рыбы и не живут на нем птицы; оно не замерзает зимой. Только раз в год, на самое Рождество Христово прилетают к нему три белоснежных лебедя, плавают в его воде, садятся на камень, затем поднимаются и исчезают из глаз.
До конца сбылось пророчество преподобного Трифона. Бог "не оставил жезла грешных на жребии Своем, ибо силен и паки обновил Свою обитель".
И она красуется ныне в далекой северной пустыне, венчанная горами, уходящими в бледную синь полярных небес.
А к юго-востоку от нее — Колокольное озеро. Рассказывают: ограбив монастырь, разбойники повезли через это озеро колокола, но лед подломился и колокола потонули. В ясные ночи, хоть и редко, — если верить лопарям, оттуда, из глубоких недр, доносится глухой, таинственный звон. Он как бы напоминает потомкам о кровавом, страшном деле их предков в ночь на Рождество Христово 1589 или 1590 года...
Молитва преподобному Трифону Печенгскому
О Всесвятыя Троицы богоугодниче, о блаженнейший и равноапостольный пастырю, преподобне отче наш Трифоне! Не забуди паствы твоея, но поминай нас во святых твоих и богоприятных молитвах; стадо же твое, еже сам, по благовестию от Ангела, пришествием твоим собрал и упасл еси, сохрани и защити. Вемы бо, угодниче Божий, како в сродстве твоего мирскаго жилища, во свястей Церкви поющия слышал еси; пустынным живот сокровен есть, божественным рачением воскриляющимся. И того ради божественною любовию восперився, дом и сродство оставил еси, и пришед вскрай северныя страны, просветил еси святым крещением неведущий Творца лопарский род, за еже, во утверждение христианския веры, многа изгнания и злоключения подъял еси. И близ реки Печенги в пустыню вселився, братию же из многих градов и весей собрав, велию обитель воздвигл еси, и, при отшествии к небесным селением, о посещении твоея обители пророчествия дар от Бога восприял еси, по смерти же многа чудеса и цельбы с верою просящим на мори и на суши сотворил еси и ныне твориши. Темже молим тя, не забуди присещати чад твоих, моли за ны, преподобне отче, приходящия к тебе с верою, и за вся христианы, яко имеяй дерзновение к Безсмертному Царю Христу, всех Богу; не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя и поминающих святую память твою. Аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти, живый духом, всегда чудодействуеши. Молитвами твоими сохраняй нас от стрел и козней вражиих, и всякия прелести бесовския и от враг видимых и невидимых.
О пастырю наш добрый! Понеже всегда в Троице славимому Богу, при Престоле Его непостижимаго величествия, неотступно в молитвах предстоиши, усердно к тебе прибегаем и просим: умоли и испроси нам время к покаянию, да в час исхода души прейдем от земных к небесным, от мытарств же воздушных и вечныя муки избавимся, и Небесному Царствию наследницы будем со всеми от века угодившими.
О, преблаженне и преподобне отче наш Трифоне! Не презри и ныне нас, притекающих к тебе, яко да молитвами твоими и помощию спасаеми, славу и благодарение, хвалу и поклонение за вся в Троице Единому Богу, всех создателю возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православие и современность. Электронная библиотека." (www.lib.eparhia-saratov.ru).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).