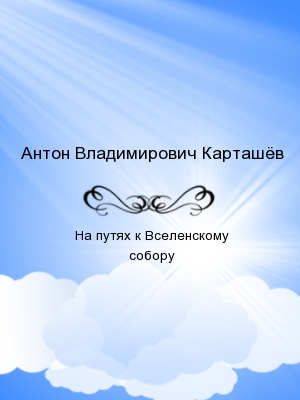I. Вселенский или всеправославный?
Кажется 38-летний расслабленный хочет встать. По почину главного иерарха Востока, патриарха Константинопольского, Восточная Церковь готовится к вселенскому собору. Для его подготовки вселенский патриарх раз, уже собирал на Афоне предварительный съезд, названный «просинодом». Протоколы его уже опубликованы в одном томе. Второй такой же «просинод» собирается там же на Троицу этого 1932 г. А за ним вскоре ожидается и это давно небывалое событие нового VIII-го по счету Собора...
Сравнение с расслабленным не мое, а преосвященного Порфирия (Успенского), нашего лучшего знатока и очевидца-наблюдателя жизни христианского Востока: «Палестинская церковь возлежит расслабленная у самой купели Силоамской и непрестанно взывает к небесному Жениху своему: Господи, человека не имам. Сии истины надлежит возвещать с дерзновением». Надышавшись крепким духом русского православия, православия молодого, могучего, плодоносящего народа, ученый посол нашей церкви на православном Востоке в половине XIX в. потрясен был внешним его убожеством под игом туретчины и более всего его миссионерской бесплодностью, миссионерским бессилием: «Давно эта церковь, заматорела и не только никого не рождает в жизнь вечную вне пределов своих, но и у себя дома не старается примирить и сблизить своих собственных чад, Она не Сарра, а Сара. Но Господь силен дать ей новое тмочисленное потомство. Он уже идет к ней, чтобы возобновить юность ее и возвратить ей преяшее плодородие, честь и силу ея». В первую очередь еп. Порфирий тут подразумевал вливание соков от великой русской церкви и чаемого освобождения от турецкого ига славянских церквей и затем всех православных народов. На наших глазах это освобождение совершилось, и православие стало оправляться от векового захирения. Хотя и умален в последнее время насильственным «ассиро-вавилонским» изгнанием всего греческого населения из его малоазийской родины Константинопольский патриархат, но зато численно выросли патриархаты Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Объединились в великие церкви новые патриархаты Сербский и Румынский. Православие прославляется мученичеством всей русской церкви. Православие укрепилось внутренне в миллионной массе Зарубежной России. Православие оживилось в борьбе за свое существование в бывших ныне автономных частях русской церкви. Православие возродилось в Карпатской Руси и Чехии. К православию решительно двинулась Англиканская церковь, направляются некоторые течения в протестантизме. Нельзя в такое время лежать на одре расслабленного. И вот раздается зов к вселенскому собору. Не заслышала ли восточная церковь исцеляющий голос Господа, о котором пророчествовал еп. Порфирий? Не встает ли она, чтобы ходить? Не молодеет ли, чтобы вновь плодоносить?
Трудно было бы подкрепить чем-нибудь веру в такие возможности, если бы пред нами не было огненного искушения изощренным мученичеством и величайшей из восточных — русской церкви. Это — жестокое горнило очищения грехов церковных, выявляющее чистое золото славы и силы христианства. Верующая мысль не вмещает бесплодности для церкви вселенской этого мученического подвига и чает от него христианского возрождения. Но плоды этого испытания могут вскрыться лишь тогда, когда заколдованные, стены советского Иерихона падут, когда наступит внешнее освобождение голоса и совести русской церкви и православного народа. Между тем сейчас великий праздник вселенского соборования православия ставится на очередь при полном почти отсутствии могущественной части православии — русской церкви. Это вопиющая ненормальность. А потому, между прочим, наряду с другими соображениями, мы и ставим под сомнение законность титула «вселенский» для предстоящего собора. Очень похвален порыв восточных церквей к столь высокой цели. Но достижение ее должно быть законным и подлинным, а не «восхищением недарованного».
История знает ряд соборов, которые хотели быть вселенскими и оказались или только поместными или даже еретическими. И, наоборот, некоторые оказались вселенскими, хотя вначале не всеми признавались таковыми. Сердикский собор 343 г. собирался как вселенский, но из него получился только поместный. Ариминско-Селевкийский — как вселенский: — получился еретический. Константинопольский 381 г. — как только восточный. И еще в 452 году св. Лев Великий не считал его вселенским, но после этого времени его вселенское значение, как II-го по счету, никем не оспаривалось. V-й Вселенский КПл. собор 553 г. всеобщее признание на Западе получил только к 700 г. КПл. собор 754 г. считал себя вселенским, но оказался еретическим. VII-ой Вселенский 787 г. долго не признавался франкскими церквами и даже папой Николаем I в IX в. в переписке с п. Фотием. КПл. против Фотия собор 869 г. объявил себя вселенским, но через десять лет формально аннулирован другим КПл. собором 879—880 г., который также объявил себя вселенским, но остался в истории восточной церкви только с достоинством поместного. Не говорим уже о соборе Флорентийском 1439 г., на котором формально представлена была вся восточная церковь, и который был, однако, отвергнут верующим народом. Некоторые греческие богословы вплоть до современных нам пытались именовать вселенским собор патриарха Михаила Керуллария 1054 г., но безуспешно. Наоборот, некоторые соборы поместные для восточной церкви получили универсальное вероопределяющее значение. Не было бы удивительно, если бы на Востоке их начали считать вселенскими. Таковы исихастские соборы 1351 и 1368 гг. или Ясский 1643 г. и завершивший его Иерусалимский собор 1672 г. Первыми канонизованы новые догматические формулы о божественных энергиях вместе с их автором св. Григорием Паламой, что и закреплено в богослужении 2-й недели великого поста, а вторыми засвидетельствована чистота учения православной церкви от кальвинистских приражений. Следовательно, мало одних формальных признаков вселенскости для собора, мало его желания или дерзновения называть себя вселенским. Нужно еще признание его в таком качестве со стороны всей церкви в пространстве и времени. А это проверяется только в опыте церкви, иногда довольно длительном. Действительно, существует «рецепция», приятие или неприятие церковью соборов, усвоение их жизненной соборностью христианского опыта. Собор должен найти свое укоренение в этой соборности, свое соответствие ей. Тогда только определится его вес и значение. Собор есть до некоторой степени формальное, механическое сооружение с риском не совпасть с органической потребностью живого лона церкви. В таком случае он отсеется в истории церкви в разряд незначительных и будничных эпизодов, а не будет праздничным и творческим деянием достопамятным в веках.
В декларировании предстоящего собора вселенским есть немалый риск. Конечно, возможно и чудо восстания «расслабленного». Но раз-
11
считывать на чудо значит незаконно искушать Бога. Рассуждая скромно и по-человечески, в таком замысле есть большая и неожиданная непоследовательность. 1200 лет не иметь вселенского собора, 600 лет (со времени флорентийского) не пытаться его иметь, разучиться соборовать, и вдруг сразу захотеть создать вселенский собор? Уже 250 лет, как восточные церкви, разделённые меду собой и турецкой неволей и местными национальными интересами и стеснениями, не выражали даже желания собраться на общий большой собор. За это время они в еще большей мере, чем прежде, растеряли знание друг о друге, привычку жить общей жизнью, иметь общий язык и в переносном и в буквальном смысле этого слова. Национализмы и провинциализмы горизонтов в них так укоренились, что нужны гигантские усилия для их преодоления. Православные массы привыкли смешивать суть православия с своим национальным бытом и иной быт почти несклонны признавать православным. Некоторые православные народы всю ревность о своей церкви вкладывают в борьбу с другой православной же церковью из-за внешних этнографических границ ее юрисдикции, языка и обряда. И особенно в последние, послевоенные годы эти конфликты национально-политического свойства, этот раж автокефализмов и автономизмов разрослись и размножились, внося новые темы раздора в среду и без того исторически разошедшихся между собой восточных православных церквей. Именно сейчас sopora к вселенской гармонии на Востоке засорена
новым мусором мелочных междоусобных браней. Перешагнуть через все это, «яко не бывшее», прямо к вселенскому собору едва ли удастся. А делать задачей такого собора эту черновую расчистку дороги, было бы принижением его высокого имени, нарушением иерархического порядка ценностей, По евангельскому завету, сообразному с психологией, сначала грехи обличаются наедине, потом при свидетелях и затем уже поведаются церкви. Естественная последовательность подсказывает сначала практику местных соборов внутри каждой автономной церкви, затем соборы групп таких церквей для ликвидации их специфических споров и затем уже соборы всевосточные. Дорастут ли последние до авторитета вселенских, это покажет уже опыт. Так рисуется нормальное, степенное восхождение к достижению вселенского собора. Действие вселенского собора, дерзающее быть соединенным с благодатным озарением, требует какого то праведного ценза от участвующих в нем церквей, какой то предварительной подготовки и чистки от местных слабостей и недостатков. Мирянину не подобает приступать к св. Чаше без покаяния, а сонму церквей — к таинству собора. Согласитесь, что довольно нескромно, чтобы не сказать более, некоторым церквам, еще не умеющим или бессильным собрать свой собственный соборик (напр., Польской и Русской), сразу ехать — ни много, ни мало — как на вселенский собор! Не скажут ли таким: «врачу исцелися сам»; рано спасать других, не научившись спасать себя.
Нет, не произнеся еще даже и А, нельзя сразу произнести Z. Не научившись еще ходить на своих ногах, или ходя только на костылях, рано претендовать быть вождем других. Тренировка в поместной соборности есть не только школа. Это просто приобретение зрелости по существу и права по существу на участие в соборности вселенской.
Но на собор просто всеправославный может быть уместно явиться и в неготовности и незрелости любой частной церкви с докладом о своих немощах и исканием братской помощи. Конечно, такая братская помощь и разбор маленьких конфликтов, как попутная работа, всегда находили себе место и на вселенских соборах. Но не в этой попутной работе поместного масштаба состояли главные задачи соборов вселенских. Они созывались для создания высшей авторитетной инстанции, могущей разрешить вопросы, не поддающиеся решению в инстанциях поместных. Это были вопросы веры, самого состава и смысла христианского откровения. Для прочих вопросов, канонических, практических, судебных достаточно было так называемых «великих» соборов, неопределенно широких. Вот таким «великим» собором для первоначальной чистки накопившихся болячек в жизни православного востока, и мог бы быть великий всевосточный собор (вернее, ряд соборов) пока он же, в том же составе, не дорос бы до силы внутреннего авторитета, способного продвинуть вперед и дремлющие вопросы веры, к которым забыли уже на Востоке прикасаться со-
борно. Так, «восходя от силы в силу»,и вырос бы органически, неискусственно и неложно вселенский собор, которого дальнейшая история церкви уже не развенчала бы в поместный. Дело не в количественной стороне состава собора, а в качестве его служения и роли в данный момент. Тот же по составу всеправославный и стал бы во благовремении достойно и праведно вселенским.
* * * Но может быть такая постепенность восхождения к вселенскому собору есть голая теория, уже обогнанная острыми неотложными нуждами жизни? А «по нужде и применение закону бывает», по словам послания к Евреям. Ниоткуда этого не видно. Ни один вопрос веры не выдвинулся в сознании всего православия, как вопрос злободневный, требующий немедленного уяснения. Вот, например, как пестро и неударно перечислены вопросы, стоящие на повестке ближайшего предсобория в интервью, данном КПл. патриархом сотруднику «Messager d’Athenes» в ноябре 1931 года: Представительство от русской церкви; подготовка православного духовенства; установка более тесных отношений между православными церквами; настоящее положение православной церкви в Америке; реорганизация монашеской жизни и обновление ее деятельности в сфере научного знания, священных искусств и служения ближним; о новых методах борьбы с антихристианскими мировоззрениями. Исследование отношений с не православными церквами, склонными к сближению и не прозелитствующими среди православной паствы. Таковы: армяне, копты, абиссинцы, старокатолики, англикане. Отношения к церквам, практикующим прозелитизм и средства защиты от него. Таковы: римско-католическая, униатство, протестантизм, хилиазм и пр. Вопрос о кодификации канонов, о византийском искусстве во всех его видах».
Нельзя без радостного волнения читать этот список вопросов. После стольких веков застоя, как первая травка после жестокой и долгой северной зимы, молодит душу уже одно словесное заявление, что наступают весенние дни постановки каких бы то ни было вопросов в православии. Ведь казалось все уже навеки мумифицировалось, окостенело и покрылось музейной пылью. Томительна была эта без-вопросность православия, как усыпляющее молчание раскаленной, бурой сирийской пустыни. И вдруг эта постановка на ноги залежавшихся, ссохшихся реликвий! В добрый час! Но где же центр в этом смешанном ряде проблем? Где главное и второстепенное? Где крик жизни и где просто канцелярская регистрация? Почему только эти вопросы, а и не многие другие, столь же непочатые или столь же застарелые для Востока? Не касаясь догматики, например, давно назрели вопросы о ликвидации разных расколов, о богослужебных чинах и обрядах, об уставе, о постах, о календаре, о роли мирян в церкви, о соотношении библейской традиции и библейской науки, об ориентации церкви в проблемах политики, экономики и культуры, и много других вопросов, чувствительно близких отдельным поместным церквам. Для одного только полного списка их и правильной классификации нужен всевосточный собор на базе ряда местных соборов. Опубликованный список вопросов очень показателен, как симптом неготовности восточных церквей к вселенскому собору. Как много еще им следует предварительно соборно проработать и урегулировать, чтобы не обременять программу грядущего вселенского собора неподобающими его чрезвычайности мелочами!
Но если даже на время отвлечься от расценки вопросов по их важности, если поставить депутатов от отдельных церквей пред всем дремучим лесом этих не переработанных вопросов сразу на арене вселенского собора, то могут ли они по совести принести сюда не свое только личное, наспех придуманное, а соборное же мнение своих церквей, которого теперь епископы не знают и не могут знать, ибо и самых соборов на местах еще на эти темы не собиралось? Вселенский собор, без опоры на поместную соборность, повис бы в воздухе, как вершина пирамиды без основания. Он не игра в формальную парадность, а завершение реально выношенной соборной думы всей церкви. Один механизм голосования епископов, оторванных от живой мысли своих церквей, был бы действием римского клерикализма, видящего в иерархии командующее начальство, а в пастве послушных подданных. Отрава этого неправославного клерикализма очень еще сильна в сознании большей части клира и мирян в наших церквах. Ее изгнание из восточного церковного организма возможно только в процессе неослабевающей практики соборования на всех ступенях церковкой жизни и работы. Русская церковь после 200-летией бес соборности, если и достигла сравнительно многого для своей организации через прерванный большевиками первый собор в 1917—18 гг. то только потому, что еще при царском правительстве в 1905 г. все епископы были запрошены дать свои отзывы о назревших реформах и вопросах для предстоящего собора. А затем в ряде пред соборных совещаний и в журналистике целого десятилетия все церковные силы высказали и обдумали все, что было нужно в связи с собором. Собор работал уже в сознании себя подлинным носителем реально существующих в недрах своей церкви запросов и течений. Идейная борьба в нем была соборной, а не бюрократичной или клерикальной.
И в данном случае процесс поместного соборования в течение некоторого периода времени, разрешая вопросы частные и второстепенные, просеивал бы в сознании отдельных церквей вопросы более крупные и требующие сил и компетенции высшей соборной инстанции. Так естественно обрисовалась бы и стала живой и очередная тема для вселенского собора. Может быть это был бы вопрос соединения православия с другими церквами, ищущими такого единения, может быть вопрос социаль-
ной миссии церкви, — во всяком случае вопросы действительно вселенской значительности и труднейшей новизны. А в настоящую минуту объявление вселенского собора производит впечатление беспредметности или, во всяком случае, несоответствия величественной формы какому то черновому, хаотическому и будничному содержанию. Результат непоследовательности и скачка в будущее через пропасть не пройденной еще стадии.
Эта не пройденная еще стадия — состояние «расслабленности» восточной церкви в ее неорганизованности, рассыпанности на несвязанные между собою части. То, чего нам до крайности не достает — это живой, деятельной связи всех национальных и автокефальных церквей в одно стройное целое. Нам нужен, прежде всего, и раньше всего, «Всеправославный Собор». Без него нам стыдно и прямо невозможно сунуться во вселенское плавание. Мы не в порядке. И еще до общего собора нам нужно ввести соборный строй во всех своих церквах, этим помочь им освободиться от гнета местной политики и завоевать право на свободное, чисто церковное мнение. Из этих свободных соборных голосов сложится сам собою подлинный, не клерикально-бюрократический, всеправославный собор. И нужен не один, а ряд таких соборов, перманентная периодическая система таких соборов. Только на этом пути наш Восток может обрести недостающее ему, реальное, а не мечтательное только, единство и силу, вытекающую из такого единства.
У Римской церкви есть единство, и есть сила, вытекающая из этого единства. Ее единство основано на ее специфическом догмате о единоличной монархической власти в церкви. Опираясь на эту экстерриториальную власть папы, все национальные части ее подчинены давлению местных политик и правительств лишь до известного предела, за которым они находят защиту в Ватикане и обязуются вступать на путь мученичества. Это бесспорное преимущество организованности и независимости церкви.
У Востока этого нет. У Востока осталась от древности лишь туманная идея «вселенскости», не воплощенная теперь ни в чем, кроме почетного титула Константинопольских патриархов А когда то под этим разумелась «экумени»-ромейская империя и ее глава, экуменический-вселенский царь православный, придававший телу церкви внешнее единство и по идее охранявший ее свободу. Но мечтательный, непрактичный Восток и не заметил, как история безжалостно похитила у него эту внешнюю ненадежную, преходящую опору его «вселенскости» — имперского единства и взамен ее не оставила ничего. Пробел, оставшийся в системе восточного единства ничем не заполненным, заполнить нам необходимо. Мистика вселенского (уже не в государственном, а чисто церковном смысле) единства, не исключает, а, наоборот, требует организационного, делового, административного воплощения этого единства. И его можно и нужно создать через систему всеправославных соборов. В них теперь ключ к нашему реальному экуменизму, к нашей административной вселенскости.
Было бы жалким и лицемерным наше сопротивление римскому папству, если бы мы позавидовали ему и пожелали дублировать его на Востоке. Бывали и есть у нас теоретики восточного папизма, привязанного к лицу вселенского патриарха. Они ссылаются на проникнутые этой идеей прецеденты: на сговор патр. Фотия с папой Иоанном VIII (IX в.), на переговоры патр. Евстафия с папой Иоанном XIX (нач. XI века), на планы патр. Михаила Керуллария (XI века), на тенденцию всей дальнейшей истории КПл. патриархата. История не есть каноническая норма. Идейных искривлений в ней несчетное число. Истолкование привилегий первенства чести КПл. патриаха в смысле создания монархической власти одного сверх-епископа над прочими епископами мы отрицаем, как в прецедентах прошлого, так и в проектах будущего. Это и было бы ересью папства, упразднением веры в благодать соборности и заменой ее иной верой в благодать первосвященнического откровения. Раз мы своей восточной вере в Единого Невидимого Главу церкви и, следовательно, в соборную богодухновенность не изменяем, то и привилегии вселенского патриарха мы принимаем совсем не в смысле папства, а как счастливую традицию истории, избавляющую Восток от всегда изнурительных и лишних споров о первенстве. Ибо первенство среди равных, т. е. председательство,
есть элементарная техническая необходимость правильной организации всякого коллектива, в том числе и правящего органа вселенской церкви. И такого устойчивого примаса и председателя мы традиционно имеем в лице патриарха вселенского. Но, не будучи над нами папой, в римском догматическом смысле он должен на правильных основаниях соборности получить силу и возможность играть роль центра и экстерриториальной опоры для поглощаемых и часто порабощаемых отдельными национальностями частей восточной церкви. Он не должен быть папой дурного сорта, без догматической мистической основы. Да такой бюрократической власти ему и не позволит осуществлять ни одна автономная церковь. Другое дело развернутая полностью снизу доверху соборная система, долженствующая дойти до трона вселенского патриарха и окружить его. Восходя концентрически от соборов местных к собору все восточному, мы должны закрепить это все православное соборное достижение не только в виде периодичности таких соборов, но и в виде перманентного между соборного органа по подобию практики междусъездных комитетов мировых конференций. Такой все восточный σύνοδος ἐνδημου σα, состоящий из делегатов — апокрисиариев всех церквей, может периодически заседать и в разных географических пунктах, около разных автокефальных примасов, ради символизации братской солидарности, но преимущественная его резиденция должна быть около своего старейшего председателя, КПл. патриарха. Опираясь на этот всеправославный и экстерриториальный соборный орган, каждая автокефальная церковь будет защищать себя им от крайних посягательств на свободу церкви ее светского правительства. У неё будет перманентная высшая инстанция во всех нужных случаях, ведущая ее быстро и непосредственно к соприкосновению с собором всех братских церквей, на пороге всегда возможного вселенского собора. У патриарха вселенского, с другой стороны, через такой общецерковный синод будет сосредоточиваться отраженный пульс жизни всех восточных православных церквей. И ему будет открыта возможность отечески влиять на ход их жизни в интересах православия, как целого. Лишь тогда он станет не титулярно, а реально «вселенским патриархом». У него прибудет реальной правящей власти без греха догмата папства, а у церквей прибудет свободы от провинциализмов. Дух вселенскости будет организован в деловую систему единства, на началах животворящей соборности. Восток выйдет из анархии и докажет не пустыми словами, а делом, что можно иметь видимое единство церкви и силу этого единства, не впадая в ересь папства. Вот для чего нам нужно правильное достижение неложного, подлинного всевосточного собора с вытекающей из него реорганизацией всего строя Православного Востока, раньше чем посягать на осуществление вселенского собора, которого мы еще недостойны.
* * * Есть робкие души, которым тысячелетний сон Востока навеял детскую мысль, что кроме семи вселенских соборов (число священное) других и быть не может. Но это мертвящая точка зрения, ставящая могильный крест над жизнью церкви, как бы уже усопшей навсегда, будучи бессознательным неверием в Духа Животворящего, к счастью, чужда церкви греческой, и в древности властно творившей жизнь церкви, и до наших дней не забывшей этой властности над судьбами православия.
Есть другое сомнение, более сложное. Говорят: древние вселенские соборы, единственные, которые признаны на Востоке, были созданы церковью еще неразделенной, с участием Запада в лице легатов папы. Может ли теперь восточная церковь одна, без пап, собирать вселенские соборы? Достаточно спросить только себя: а разве после разделения наша церковь перестала быть подлинной Христовой Церковью? чтобы перестать сомневаться в ее праве совершать все, что она совершала искони. Ведь западная церковь, имеющая такое же мистическое самосознание своей подлинности, никогда не имела и тени колебаний, собирая после семи древних свыше десятка новых вселенских соборов. Почему же Восток должен в этом вопросе оглядываться на Запад? Это неживой археологизм. Иной вопрос: а как быть с этими особыми, то западными, то восточными вселенскими соборами на случай, если бы великие разделённые церкви вновь когда ни будь сговорились и соединились? Тогда встал бы вопрос не об одних соборах, а о разнообразных духовных ценностях (святых, праздниках, святынях, духовной письменности и
пр.), нажитых каждой церковью в отдельности. Тогда, как видно по опыту воссоединения с православием отдельных фракций других церквей (напр., Несторианской) все, непротиворечащее догматическому соглашению, признается en bloc, как священное отеческое прошлое для данной церкви, без обязательного предписания этого наследства другим, в нем не участвовавшим. Соборы — в том же порядке.
Значит, в термине «вселенский» может быть какая то сложность: то древняя универсальность неразделенной церкви Востока и Запада вместе, то универсальность позднейшая, лишь в пределах Востока или Запада раздельно? Да, это та же самая догматически-антиномическая сложность, что и в вопросе взаимоотрицания и одновременно взаимопризнания разделившихся церквей Востока и Запада. Каждая из сторон признает реальность иерархии другой, т, е. полноту благодатной жизни и таинств другой, и в то же время мыслит себя (и не может и не должна иначе) подлинной истинно вселенской церковью Христовой.
В этом отношении поистине замечательны слова о римской церкви в цитированном интервью вселенского патриарха Фотия:
«Римская церковь есть великая и древняя церковь, которую мы чтим и уважаем. Мы никогда не думали отрицать у римского архиепископа первенства чести. Мы его рассматриваем как первого в ряду епископов. Но римский папа не желает первенства чести, а первенства власти церковной и при том власти абсолютной. Вместо системы «федеральной» он хочет абсолютистского централизма. Но и это не единственное его притязание. Церковь римская не только имеет притязания, но она отказывается даже обсуждать их. Она говорит: у меня ключ истины, кто хочет, приходит ко мне».
Таим образом, признавая благодатную реальность римской церкви и предполагая таковую же с ее стороны в отношениях к кафолическому Востоку, вселенский патриарх желает он неё только той доли любви и смирения, чтобы она согласилась вновь обсудить правильность ее притязаний на власть над Востоком. Это не релятивизм, не отказ от церковного ключа истины пред неверием и иноверием. Это любовь и смирение пред равной обладательницей ключа церковной истины, пред ее восточной кафолической сестрой.
Только так достойно и праведно подходить великим церквам-сестрам друг к другу, чтобы не ставить креста над малейшей надеждой к сближению. Не гордой усладой раскола, а смиренной скорбью о разделении продиктованы эти слова старшего епископа Востока. И что именно эта доля смиренной любви или любовного смирения руководит мыслью патриарха видно из его ответов на вопрос: «Можно ли все-таки мыслить вселенский собор без римской церкви?» Да, отвечает патриарх: «Это будет вселенский собор православных церквей». Что значит такой ответ? И по букве и по контексту — только то, что это будет такой же «вселенский собор церквей Востока», как после разделения были «вселенские соборы Запада», но что мыслим и вселенский собор древнего типа, вместе Востока и Запада, и к смелой постановке условий такого собора патриарх непосредственно и переходит. Вот его еще более замечательные, чем выше приведённые, слова;
«Мы не будем возражать против участия на вселенском соборе, который был бы созван папой, по праву его первенства (en raison de la primaitie), но на котором епископ Рима поверг бы на обсуждение и решение собора все, что католическая церковь усвоила как догматы со времени разделения до сегодня, И если все новости, введённые папской церковью, были бы одобрены вселенским собором, то мы их приняли бы без оговорок. Но без такого решения, как хотите вы, чтобы мы приняли, даже не рассуждая, все, что католическая церковь притязает предписывать? Именно в силу этого мы и не имеем никакого контакта с ней и всякие рассуждения о соединения абсолютно проблематичны».
Итак, на том же условии смиренной любви, отлагающей в сторону механический начальственный приказ и признающей равенство голоса в обсуждении и формулировке кафолической истины, возможен и теперь общий вселенский собор церквей Востока и Запада. без упоминания о взаимных анафемах в прошлом, без кощунственного отрицания благодатного церковно-кафолического достоинства друг в друге. Какая дерзновенная широта иерархической мысли! Воистину вселенский полет, пленительный особенно для нас русских, после Филарета и не слыхавших ничего подобного из уст наших заробевших под старой политической ферулой епископов и захиревших от этой недостойной церкви робости. От такой точки зрения веет духом, казалось, невозвратной церковной античности. Римская церковь не называется прямо ни еретической, ни схизматической. Она — реальная кафолическая церковь, имевшая как таковая право делать нововведения и формулировать учения. На условиях кафолического равноправия православная церковь пойдет с ней на вселенское соборование и примет, как общецерковное приобретение, все ее достижения за период раздельной жизни, если соборно будет доказана Востоку их церковная правота. Восток не считает свою церковную жизнь все исчерпывающей полнотой в количественном смысле. Он допускает и благодатный опыт других кафолических церквей и их творческое право и творческую мудрость, могущую обогатить и его в случае любовного соборного его на то согласия. Как это апостольски смело и догматически последовательно! Как это возвышается над провинциальным грубословием некоторых — увы! — не профанов о том, что «папа — простой мужик»!..
Но чтобы не в абстракции, а реально обратиться с таким предложением к римской церкви, надо иметь на это гораздо больше моральных прав и конкретных данных, чем это имеется в наличности у православного востока. Мы еще не стоим на путях к такому униональному вселенскому собору, не по вине только одного гордого папства, но и по нашей собственной вине. Чтобы состязаться с папством не пустыми словами, а делами и факта-
ми, нужно нам ещё осуществить ту самую соборность, которой мы чаще всего всуе хвалимся в теории и не выполняем ее на деле. Мы еще не на путях к вселенскому собору, а только на путях к элементарной соборности. Мы еще не готовы к единому соборному фронту перед Западом. Еще не создали и не доказали своего единства на основе соборности, без папской монархии. Еще непрерывно ссоримся, дробимся и распадаемся, справедливо заслуживая «покивание главами» римско-католиков: тебе ли нас критиковать и спасать, когда себя не можешь спасти!..
Да, по грехам нашим не короток еще путь наш к вселенскому собору и не послужит ни к силе, ни к славе нашей церкви его иллюзорное сокращение. Festinare lente, lente не в смысле медленности во времени, а в смысле качественной основательности и честной постепенности, — должно быть нашим руководственным правилом на путях даже собственно и не к вселенскому, а пока лишь к всеправославному собору.
II. Без русской церкви
На фоне того морально отталкивающего факта, как цивилизованный и христианский политический мир, пользуясь гибелью России, истекшей кровью за общее дело 1914—18 гг., в когтях красных коршунов марксистского коммунизма и атеизма, продолжает безуспешно устраивать свои интересы без России и против России, параллельное предприятие вселенского собора (именно не меньше как вселенского) в то время, как русская церковь висит распятая на кресте, оставляет впечатление той бесчувственности и без любовности, которая как то объяснима в политике, как сфере языческой, но нестерпима и беззаконна в сфере христианской, церковной. Неизбежная аналогия с политической эксплуатацией отсутствия нормальной России на мировом поприще внушает русским православным мысль, что и вселенская квалификация предстоящего собора, при явном отсутствии голоса русской церкви, не может не быть опасной как для законных интересов этой церкви, так и для полноты и совершенства самых соборных решений. Хотя количественные вопросы в деле веры весьма и весьма второстепенны, но все таки тот статистический факт, что русская церковь по составу принадлежащего к ней народа приблизительно в 100 миллионов дважды покрывает собою количество всех других православных народов, взятых вместе, число которых не превышает 40 миллионов, не может быть пренебрегаем ни с какой точки зрения. Но дело тут не в количестве, а именно в качестве.
Русская церковь по уровню ее просвещения и богословского сознания до дней своей недавней катастрофы бесспорно занимала первое место среди своих восточных сестер. Ее богословская наука качественно достигла уровня мировой науки. Ее богословская мысль начала проявлять творческую силу в такой степени, которая не имеет себе ничего равного в других частях православного востока не только в современности, но и за целое тысячелетие после эпохи цветения святоотеческой мысли. Качественной особенностью русской церкви является то, что она в новое время интимно подчинила своему вдохновению высшие достижения русской духовной культуры, ставшей мировой. Русская литература, искусство и философская мысль стали в своих глубинных достижениях христиански-православными. Это не формальное, а по существу встречное пересечение путей церкви и общей культуры сделало из русской церкви величину особого веса. Она перестала быть величиной только клерикальной, мысль которой может быть представлена только одной иерархией. Русская церковь через это соприкосновение с творческими путями своего народа приобрела особую глубину соборности, которая сказалась не только в отличающем ее от других восточных церквей явлении в ней светских, мирских богословов калибра Хомякова и В. Соловьева, но и в связанности ее богословской мысли и практических воплощений христианства с соборной мыслью и культурным творчеством всей нации. Русская церковь и русская духовная культура стали вместе таким огромным, сложным и неразрывным целым, что формулировать их идейное содержание не может в точности никакое упрощенное и старомодное формально-каноническое представительство. Русская церковь еще сама для себя не выработала этой адекватной формы ее соборного самовыявления. Решать какие ни будь большие вопросы всего православия без русской церкви, значит в некотором смысле решать их без хозяина. Мы обязаны с дерзновением свидетельствовать об этом перво-
родстве русской церкви в современном нам православном восточном мире. И вместе с тем обязаны заявить, что деяния восточного собора без подлинного участия именно такой церкви, как русская, едва ли могут смело претендовать на вселенское значение.
Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что в невозможности в настоящий момент полновесного и жизненного участия русской церкви во все восточном соборе нельзя никого винить, кроме самого русского народа и в какой-то мере его национальной церкви. Из-за духовного соблазна и временного нравственного помешательства русского народа жизнь мира и церкви не может остановиться. И если вся атмосфера нашей современности толкает мир на пути планетарной универсальности, то было бы даже неестественно, если бы восточная церковь, давно не соборовавшая, не поставила перед собой задачи возобновления своего прямого долга соборности. Может быть провиденциально этот паралич русской государственности, русской культуры и русской церкви, точнее — временная их связанность, являясь заслуженной карой Божией за грехи России, как то обернется к лучшему и в истории человечества вообще и в деле данного собора в частности. Мы, во всяком случае, бескорыстно и радостно приветствуем поднятие над нашим «дряхлым востоком» этого забытого знамени времен юности церковной, знамени «вселенского собора». Достигнет ли собор уровня вселенского или просто будет собором великим, все православным, что нам кажется самым естествен-
ным, это покажет опыт и восприятие самой церкви.
Во всяком случае, мы, русские, с большим удовлетворением узнаем из интервью вселенского патриарха Фотия, данного в конце 1931 г. «Афинскому Вестнику», что в числе 17 пунктов, намеченных к обсуждению этим летом на пред соборном съезде на Афоне, нa первом месте стоит вопрос о представительстве на соборе русской церкви. Вопрос, действительно труднейший ни формально, но фактически. Такой фактической трудности еще не бывало в истории. На соборах VΙ-м и VII-м Вселенских и на соборах Фотиева времени IX века бывало недостаточное и полуприкрытое представительство от заграничных тогда для Византии патриархатов (Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского), находившихся в арабских халифатах. Но все же это было представительство от церквей, внутренне не терроризованных и в области веры и канонов говоривших полным, не рабьим, голосом. Теперь эта доля свободы не мыслима для русской церкви. Говорить о ее свободном голосе могут только чужие люди, не понимающие до конца неописуемой русской трагедии, или желающие дискредитировать русскую церковь в дни ее болезни и временного бессилия. Признавать за свободный голоси за свободное мнение какой бы то ни было категории подданных деспотической власти СССР голос людей, говорящих с официального дозволения (а такими только и были бы делегаты отпущенные
на собор), это все равно, что признавать таковыми заявления несчастных жертв так называемых вредительских процессов. Все видимое и слышимое там, в этом царстве дьявольской лжи, есть показной обман. Истина там скрыта в гробовом молчании. Все, кто теперь всерьез считаются с наружной фантастической маской советской, яко-бы, действительности, будут жестоко посрамлены, когда в дни наступившей свободы подлинная действительность вырвется наружу, а кошмарная псевдо-действительность рассеется, как призрачное наваждение. Лишь свободные делегаты освобожденной и пришедшей в себя русской церкви могут достойно и праведно ее представить. Выпускаемые иногда советской властью заграницу представители науки, техники или искусства, яко-бы в качестве свободных культурных сил, иногда несут такой сознательный вздор и о русской жизни и даже по своей специальности, что нам, русским, знающим этих людей по их прошлой почтенной деятельности, бесконечно стыдно за них, за русское имя, за человеческое достоинство, попранное террором и рабством. Предписанная всей адской системой гнета ложь не щадила уст академиков, не пощадит и уст епископов, если они будут в положении мыши, выпущенной из клетки на долгой веревочке. Если м. Сергий в феврале 1930 г. вынужден был (русские люди века будут с содроганием вспоминать об этом) ареопагу соглядатаев иностранной прессы заявить по тексту, предписанному ГПУ, что в России нет гонений на церковь в тот момент, когда вся христианская Европа были ими взволнована, то где же предел лжи, организуемой коммунистической властью? Мыслимо ли, чтобы епископ отпущенный с ее дозволения на собор, прорвал заколдованный круг раба, в котором закованы все подданные СССР? Зная этот секрет порабощения духа, мы — русские люди даже голосу матери родной, прошедшему через контроль ГПУ, верить не можем. Там дети и родители проклинают друг друга с взаимного тайного согласия. Всего этого ужаса не поймут люди чужие и посторонние. Они примут рабье, террором вынужденное заявление соборных делегатов, за чистую монету. Спаси нас Господи от такого соборного участия епископов из советской тюрьмы! Страшно подумать о нем. Будем молиться, чтобы не пришёл на нас еще такой новый позор русской церкви.
Кроме рабьего зрака не подлинность представительства русской церкви в настоящий момент зависит еще и от того, что враждебной ей тиранической властью она искусственно расколота на несколько фракций, и ей искусственно, насильственно заторможены пути к свободному преодолению ее расколов. Нам, свободным русским людям, спасшимся от коммунистического террора и вольно живущим, мыслящим и говорящим под благословенным режимом свободы в современных демократических государствах, легко разобраться, какая фракция подъярёмной русской церкви — канонически правильная продолжательница прав и преимуществ патриаршей православной церкви и какая — неканоническая, раскольничья. Но мы соглашаемся, что посторонним людям и чужим церквам нелегко в этом разбираться. И наш долг указать восточным патриархатам, что они уже не раз ошибались в этом вопросе. Уже на прежнее предсоборное совещание посылались приглашения на равных основаниях, как законной патриаршей церкви, управляемой митрополитом Сергием, так и самочинной, организованной коммунистическим правительством церкви так называемой «синодальной — обновленческой». Можно понять такую тактику или только в применении к предсоборным совещаниям, чтобы попутно сделать опыт преодоления раскола, или и в применении к самому собору. Но тогда уже нужно пригласить на него решительно всех раскольников и диссидентов всего православия, опять таки с целью попытаться ликвидировать расколы. Или всем диссидентам, буде они того пожелают, отвести на соборе особое место, с особым учетом их совещательного голоса, как друзьям и спутникам общего христианского дела, где не исключена возможность какого то соучастия даже и братьев-христиан других вероисповеданий. Но в отношении к русской церкви дело ставится явно не так. Из нее и православные, и раскольники вызываются на каком-то канонически абсурдном начале равноправия. Это недопустимая для церквей якобы неспособность различить правого от виноватого, православного от раскольника. Это неуважение к церкви, к которой так небрежно адресуются. Русские православные люди, например, отлично понимают каноническую логику Константинопольского патриарха, когда он не приглашает на Предсоборие болгарскую церковь, с которой находится в схизме. И мы, русские церковники, по существу несогласные с основаниями этой схизмы, тем не менее не можем оскорблять каноническую совесть греков навязыванием им какого-нибудь уравнения с ними в соборном сочетаний делегатов болгарских. Мы только считаем своим нравственным правом и долгом, как не участники этой схизмы, советовать, чтобы греческой церковь пожелала пригласить болгар, как своих диссидентов, на предсоборные совещания с целью ликвидации устаревшей схизмы и достижения братского воссоединения на самом соборе. Помимо всего прочего мы еще уверены твердо в том что, как ни порабощена русская церковь но она сама не унизить себя до уравнения ее канонической непрочности с ей раскольниками и не согласится на такое канонически нелепое и оскорбительное представительство.
Ясно нам также и то, что русскую церковь не в состоянии представлять и ни одна из ее фракций, живущая за пределами тюрьмы народов — СССР. Не говорим уже о церквах de facto автокефальных и автономных — японской, финляндской, эстонской, польской, латвийской. Возьмем маленькую церковь литовскую, глава которой митр. Елевферий является особоуполномоченным митр. Сергия. Если бы даже последний не оскорбился уравнением его с обновленцами и поручить митр. Елевферию представлять на соборе его всю русскую церковь — это было бы только новой ошибкой митр. Сергия. Такое сиротливое представительство необъятной русской величины через одного заграничного иерарха, не связанного пасторски с телом церкви мученицы, не имеет ни канонического оправдания по существу, ни очевидной для здравого смысла моральной компетентности. Смысл канонического представительства состоит в живом ношении епископом в своем сердце его паствы, почему и не являются регулярными членами соборов епископы, не правящие в данный момент епархиями. Не представляя в этом смысле русской Церкви, митр. Елевферий не может представить ее голоса и как экстренный уполномоченный. Если он будет выступать совершенно свободно, то он навредит митр. Сергию, которому свобода заказана, а если он будет отражать немоту и порабощение митр. Сергия, тогда его представительство даже вредно, ибо под видом свободы оно будет вводить в обман соборное и мировое мнение о какой-то свободе церкви в СССР. Вообще же по существу такое не соответствующее весу и значению русской церкви представительство только без нужды умаляло бы ее и вредило бы ей. Лучше во всех отношениях сейчас полное отсутствие суррогатных представительств великой русский церкви на соборе, чем псевдо-представительство, которое ангажировало бы на будущее время русскую церковь и связывало ее с постановлениями собора, на которые она не может реально повлиять.
На совершенно уже самочинное представительство русской церкви ни одна из фракций эмигрантской церкви, ни американская, ни дальневосточная, ни карловацкая, ни западноевропейская и по общему основанию и по частным соображениям и сами, конечно, не будут претендовать.
Другое дело не формальное и полномочное, а реальное участие различных иерархов русской церкви, как просто глав различных церковных группировок, представляющих только их, или даже просто наблюдающих в качестве «обсерверов» — как это проектируется на международных конференциях. Конечно, было бы лучше, если бы расколовшиеся заграничные фракции русской церкви могли между собою сговориться для некоторого общего представительства в указанном скромном смысле слова, но это кажется, довольно розовая мечта...
Итак, summa summarum наших рассуждений по данному вопросу сводится к тому, что нормальное представительство русской церкви и на предсобории и на соборе исключено. Ненормальность ее положения превосходит всякую предусмотрительность канонических теорий и канонической практики. Но косвенное, совещательное участие голосов русских иерархов, не исключая в этом случае и лимитрофных, лишь как сведущих людей, полезно и желательно в работах собора по русскому вопросу. Вся же русская церковь в целом должна остаться не связанной постановлениями собора до дней ее освобождения и свободного волеизъявления. Хорошее никогда признать не поздно, а от обязательств, клонящихся к ущербу русской церкви, ее надо уберечь.
Вот приблизительная статистика православной паствы всех автокефальных восточных церквей:
Константинопольский патриархат вместе с его колониями в Европе и Америке 2.600.000;
Александрийский — 110.000;
Антиохийский — 150.000;
Иерусалимский — 35.000;
Кипр — 250.000;
Эллада — 4.000.000;
Сербский патриархат — 7.000.000;
Болгарский экзархат — 4.200.000;
Румынский патриархат 12.000.000;
Грузинский католикосат — 2.500.000;
Польская церковь — 5.000.000;
Албанская, Чешская, Латвийская, Эстонская, Финляндская и Литовская — вместе взятые до 900.000.
Всего круглым счетом до 40.000.000. Всюду статистика имеет в виду цифры «паспортных» православных. Но процент подлинных православных и в советской России мы считаем не ниже, чем в других странах, где нет гонения и террора.
III. Вселенские соборы и соборность
Вселенский собор! — это не радует, а пугает многих в русском верующем обществе. Так отвыкли думать о его возможности. Тысячелетняя соборная летаргия приучила смотреть на вселенский собор, как на что-то будто бы неповторимое, в роде чуда Пятидесятницы или апостольских писаний. Тут вскрывается и смиренная психология вечного ученичества в вере, характерная для русских. Русские веру только хранили, но не творили. По крайней мере, таково было субъективное осознание нашей добродетели веры. Несколько иным было и остается сознание наших учителей греков, несмотря на эпохи их крайнего национального и культурного умаления. Греки сознают, что апостолы учили и писали на их языке, в их отечественных странах; святые отцы, творцы богословия, соборов и всего культа были их единокровные праотцы; что они их дети, с теми же правами и обязанностями в церкви. Это сознание свободных сынов Сарры, а не Агари. Они хозяева в доме церковном, а не домочадцы и наемники. Если нужно в нем что-то делать и обновлять, то они дерзают на это? не задумываясь над правом, с полным хозяйским самосознанием, при условии, разумеется, «не передвигать пределов вечных, отцами поставленных». Их «золотая грамота дворянства» — наследие святоотеческого богословия и каноники — хотя и покрылась пылью и паутиной времени, но ощущается ими, как их собственное наследие, данное в их живое пользование и распоряжение; как талант не для закапывания, а для приращения. Не случайно поэтому, помимо общеизвестных обстоятельств момента, что от греков и исходит сейчас призыв к благородному дерзанию устроения вселенского собора. Отсутствие такого дерзания века тяготеет над русской богословской мыслью и замедляет ее грядущий, неизбежный по всем признакам расцвет. Творя бессознательно благочестивую жизнь и несравненной красоты исполнение культа, русские уже раз споткнулись на путях богословского творчества, породив болезнь старообрядчества и не гарантированы от опасности повторить ее вновь по поводу новых запросов церковной жизни, в новейших формах. Этот своеобразный богословский «агиостицизм» — наше слабое место пред лицом неотложных требований времени.
Смотря на вселенские соборы чисто археологически, ставят вопросы якобы недоуменные. Напр.: кто теперь имеет право созвать такой собор? Бесспорно что все прежние семь вселенских соборов созывались православными императорами в силу их сакрального права, включенного в действовавшие каноническое право церкви. Это общеизвестно. Даже папы, завоевавшие себе обычное право некоторого дополнительного признания соборов под предлогом утверждения голоса своих легатов ни когда не осмеливались на созыв вселенского собора хотя не раз хотели иметь его у себя на территории Запада, но всегда испрашивали созыва у императоров. Да и самое имя «вселенских соборов — οἰκουμενικὸς σύνοδος» выражает эту внешнюю чёрту соборов: их созыв императорским указом, в границах под властной императорам империи и с превращением их определений в закон общеимперского значения, ибо «икумени» — синоним «империи» вселенский-имперский. Если бы не эта государственная черта вселенских соборов, то скорее к ним должно было бы прирасти чисто церковное наименование «кафолический», как это и случилось с титулом патриархов за границами ромейской империи. Патриархи армянские, грузинские, сирские прозвались католикосами. А патриарх Константинополя от империи получивший свои преимущества и объём власти прослыл как οἰκουμενικὸς — «вселенский», в смысле «имперском». Но вселенские-имперские соборы, с легкой руки Константина Великого вошедшие в обычай церковный, приобрели в опыте церкви не одно имперское, а гораздо более глубокое и широкое, универсальное в церковном смысле т. е, кафолическое значение. И мыслятся церковью в сущности не как икуменические, а как кафолические соборы. Империя преходяща, и она исчезла. Церковь вечна и она живет вне империи. Икуменическое в соборах сохранилось лишь как археологическая оболочка. Осталось кафолическое. С исчезновением икуменических императоров отпало от кафолического существа соборов и привходящее извне икуменическое-имперское право. Осталось одно право церковно-кафолическе. Римская церковь, выпавшая из границ ромейской икумени, инстипктивно верно продолжала собирать свои consilia generalia и universalia, не справляясь с инициативой гражданской власти в прежнем стиле. Так и мы — восточные пред необходимостью созыва вселенского собора нимало не стеснены внешним образом бывших «имперских» соборов. Мы живем вне единой империи, как сумма отдельных народов и автокефальных церквей. Нам в действительности дано лишь идеальное единство под председательством старейшего из иерархов. Он и созовет собор, который будет уже не икуменическим, а чисто кафолическим.
Отношение к новому кафолическому собору государственной власти стран, в пределах коих живут православные церкви, конечно, не может быть безразличным. Союз церквей и государств, хотя и «подорван в корне исключительно светской природой новой государственности, но все же он в ослабленной форме существует. На базе конституционного начала разделений церквей и государств везде существуют или своего рода конкордаты между ними, или просто видоизменения старых исторических связей, до конца неустранимых. Контроль светских правительств над жизнью церкви, в разных странах различный по степени близости и стеснительности, не может не проявиться в сфере между церковных отношений и решений подлежащей частной церкви. Да и сами национальные церкви часто заинтересованы в солидарности со своей гражданской властью при обеспечении своих интересов. Отсюда вытекает неизбежность и необходимость присутствия на вселенском соборе особого рода представительства от заинтересованных государств. Роль этих новейших светских участников собора не может идти ни в какое сравнение с ролью императорской власти на соборах древних. Там и тогда императоры занимали в системе управления церковью и даже в системе соборования не внешне, а внутри церковное положение, которое прямо следует называть каноническим. В силу единства высшей цели у государства с церковью они теократически, jure divino участвовали и иногда председательствовали на вселенских соборах. Оставляем в стороне все фактические злоупотребления царской власти на почве этого права. Но как чистое право, это было признано и узаконено всеми церковными авторитетами, включая и самих римских пап. Когда Константин Великий, еще не крещенный, активно и председательски участвовал по крайней мере в одном и при том в догматически решающем заседании I вселенского собора, он делал это по теократическому праву, создавая канонический прецедент для своих преемников. Техническое председательствование на соборах светских заместителей императоров со времени IV всел. собора становится правилом, особенно ярко проведенным на VI вселенском соборе. Ни о чем подобном в наше время исчезновения старой теократии не приходится и думать. Для этого нет ни идейного, ни морального, ни правового основания. Государство само, раскрестившись и секуляризовавшись, покинуло свои позиции внутри церкви. Светская власть находится лишь около церкви и около ее дела. В этом качестве она и может занять свое осведомительное и контролирующее положение около собора. Не положение членов, а положение наблюдателей-обсерверов.
Во всяком случае, это внешнее представительство государственных властей собственно не внутри собора, а около собора, ничего общего не имеет с острым и в наше время чуть не жгучим вопросом о представительстве мирян наряду с иерархией в самом соборе в качестве его членов и участников его суждений и решений. Государственные представители от стран православных и вообще внеконфессиональных могут быть даже и лицами не принадлежащими к церкви, назначенными по их чиновничьей годности. Очевидно им нет места внутри собора. Совершенно иной смысл имело участие древних православных императоров в соборах. Оно принадлежало им по каноническому праву, как особым органам в управлении церковью, как эпистимонархам, т. е. блюстителям правоверия и благочестия. Это было представительство по должности церковной же, по чину церковному или, если угодно, по особому чину церковно-мирскому, не сводимому ни к категории иерархической, ни к категории просто мирян. Императоры представляли со-
бою само государство христианское, покорно служащее церкви. Некоторые склонны думать, что их фигура представляла на соборах мирян, как членов церкви и что в этой только форме и законно мирянское представительство. Ошибочно это уже потому, что православные империи и императоры исчезают и исчезли из истории, а церковный строй, основы конституции церкви, к которым относится вопрос о правах клира и мирян, не могут изменяться в зависимости от политических перемен. Нельзя же думать, что за неимением царей, члены церкви потеряли возможность полноты своей жизни в церкви, в ее соборной деятельности. Это значило бы, что врата адовы в чем-то одолели церковь, что церковь сама себе не довлеет, а зависит от внешних случайностей. Ошибочно это и потому, что если царь православный и мыслился главой народа православного, то возглавлял его именно как народ в этническом, натуральном, гражданском, государственном естестве, — как граждан государства, а не церкви. Возглавлял мирскую стихию, как государственную, а не как духовную, личную, не как таких-то и таких-то имярек рабов Божиих, сынов («граждан») церкви. Церковное «гражданство» мирян скорее представляется их отцами духовными, их пастырями, то есть утопает в иерархическом представительстве, чем в инородном для стихии церкви государственном возглавлении. Представительство царя общей природы, а не специальной. Странно было бы, если бы он представлял своих граждан, например, как художников, как инженеров, как поэтов, ученых, если только случайно он сам не художник и т. д. Граждане в их специальной жизни нуждаются в соответствующем профессиональном представительстве. Так и в церкви, если миряне не безличная и инертная масса, а именно деятели и работники церковного дела, они нуждаются в специальном, тоже своего рода «профессиональном» представительстве на соборах отдельно от государственного представительства, именно как члены духовного общества церкви, как особый чин членов церкви, как чин мирян. Так мы упираемся в пререкаемый вопрос о праве участия мирян на соборах.
* * * Это право или точнее эту возможность, уместность участия мирян в соборах и даже вселенских можно разумно уяснить только на основе раскрытия принципа соборности. Лишь в свете этого принципа приобретают смысл и ссылки на пестрые примеры древности. Слово — понятие «соборность» есть сугубо отвлеченный термин. Это продукт новой русской мысли и поздней фазы развития самого русского языка в XIX в. Таких терминов как «церковность, иерархичность, благодатность, таинственность, иконность» и т. п. не могло и быть в древности, еще не знавшей такой степени отвлеченности и гибкости языка. Но соответствующие им конкретные существительные и производные от них прилагательныя, конечно, даны исконно. Так дано в символе определение церкви, как «кафолической». Славянский яз. во
многих случаях проявил свою оригинальность в толковании греческого. Вместо «свидетель (μόρτυ)» он перевел «мученик»; вместо «купать» (βαπτίζειν ) — «крестить»; вместо «день Господень (ἡ κυριακή)» — неделя»; λειτουργία — обедня и т. д. Вместо «всеобщая (καθολική)» -«соборная», что буквально соответствовало бы греческому συνοδική. «Всеобщие», т. е. адресованные всем-всем послания, единолично апостольские — καθολικαὶ ἑπιστολαὶ переведено тоже как «соборные», как будто писанные коллективно. Отсюда в славянском уме яркая ассоциация идеи церкви с идеей соборов, как формы жизни церкви, что по существу является счастливым комментарием к довольно бледному и широкому значению καθολική. В функции соборности, как практики соборов, с особой наглядностью воплощается это глубокое и широкое, существенное свойство церкви — ее кафоличность. Церковь кафолична-соборна не только по признаку территориальной повсюдности, вселенскости, всемирности (на земле и на небе), но и «по всему» вообще καθόλου, т. е. она и качественно соборна, внутренно всесообщительна, всесвязующа, взаимопроникающа для всех элементов ее составляющих. Как соборно тело человеческое, как оно цельно переживает свое здоровье и благосостояние или болезнь и страдание во взаимной связанности всех его частей, так же органически соборно в жизни и действии и мистическое тело церкви, ибо оно не метафорическое, а реальное Тело Христово. Болит ли один член, радуется ли — ему соболезнуют и сорадуются другие. Как эта соборность физического человече-
ского тела осуществляется и объединяется через личное сознание духа, его оживляющего, так и соборность церковного тела от Единого Духа Христова, его животворящего и просвещающего. Все должны осознать себя органами и сосудами Духа Святого: «Вы — храм Божий и Дух Божий живет в вас». Понятны поэтому все те блестящие комментарии А, С. Хомякова, которые он дает к мудрому и почти чудесному определению идеи соборности в послании восточных патриархов 1848 г.: «У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что ни будь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, т. е. самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменной». «Здесь, говорит Хомяков, «дар познания истины резко отделяется от иерархических обязанностей... Дар неизменного ведения (которое есть ничто иное как вера) приписывается не отдельным лицам, но совокупности церковного тела»... «Епископ в одно и то же время есть и учитель и ученик своей паствы, сказал современный апостол Алеутских островов, еп. Иннокентий. Всякий человек, как бы высоко он ни был поставлен на ступенях иерархии или, наоборот.., попеременно то поучает, то принимает поучение: ибо Бог наделяет кого хочет дарами своей премудрости, не взирая на звания и лица. Поучает не одно слово, но целая жизнь»... «Кто обращает учительство в чью либо исключительную привилегию, впадает в безумие; кто приурочивает учительство к какой либо должности, предполагая, что с ней неразлучно связан божественный дар учения, тот впадает в ересь»…
Не разделяя неточных выражений Хомякова и утверждая и «привилегию» учительства за иерархией и «приурочивая учительство к ее должности», мы в то же время этим не исчерпываем церковной функции учительства и понимаем ее так же широко и соборно-любовно. Отсюда и вероучительное творчество соборов рассматриваем в связи с корнями его всенародной соборной мудрости.
Церковь соборна во всей своей жизни, в своей борьбе, изнеможениях, страданиях, и в достижениях, святости и славе. Все через всех и для всех. Может ли это необъятное начало быть строго организовано и формализовано в своих проявлениях? Конечно, до конца нет: Дух дышит, где хочет. Но относительно, в меру исторического опыта церкви, соборность ею посильно воплощалась и воплощается в различных видах и потому подлежит наблюдению историческому и систематизации канонической. Особо волнующие моменты воплощения начала соборности для верующего наблюдателя-историка совпадают с моментами испытаний вероохранительной и вероучительной непогрешимости церкви и особенно в случаях проведения этого неотъемлемого свойства и дара церкви через форму соборов.
Но для богословов и живых христиан было бы непростительной, мертво-археологической ошибкой исчерпывать неисчерпаемую глубину соборных сил и талантов церкви только формами исторически бывших соборов. Собор ность в церкви не только мистически дана во Христе и в Духе Святом, но и исторически, опытно задана всем поколениям церковным для посильного осуществления и исполнения. Как и другое мистическое свойство церкви — святость. Святость так же дана во Христе и в Духе Святом, несмотря на грехи членов церкви. Но объективная и неподвижная святость обязует членов церкви непрестанно реализовать этот заданный идеал во всех возможных, доступных степенях и видах. Как святость, так и соборность церкви не только статичны, но и динамичны. Нельзя ставить пределы соборному творчеству церкви и утверждать, что вероучительная деятельность соборов вся уже закончена по содержанию и сами соборы достигли совершенства в их конституции. Метод одних ссылок на факты и примеры прошлого не есть исчерпывающее решение вопроса об исполнении соборного призвания церкви. Нельзя пути соборной жизни церкви в настоящем и будущем превращать в механическую бухгалтерию и стучать цитатами из древности, как мертвыми костяшками на счетах. Церковь не настолько обмерла и закоченела, чтобы и темы и формы ее соборов раз навсегда кристаллизовались и превратились в круговорот механических повторений. Как страшен был бы сон о такой усопшей церкви, но милостив Бог: она жива и «николиже стареет, но присно юнеется», по слову славянского Златоуста. Формы соборности были одними в одно время и другими в другое в зависимости от температуры соборности.
«Все верующие были вместе и имели все общее» (Деян. 2:44) — вот краткий, максимальный, как образец и символ на все века, миг новорожденной соборности. «Когда вы сходитесь» — описывает Павел (I Кор. 14:26) — «и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование». Сказано «все» и «у каждаго». Исчезла грань между «учащей» и «учимой» Церковью. Температура благодатного одушевления была высока. Была постоянная соборность без собора. Но вот и формальный собор, когда необходимо: (Деян. 15:6) «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела» — обрядового закона. (22) «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили... (23) Написав следующее: Апостолы и пресвитеры и братья — находящимся в Антиохии... (25) Мы, собравшись, единодушно рассудили... (28) Ибо угодно Святому Духу и нам». Идеал и тип собора. Соборовала вся церковь, без отделения пастырей от пасомых, но и без смешения. Каждый в своем чине. Рассудили и написали все вместе, потому что все вместе этим жили. Участие всех не было остывшей формой, использованием чьего то права, а естественным исполнением живого долга всех и каждого. Братья, т. е. миряне, не «добивались» права голоса на соборе, не «втирались» туда силой. Они там были около пресвитеров у себя дома, как дети около родителей.
Патриархальный момент минует. Теплота первобытного союза любви естественно убывает. Церковь из семьи превращает в многомиллионное человечество. Иерархическое представительство естественно втягивает в себя соборную активность отдельных единиц верующей массы. Когда, спустя более чем столетие, церковные тревоги вынуждают христиан вновь прибегнуть к соборной форме самозащиты от опасности ересей, соборы начинают вырисовываться и слагается в форму соборов иерархических. Процесс естественный и вполне обоснованный. Но, замечательно, двери соборов никогда не закрываются для соучастия в них всех элементов церкви, поскольку это требуется существом дела.
Соборы впервые появляются в М. Азии в борьбе с новоявленным монтанизмом в 160—70 годах, по-видимому, еще в архаической патриархальной форме соборов не иерархических, а всего братства. Евсевий, пользуясь каким то древним источником, выражается так: «Верные живущие в Асии, часто и во многих местах Асии собирались ради этого дела и, исследуя данное учение и найдя его мерзким и объявив его ересью, на этом основании, изгнали из церкви и лишили общения» (V,16). Действие властное, иерархическое, но соборно проводится при участии всех. Через два десятилетия и в тех же областях Востока происходит ряд соборов из-за пасхальных споров, и уже они обозначаются, как соборы епископские: «об этом происходили соборы и совещания епископов» (Евсевий, XVIII,2). Как бы контраст в одну и ту же эпоху: то все участники соборов, то — одни епископы. Еще через 60 лет в Риме (251 г.) по поводу споров о падших собирается «очень большой собор из 60 епископов и еще большего числа пресвитеров и диаконов» (Евсевий, VI, 43). Никакого установившегося шаблона. Для западной практики и особенно африканской за это время мы имеем драгоценного свидетеля в лице св. Киприана Карфагенского. Он, величайший идеолог благодатных прав епископата, принципиально мотивирует регулярное соучастие в управлении церковью и на соборах и всех степеней клира и мирян. Из места бегства св. Киприан пишет своему клиру: «от начала своего епископства я установил — никакого решения не выносить без вашего совета и без согласия народа. А посему, когда я по милости Божией вернусь, мы все совместно обсудим» (Epist. XIV, 4). Дело о падших он предлагает «подвергнуть осторожному и осмотрительному обсуждению, совещаясь со всеми епископами, пресвитерами, диаконами, с исповедниками и с самими стойкими мирянами». (Ер. 31,6). Это правило св. Киприан повторяет очень настойчиво и многократно, ему вторит и римский клир, а практика африканских соборов его осуществляет. В предисловии к подписям 87 епископов Карфагенского собора 256 г. говорится: «в сентябрьские календы сошлись на собор весьма многие епископы, вместе с пресвитерами и диаконами и в (присутствии также весьма большой части народа». Тут очевидна как главенствующая роль епископата, так и живая полная роль даже мирян, конечно, в меру их личного достоинства и религиозной годности. В конце III. в. не видим на соборах мирян, но все еще видим пресвитеров. Они во главе с
Малхионом играют видную роль на большом Антиохийском соборе 269 г. против Павла Самосатского. Ориген как пресвитер такую же миссию выполняет на соборе в Бостре аравийской. В начале ΙV в. на Эльвирском соборе 306 г. в последний раз перед нами мелькает народ вместе с диаконами и пресвитерами. Затем наступает эпоха государственного протектората над церковью, когда присутствие мирян, как чистых членов церкви, бессознательно подменяется сложным светским представительством имперской власти. На соборе Арльском 314 г. о деле донатистов по традиции африканской не только участвуют, но и подписываются вместе с епископами пресвитеры и диаконы. На I Вселенском соборе одним из главных действующих лиц был св. Афанасий в сане диакона. Кулуарно и комиссионно там считались даже с голосами некрещеных философов.
Дальнейшие соборы Константинова времени и многочисленные соборы арианского полустолетия оказываются уже чисто епископскими. Отчего это и что знаменует? Захват власти, похищение права меньшей братии? Ничего подобного, никаких следов обиды и протеста. Если монтанисты во II в. и были симптомом какого то протеста, то не в пользу мирян как таковых, а харизматиков. Если исповедники Декиева гонения половины III в. и сопротивлялись епископам, то только в специальном вопросе о падших. Миряне исчезли из соборов безболезненно, естественно. Никто их не вытеснял. Они выпали сами. С концом героического периода гонений, колоссальным количественным ростом состава церкви, с вливанием в нее заурядных язычески обывательских масс понизился и качественный уровень мирянина, ослабела применительно к тому и покаянная дисциплина, изменился даже самый обряд (напр., причащение не из чаши, удобное в небольшом интимном круге, а со лжицы), естественно возрос и представительный вес епископов. При построении нового типа соборов-колоссов, со всей империи, сжатое представительство через епископов, и при том только старейших — митрополитов, диктовалось само собой. Нельзя отрицать, что с признанием церкви государственной и епископата в роли своего рода бюрократов и начальников, а их соборов как бы государственных съездов, роль мирян выпадала из соборов логически. Со времени Диоклетиана империей правила бюрократия, общественное самоуправление принципиально было отменено. На фоне этой централистической системы самые соборы были некоторым исключением, противопоставленным идеализмом Константина распаду старой языческой гражданственности, но ценой, конечно, вдыхания в них доли бюрократизма и внешне-принудительного авторитета. Епископат бюрократизировался извне без всякой злой воли. Бюрократизация епископа и соборов особенно закрепляется арианствующими императорами, которые полагали то одну, то другую кучку епископов в основу своей политики, точь в точь, как делаются ставки на политические партии. И те себя сознавали временщиками, ссылали инакомыслящих коллег, замещали их кафедры своими партизанами, иногда с военнополицейской борьбой против народа: в Александрии, в Константинополе, в Анкире... Народ церковный стал quantité negligeable не только в глазах светского начальства. Сами епископы отвыкли строить на нем чисто церковную политику. Примечательно, что св. Василий Великий, поставивший задачей своей жизни вывести восточную церковь из сумерек арианской смуты, нигде не включает в свой расчёт влияния народа и строит все планы только на подборе и организации ядра православных епископов. Верующий народ, духовно ослабленный множеством вошедших в него недавних язычников, далеко не вжившихся в подлинно христианские интересы, был и морально обескуражен спорами о вере и сбит с толку до равнодушия к епископским битвам. Споры константинопольской базарной мелкоты в 381 г., которые фотографирует нам Григорий Богослов, прозрачно отражают вульгарную агитацию аномеев, а не здоровую соборную психологию мирян. Арианская смута в дурном смысле аристократизировала церковь, отдалила народ от епископата. Пестря соборами, она в этом смысле была самой бессоборной в сравнении с предшествовавшими столетиями.
Все вселенские соборы в общем соборы епископские. Но вот выступает в жизни церкви в первые ряды по своей религиозной живости и сознательности масса монашеская. По чину это миряне, не клирики. И тем не менее они становятся впереди клира. Монахи окружают III вселенский собор. В собор Ефесский 449 года, собиравшийся в качестве вселенского, они уже включаются как члены. Поколебав, однако, этим участием свою репутацию, монахи не допускаются на следующие IV и V вселенские соборы. На VI уже шесть монахов голосуют. А на седьмом их уже множество — 131 человек, со специальным разъяснением о праве их решающего голоса. Это потому, что они герои иконы, триумфаторы победы над ересью.
Какой вывод намечается этим очерком эволюции состава соборов? Вывод о подвижности этого состава, соответственно удельному весу и степени живости отдельных элементов церкви. Идеал соборного участия на соборах всех вместе с епископатом зависит от внутренней силы участников в общей церковной жизни. В церкви нет абсолютно неподвижных шаблонов. Монахи мученически боролись за иконы, — и вот они — миряне на вселенском соборе судят епископов и судят строго, придирчиво. Уж если применить к монахам VII вселен. собора аналогию права голоса, то можно сказать, что в борьбе они обрели право свое. Но не в борьбе за это право, а в бескорыстной борьбе за догматическую истину, в подвиге за благочестие. Вот путь каждому мирянину, каждой неиерархической величине в церкви к праву голоса на соборе. Не искать голого права, а заслужить его подвигом веры и благочестия. Толцыте и отверзется. Будьте внутренне соборны, подлинно церковны, и будете внешне на соборе. Таков путь и законы соборности.
В эпоху греческого средневековья и более позднюю наблюдаем ту же подвижность в конструкции соборов. В эпоху Фотия на собо-
рах выпукло фигурирует государственное светское представительство. Во время Льва Мудрого и споров о четвертом браке, где задето было священство, на соборе 920 г. решение соборное постановлено и подписано архиереями и священниками. На соборах эпохи Палеологов, когда волновалось монашество, членами соборов видим монахов и чиновников патриаршего управления. В униональных стремлениях Палеологов, противных настроениям народным, императоры могли опереться только на отдельных иерархов. И потому соборное оформление уний — Лионской 1274 г. и Флорентийской — 1439 г. проводится через одних епископов. Но тут же во всей силе и поучительности вскрывается и внутренняя подложность этой епископской соборности. Она оказывается бессоборной, оторванной от всего народного тела церкви, чисто интриганской. Под писанные на торжественных вселенских соборах Запада царями и патриархами эти унии превращались на почве КП-ля и Греции в пустые клочки бумаги. Суть соборности не в форме, а в реальности ее содержания. При полной гармонии епископата с паствой он один на соборе подлинно выражает голос церкви. Он полнокровно соборен. В случае расхождений и в меру этих расхождений он становится недостаточным и несоборным, нелюбовным, а потому и должен быть восполняем голосом заинтересованных слоев церковного тела. Так и бывало в истории Востока без скрупулезных канонических предопределений, по верному инстинкту правдолюбия и духа соборности. Так бывает и при корректировании вся кого рода авторитарных режимов. Авторитарная власть, довлеющая себе и при ровном течении дел, в минуты сомнений и колебаний прибегает к представительству нации, к национальным собраниям, экстренным и даже регулярным. Так и в церкви собор заурядный это, конечно, епископский собор. Он и отражен в наших канонических схемах, впрочем, нигде авторитетно не кодифицированных. Но в эпохи переломные и критические, как напр., переживаемая нами, разумеется, эта обыденная авторитарная форма собора рискует быть худосочной в смысле соборности. Она рискует не отразить всей сложности общецерковных потребностей, не удовлетворить и не успокоить церковь.
В русской церкви чин соборов не мог не быть по началу простой копией греческого обычая. Тем более характерны его жизненные варианты, создавшиеся здесь под влиянием условий среды и момента. Бледные сведения о соборах домонгольского времени скорее дают представление о соборах только епископского состава. Но вот, напр., собор в Переяславле Залесском в 1309 г. по спорному вопросу о ставленных пошлинах и обвинении св. митр. Петра в симонии. На соборе участвует множество низших клириков и мирских людей. Дело доходит чуть не до вооруженного столкновения между разными княжескими партиями. Явно, что вопрос, касавшийся рядового священства и мирян-патронов множества церквей, и решался на соборе с участием депутатов от этих заинтересованных кругов. Эта форма соборности — назовем ее условно — типа деМократического. А вот обратный тип, автократический, Мирно-консервативную Русь в 1437 году озадачивают греки вовлечением во Флорентийскую унию. Великий князь московский Василий Васильевич, сознающий себя теократическим светским главой русского православия по подобию греческих царей, ни о каком соборе своих епископов и не задумывается. Он просто сам решает послать навязанного нам митрополита грека Исидора на собор в Италию. А когда тот возвращается в Москву с актом унии, то соборная мысль русских епископов цепенеет и впадает в паралич от этой ошеломляющей неожиданности: «вси епискупи рустии умолчаша и воздремаша и уснуша». Тогда сам великий князь единоличным волевым решением отверг унию. Вслед затем «вси епископии рустии возбудишася и начаша именовати Исидора еретиком». Это был момент кристаллизации московской теократии, когда психологически фокус русского религиозного самоопределения сошелся в сердце московского единодержавца. Эта была, если можно так выразиться, соборность свернувшаяся, собравшаяся в одну точку, но именно соборность, а не личный произвол. Ибо, исходя вновь из того центра, в котором она собралась, она принята была и епископатом и клиром и всем народом, как подлинная соборная мысль всех. Так Дух дышит, где хочет.
Обычный состав соборов московского времени 1490, 1503, 1504,1547, 1549, 1551, 1553 гг., слагается, кроме епископов, также из архимандритов, игуменов, старцев, протопопов и уполномоченных великого князя. Многочисленные (около 20) соборы русской церкви патриаршего периода ΧVΙΙ в. составлялись, как правило, кроме епископов, сравнительно немногих в русской церкви, из превосходящего их числа монашествующих и белых духовных лиц, часто совместно с самим царем, его боярами и чиновниками. При этом формальной разницы в учете голосов этих членов собора нигде не отмечалось. Современной нам дистинкции между голосами решающими и совещательными тогда не существовало. Де факто все голоса могли приниматься как решающие. Вот, напр., выражение Никонова собора 1654 года: «великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович и преосвященные митрополиты, архиепископы, и епископы, и священные архимандриты, и игумены, и протопопы, и весь освященный собор, все едино отвещали: достойно и праведно исправити противо харатейных и греческих». Подписывались под соборными актами также все чины иерархии. Только в суде над епископами и патриархами участвовали одни епископы.
Такой же широкий обычай окрашивает собою историю соборной практики и в отделившейся от Москвы с 1459 года киевской митрополии в литовско-польском государстве. Там к соборному участию привлекались все разряды духовенства, даже под угрозой церковных наказаний, как к обязательной повинности. Но там особенно пышно развернулась роль мирского элемента в соборной жизни и на соборах православной церкви. Драматическая история этой ветви русской церкви, как известно, состоит в том, что, попав под гнет иноверного правительства, она подверглась систематическому олатиниванию путем вовлечения в унию с Римом. Проводниками этой измены народной вере сделаны были епископы, проводившие планы правительства путем заговора и противонародной интриги. Естественно, что инстинкт самосохранения подсказал мирянам., дворянству, купечеству и мещанству путь контроля над изменницей иерархией, путь самодеятельности в создании школы, духовного просвещения, богословской литературы и организации братств. Все это без содействия или даже при противодействии архиереев. Отстояла православие, сохранила и через века донесла его до времени восстановления — все мирская организованная масса. Поэтому перед введением унии, в конце ΧVΙ в. на всех соборах русской церкви здесь мы видим мирян и как представителей земства и как деятелей братств. А роковой Брестский собор 1596 г. был уже вынужден сложиться в боевое собрание всех сил православной русской нации с князем Κ. К. Острожским во главе. Восточные патриаршие экзархи в этот сложный момент очень тактично организовали огромный съезд в два параллельно действовавших кола: коло духовное и коло мирское. Так создан был новый, до тех пор еще небывалый, порядок соборования, в виду особых обстоятельств момента, порядок, нужно заметить, оказавшийся практически использованным и на последнем всероссийском соборе.
Народная общественная стихия не могла не проникнуть на собор московский 1917—18 гг., потому что он явился результатом безмерно затянувшихся ожиданий и реализовался только уже во время всеобщей раскачки революции. Как бы то ни было, счастливый прецедент организации православного Брестского собора в виде двух кругов дал прекрасный выход из практической и канонической трудности в построении собора при большой перегрузке его светскими элементами. Было создано архиерейское присутствие в виде особого контролирующего органа внутри самого собора. Явилось построение, кое в чем сходное с системой двух палат, хотя это сравнение и следует признать только приблизительным. Взаимоотношение двух соборных кругов может иметь очень разнообразные виды. Так напр., польская православная церковь наших дней готовится к собору также по плану двух кол: архиерейского и духовно-мирского. Но предполагаемая ее конструкция далеко не тождественна с бывшей московской. Мы не касаемся деталей. Хотим утвердить только тот принцип, что применительно к состоянию умов нашего времени в православных церквах соборы местные и более широкие, вплоть до вселенских, могут удовлетворить общее сознание только при условии привлечения на них в той или иной форме, по той или иной системе всех кругов церкви. Странно и непоследовательно было бы теперь устранять мирян от активной роли на соборах, когда эта роль во многих церквах исторически уже укоренилась в самом высшем церковном управлении. Самая борьба за церковь и за православие на Востоке с иноверными властями и с иноверной пропагандой давно побудили иерархию тесно связываться с мирскими народными силами и вместе с ними отстаивать свое бытие. Так греческая церковь под режимом ислама по духу своего управления могла быть только народной. И мирской национальный элемент у греков утвердил свое влияние вокруг самого патриаршего трона. Поэтому в половине ΧVΙΙΙ в. Константинопольский патриарх Самуил I только оформил создавшееся положение дел, когда реформировал свой патриарший синод, между прочим, и в том отношении, что ввёл в него четырех светских членов-архонтов для заведывания экономическими и некоторыми административными делами. Равным образом сербская церковь в пределах бывшей Австро-Венгрии управлялась в значительной мере светскими национальными элементами. И это ее спасло от бюрократизации и подавления воли ее иерархии католическим правительством. С половины XIX в. на верхах вселенского патриаршего управления учрежден рядом с синодом высший «Постоянный Народный Смешанный Совет» из четырех епископов и восьми мирян. По подобию этого совета и в нашем русском новом патриаршем управлении рядом с «Священным Синодом» учрежден «Высший Церковный Совет» при наличности в нем нескольких мирских членов. Это соучастие мирян в православном церковном управлении не имеет ничего общего с протестантством по своим корням и духу. Оно естественный продукт канонической практики восточной церкви. В нем нет того уродливого засилья светских архиерейских чиновников, от которого целые столетия страдала старая московская митрополия и старый патриархат. Раз это так, то принципиальный, формальный и практический вопрос об участии на предстоящем всевосточном соборе духовенства и мирян ставится с неизбежностью. Весь вопрос лишь в мере, такте и технике его осуществления.
При ясном свете истории теперь уже нельзя, вопреки очевидности, утверждать, что вопрос об участии всех слоев церковного тела на вселенском соборе есть новизна неправославная. Нет, это старина и хронологически, и по духу православия. Глубокая, органическая старина. Если бы людей, исповедующих противоисторический миф о неподвижности церкви спросить, скажем, во II в., в эпоху гонений: можно ли построить святую Софию с ее мозаиками и иконами, с ее блестящими ризами и богослужебными чинами? то они сказали бы: нельзя, это чужое, языческое. А теперь это принимается наравне с иной, конечно, по внешности апостольской стариной. Жизнь в церкви, как она ни консервативна, есть все же жизнь и непрестанное движение и непрестанное творчество. Темп его совсем другой, чем в мире природы и профанной культуры. Вековой, тысячелетний, но все же темп, все же перемены и некоторые новизны, в благом смысле. Вот в этом благом смысле, благом духе и заключается ключ и гарантия творческих усовершенствований форм церковной жизни. Берем консервативнейшую форму — епископский корпус. Вот он формально приемлет унию у греков на флорентийском соборе, у киевских русских на брестском соборе. Но, несмотря на внешнюю легальность, епископат не представляет своей церкви. Не представленная на соборе мирская масса законно и праведно отвергать вотум своей иерархии, не благой вотум. Равным образом, такой же не благой вотум народной массы знают каноны и отвергают его, как смуту «охлоса» — черни. Надо признаться, что в современной нам обстановке благое начало мирской активности в соборах часто отравляется не благими инстинктами, если не черни улиты, то черни от политической и националистической идеологии. Если соборность епископского голоса должна быть подлинной и здоровой, действительно представляющей голос всей церкви, то и соборность клира и мирян должна быть тоже духовно чистой, здоровой и церковно оправданной. В этом вопросе над нами висит опасность и искусственной выделки соборности, а тем более подделки её. Борьба за право участия клира и мирян на соборах часто питается лукаво маскируемыми классовыми, сословными, политическими и шовинистическими стремлениями, а не ревностью о славе Божией. Это не приобретение для собора, а муть и отрава, которая унижает и искажает самую идею воплощения нашим историческим поколением в православии высшей и лучшей, чем прежде, формы соборности. Как от епископов мы — миряне требуем какой то меры соответствия их служению и призванию, так и к себе предъявим в виду собора эту строгую мерку церковной соборной подлинности. Будем подлинной церковной силой, тогда мы почти автоматически будем и в соборе. Проблема участия мирян во вселенском соборе может показаться несоизмеримой с идеей непогрешимости и идей высшей власти этого органа церкви. Необходимо поэтому сделать краткие пояснения и этих сторон вселенского собора. Можно встать и в противоречие с фактами истории и ничего не понять в этих свойствах соборов, если опять-таки не поставить их в связь с живой идеей соборности. Оторванный от глубины соборности, даже формально внешне правильный вселенский собор, как мы видели, не раз оказывался и невселенским и ошибочным. По чьему суду? По суду глубинной общецерковной соборности, вскрывающейся иногда не сразу. Следовательно, критерий не в самом соборе, как таковом, а в ней, в соборной глубине церкви, т. е. в самой церкви. Она ведает всю нужную для спасения истину и она все проверяет. Тогда для чего же собор, что он может прибавить?
Св. Викентий Леринский пытался так определить эту непогрешимость церковного сознания: «Мы содержим то, что повсюду, всегда, всеми веровалось — вот это именно и есть поистине и подлинно кафолическое». По внешности это не так. Определения I Вселенск. собора об «Единосущном», VΙ собора о «двух волях и двух действиях», VII об иконах «не всегда, не везде и не всеми» исповедывались. Следовательно, западный отец церкви хотел сказать, что и эти новые догматические формулы потому становились непогрешимо кафолическими, что воспринимались в этом качестве всей церковью, как свое исконное, повсюдное и всеобщее, осознавались как только извлеченный корень. Следовательно, и другой признак непогрешимого учения церкви, формулируемый, как «согласие всех отцов», тоже не может пониматься буквально, ибо отцы противоречили друг другу и даже самим себе, как все люди. Если бы они во всем согласовались и если бы можно было в любую минуту увидеть и узнать что «повсюду, всегда и всеми веровалось», то и соборы были бы излишни и ничего не могли бы прибавить. В том то и дело, что до исследования пред собором и на соборе, до споров, до поисков истины и ее формы ни всеобщее верование церкви не ясно, ни согласия отцов не усматривается. Но, когда произведена в духовном напряжении нужная работа, когда найдена наилучшая формула на осененном милостью Божьей соборе и она, после опытной проверки церковным сознанием, оказывается истинной, тогда и открывается, что и отцы, в сущности, все с нею согласимы и через то и между собою согласны, и что согласна она и с общим всегдашним верованием церкви. Этот кажущийся логический круг и есть признак гармонии соборного новотворчества с соборным охранительным подсознанием церкви. Таким образом, под критерием consensus omnium patrum и под формулой св. Викентия, в сущности, надо подразумевать это подсознание и сознание церкви, слитые вместе, т. е. самое лоно соборности. В нем критерий непогрешимости, а не в соборе самом по себе. И нет непогрешимости ни ante synodum, ни ad synodum, но только post synodum. Т. е. мы возвращаемся к той же «рецепции», к принятию собора всей церковью, как ошибочного, или как непогрешимого. А в этом таинственном инстинктивном акте участвует все тело церкви, самый народ церковный, по слову восточных патриархов. Следовательно, вопрос об участии этого народа, носителя самой непогрешимости церкви, в деятельности вселенских соборов не только не заключает в себе ничего нескромного, наоборот, рождает обратный вопрос: скромны ли те соборы, которые тщатся быть непогрешимыми в отдельности от интегральных хранителей непогрешимости?
То же самое надо сказать и о высшей власти вселенских соборов. Да, это есть высшее учительное, законодательное, судебное и распорядительное учреждение в церкви. Не для римокатоликов, впрочем. У них оно нуждается еще в утверждениях папы. У нас этот невидимый папа, стоящий над или под собором, есть опять таки сама церковь, во всей ее целости, во всей соборности. Она есть настоящая высшая власть, принимающая или отвергающая и самые соборы.
Итак, и власть и непогрешимость вселенских соборов в православном понимании освобождаются от грубо юридического, принудительного, магического смысла. Таинства собора нельзя осмыслить без понимания соборности. И подлинного вселенского собора нельзя искусственно сделать без переживания его всей церковью рано или поздно. Вселенский собор не может совершиться вне нас, он во всех нас.
IV. III-й Вселенский Собор
(в Ефесе, 431 г. — 1500-летие в 1931 г.)
В 1925 г. мы праздновали 1600-летний юбилей I Никейского Вселенского Собора. В этом году наступило 1500-летие III Вселенского Собора в Ефесе. За предстоящие 55 лет, в 1951, 1953, 1980, 1981 и 1987 гг. христианский мир справит юбилеи всех семи вселенских соборов, сообразно с шумным характером нашего века более ярко, чем это делали иногда специальные богословские круги в прошлом столетии. Церковно-историческая наука, вероятно, как всегда, с честью выполнит свой долг. Пыль веков от хартий отряхнув, развернет пред немногими, желающими внимать ей, правдивые сказания древности. Но сердце современности, современности церковной (о безцерковной не приходится и упоминать) почувствует ли себя разбуженным этими воспоминаниями о страстных и трагических борениях дней давно минувших? Коснутся ли хоть как ни будь темы, когда то волновавшие и раздиравшие на части античную вселенную, души наших церковных масс? Воспразднует ли церковь литургически — ведь здесь бьется ее пульс — свои былые победы, как что то живое и понятное до сего дня? Едва ли. Пока нет на то никаких признаков. Мы не звонили в колокола 22-го июня, когда открылся собор в Ефесе в 431 г., мы не воспели ему ни одной новой стихиры. Не забилось ни одно сердце. В жизни церкви что-то произошло, отшумели и перевернулись какие-то страницы, и самочувствие церкви стало иным.Нет лучшего доказательства исторической изменяемости церкви, как этот не надуманный, органически сам собой происшедший, более чем тысячелетний перерыв ее практики вселенских соборов. Разумеется, драгоценный залог веры церковной пребывает неизменно все тот же. Каждый день в круге богослужебном и круге праздничном мы живем вместе, как с живыми, со Христом и апостолами, с пророками и Предчетей, с Богородицей и святыми. На земле, как на небе. Во времени, как в вечности. Как бы неизменно, бессмертно. Но догматический разум церкви явно подлежит власти времени и истории. Моменты кипения сменяются веками охлаждения. Бури — долгим затишьем. Жгучий интерес — забвением и равнодушием.
Вот ключом бьют откровения, рука Господня тяготеет над пророками и тайнозрителями: — рождаются священные писания. И вот неслышно, незаметно закрываются разгнутые книги небесных видений, и — текут писания назидательные, но немощные, вырождающиеся в апокрифы. То избыточествуют харизматические явления Духа Божия, то как то сразу перестают быть общим правилом, переходя в редчайшие исключения. Истекают назначенные сроки, в которые достигается и отлагается во времени, воплощается в истории потребное откровение, и свершившееся не повторяется. Романтическая тоска о прошлом и усилия вернуть его страстными порывами человеческой воли приводят к еретическому богопротивлению, как было с монтанизмом II-III века, или — к бессильной игре в апостольское христианство, как было с павликианством VII в., затем с средневековыми и новыми сектами. Очевидно, Дух Животворящий и направляющий судьбы церкви не нарушает естественных законов развития, а сообразно с ними, вместо бесплодных археологических подражаний, побуждает церковь для ее новых переживаний находить и новые формы. «Время всякой вещи под небесем» (Эккл. 3:1). Так осмысливается бытие церкви во времени, как цепь исканий и достижений в пределах раскрытия данного свыше залога апостольской веры, с естественным охлаждением чувств и волнений на раз завоеванных позициях и с законностью новых тревог, новых исканий, новой борьбы и жажды благодатного озарения для утоления новых запросов и догматического сознания, и практического благочестия и всего строительства Царства Божия на земле, как на небе, в его всеохватывающей жизнь полноте.
Не будем пугаться того, что пыль к вопросам древних вселенских споров в церкви нашего времени охладел. Это законное успокоение от обладания некогда с трудом завоеванным. Искусственное же воссоздание пережитого интереса было бы противоестественно. Страшно другое, — страшно охладение вообще жажды богопознания, жажды постижения христианской истины. Укор христианству нашего времени в том, что мы не наблюдаем в нем равной прежнему догматическому горению ревности о творческом выявлении истины церковной в какой угодно, мистической или жизненно-практической, форме, потребной нашему времени. Души охвачены в мировых масштабах на первом плане, какими угодно другими завлекающими и отуманивающими интересами (имеем в виду не низменные и грубые, а так называемые идеальные, более бескорыстные интересы культуры и общечеловеческого устроения), но не интересами церкви и царства Божия. О них думает меньшинство и думает очень по-разному, в разделении на мелкие дроби христианства. Нет в ясном сознании одного вселенски волнующего вопроса, который горел бы над головами всех христиан, как тревожная комета, как подлинное знамение времени, повелительно требующее соборного ответа церкви. Так, как это было прежде, напр., с триадологией и христологией, с арианством и монофизитством. Мы говорим: нет такого вопроса «в ясном сознании», но может быть он назрел уже в подсознании и может быть мы накануне такого вселенско-христианского движения? На то походит. Наше время полно предчувствий и томлений. Могут ли быть чужды церкви эти воздыхания вселенной? Итак, обратимся к Ефесу в 431 г. без преувеличенного стыда за то, что мы как будто безучастны к тому, что там переживалось. Но и без ложного превозношения над богословски-утонченными пререканиями того времени, которые нередко аттестуются даже христианскими историками, как болезненная гипертрофия эллинского интеллектуализма, а глазам неверующих наблюдателей нового времени кажутся даже прямым искажением сути христианства. Любовное внимание приблизит к нашему уму и сердцу живой смысл происходившего спора и даст нам поучительный урок, как ориентироваться церковному кораблю, если ему суждено вновь рассекать высокую волную вселенской бури.
* * * III Вселенский Ефесский собор 431 г. по своему внешнему облику, в сравнении с другими Вселенскими соборами, является самым неблагообразным, самым смутным, неудачным в своем исходе и формально просто несостоявшимся. По своей беспорядочности, он немногим уступает соседнему по времени с ним Ефесскому же собору 449 г., собранному так же в качестве вселенского, но заклейменному вскоре жутким названием «разбойничьего». А. между тем деяния Ефесского собора 449 г. были тем же самым императором Феодосием II утверждены, а деяния III Вселенского Собора не утверждены, и собор за беспорядок и беззаконие высочайше распущен. Но церковь судила иначе. Церковное восприятие было как раз обратное. Отсюда видно, что богословско-канонический термин «рецепции» соборов обосновывается на несомненных фактах. Есть икона вещей, их высший, богоподобный, нетленный образ. И праведно зрящее око видит икону там, где плотское зрение видит лишь убогую материальную оболочку. Из своей бурной истории, не менее бурной, чем всякая другая человеческая история, церковь выделила множество иконных образов, составивших сокровищницу ее учения и назидания. Есть иконографическое представление о Вселенском Соборе; есть и иконы Соборов в красках. Это — и духовная реальность, и вместе и абстракция от конкретной и часто мутной исторической действительности. Верующий историк должен видеть икону событий, но, именно как историк, он обязан знать и давать отчет о всей живой прозе событий прошлого. В этой двусторонности и вместе двуединстве познания и исполняется долг христианской мудрости, живущей и дышащей антиномической тайной богочеловечества. Как же и почему вышло, что далеко не примерный Ефесский собор 431 г. воспринят нами как Вселенский, т. е. как одна из норм нашей веры?
О чем шла речь тогда? Как раз именно о тайне богочеловечества, об ее умственном постижении до крайних пределов доступной человеческому разуму ясности. В сущности, это тот же самый вопрос, который томит и современное нам догматическое и практическое сознание христианства, вопрос: как соединяется божественное с человеческим и что есть человек пред Богом? В ту пору этот вопрос с диалектической неизбежностью надвинулся на церковь по окончании традиадологических арианских споров. В исходе незаконченного Ефесского сражения потерял голову архиепископ царствующего града Несторий, а победителем вышел александрийский папа Кирилл. Их яркие лица в значительной мере объясняют такой исход. Но главное все-таки не в них, не в отдельных лицах. Настал момент неотложного решения для Церкви: какой курс догматической мысли она должна взять в споре о лице Богочеловека? А курс был разный, не в отвлеченной логической возможности, а уже в крепко сложившихся двух школьных направлениях ученой богословской мысли антиохийского и александрийского центров. После неудавшейся попытки нашего ученого историка прот. Иванцова-Платонова затушевать роль двух различных школ древнего вселенского богословия, надо признать бесспорным достоянием и нашей науки, вслед за инославной, признание глубокой философско-богословской разнотипности двух названных школ. «Несторий не один, — Несториев много!» — восклицал в 449 г. Диоскор Александрийский. Да, дело было не в Нестории, а в конфликте школ, разделивших весь Восток на две половины. При такой предпосылке скомкать вопрос и приглушить его вскрытие внешними прещениями, как это вышло в Ефесе 431 г., было мерой бесполезной. Жизнь потребовала разворачивания вопроса до конца. И, как известно, Ефес 431 г. был только «началом болезней». Если арианская лихорадка бурно трепала организм церковный долгих шесть деся-
тилетий то перемежающаяся лихорадка христологических споров растянулась на целых 250 лет, износила исторический организм церкви до явного утомления, расколола и умалила самую Византийскую империю; унесла из лона кафолической церкви миллионы душ в ереси и отняла у греческой державы весь иноплеменный окраинный восток.
* * * Христологию исказили еще ариане, для которых легко было сочетать два тварных начала во Христе. Ради единства личного самосознания они брали от человечества только «плоть», а «душу» заменяли тварным Сыном Божиим. По странному капризу судьбы великий столп никейства Аполлинарий из Лаодикии Сирийской, ополчаясь на ариан, впал в аналогичное им заблуждение. Выдающийся дар логиста и блестящее перо писателя ввели его в соблазн дать своим многочисленным ученикам и поклонникам рационально-ясную систему христологии. Отправляясь от трихотомной платоновской схемы состава человека и вместе от аристотелевского представления о конкретной ипостасности всех вещей, Аполлинарий в жертву единства самосознания воплотившегося Логоса принес высшую треть человеческого состава. Он считал верхом абсурда соединить в едином самосознании λόγος и νου ς человеческий с таковым же Божеским, ибо каждый по природе αὐτοκίνητος, т. е. самодовлеющее и свободноволящее начало. Совместить их в одном сознании так же немыслимо, как совместить, во-
преки закону непроницаемости, два протяженных тела в одном пространстве. В Богочеловеке разумное и волящее начало Божественного Логоса, конечно, исключает немощной и удобопревратный λόγος и νου ς человеческий. Так нарушается Аполлинарием полновесный смысл Никейского символа, повелевающего исповедовать не только «воплотившегося», но и «вочеловечившегося». В погоне за соблазнительно-рациональной схемой предан сподвижником во время оно Великого Афанасия и авторитетом даже для великих капподокийцев основной завет Афанасиева богословия: — сотериология. «Невоспринятое Богочеловеком и не спасено» (τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον — Григор. Б. Письмо 101). «И спасл еси всего мя человека» поет, согласно этому завету, церковь, вечно отталкиваясь от умного недоумия Аполлинария. Ересь сгубила славу этой выдающейся богословской фигуры IV века. II Вселенский Собор в Константинополе 381 г. окончательно заклеймил аполлинаризм, как ересь, а имперский закон Феодосия Великого подверг ее, наряду с другими, гонению. Извращенная психология подполья толкнула сектантскую мысль восторженных поклонников Аполлинария на кривые пути богословско-литературных подделок. Лекции любимого профессора и его автографы были соответственно ретушированы, надписаны именами Григория Чудотворца, Афанасия Великого, пап Юлия и Феликса и пущены в литературный оборот. Подлог на редкость удался. Подделки видимо с расчетом были унесены с почвы антиохийской родины ересиарха и всеяны в эллинскую почву александрийского района, где богословские умы не были так чутки к распознанию аполлинаризма и где отрава пустила глубокие корни. Сосудом и шибболетом аполлинаристского умысла сделалось фатальное и знаменитое с тех пор речение, пущенное под именем Афанасия: μία φύσις Θεου λόγου σεσαρκωμένη. Формула с места нестерпимая для антиохийского уха, но, как увидим, специфически приемлемая для диалекта александрийского.
Для антиохийского ума аполлинаризм был самой несносной ересью. Он шел до оскорбительности наперекор всем самым дорогим заветам антиохийской школы выносившей в вековой борьбе с разными ересями специфическую ревность о защите и отстаивании полной, реальной человеческой природы во Христе. Борьба с заразой гностического докетизма, крепко угнездившегося в антиохийском районе с первых веков, взбодренного затем к новой жизни манихейскими веяниями иранского дуализма, побуждала антиохийских защитников кафолической истины развивать и литературно уяснять реальную человечность во Христе. Против дуалистического пренебрежения к материи и плоти и против фатализма, отнимавшего у человека свободу воли, антиохийцы защищали свободу и человека, как борца со злом и мужественного подвижника-аскета. Антиохийскому благочестию, в противность дуалистической манихейской отраве, дорога была полная человеческая природа во Христе, нам единосущная и нас в Нем спасающая. Всякое умаление ее, под лукавым предлогом благочестия, всякое лишь абстрактное ее утверждение во Христе, без конкретной полноты живой человеческой личности «пророка из Назарета Галилейского» воспринятого от зачатия в таинственное единение с Предвечным Сыном Божиим, заставляло по антиохийски верующего богослова настораживаться умом и сердцем против исконного исказителя кафолической веры: — манихейского докетизма. Самая этнографическая и топографическая близость антиохийцев к почве библейской и евангельской истории, к языку и нравам семитов, удерживали их сознание в атмосфере своего рода наивного реализма, не позволявшего превращать образ Иисуса Христа ни в какую абстракцию. Эта библейско-историческая «почвенность» антиохийцев делала их первоклассными экзегетами св. Писания и являлась крепким якорем, державшим за букву Писания самые смелые порывы христианского умозрения и мистики. Это был один из подлинных столпов и утверждений церковной истины. Ни в каком рационализме и позитивизме, как правильно утверждает H. Н. Глубоковский, антиохийцы неповинны. Они служители апостольского залога веры. Св. Писание для них не филологический документ, а откровение о тайне спасения через Мессию-Богочеловека. Они толкуют все Писание, как служители веры, типологически, прообразовательно, т. е. антирационалистически, однако, не аллегорически. Аллегория не есть обязательный метод для верующей мысли. Скорее наоборот. Она рискованный произвол художественной фантазии, часто ничего общего не имеющий с действительным смыслом написанного. Она скользкий путь к незаметному стиранию определенных очертаний открытых нам догматов и претворение их в некоторые туманные абстракции. Между тем, подлинный религиозный реализм враг абстракции. Другое дело — типология, или по-современному символизм, узаконенные Новым Заветом. Антиохийцы — типологисты.
В этой то среде и сложилась христология, не терпевшая никакого аполлинаризма и никаких его подобий. Христология, в сущности, православная и по своим целям и по субъективному пониманию ее творцов и даже по способу выражений. Но, конечно, как и всякое богословие, она не в силах адекватно выразить тайну догмата и без труда доступна критике ее слабых сторон. Праотец этой христологии — Диодор Тарсский, один из столпов ново-никейского православия, рекомендованный II Вселенским собором, как «правило веры», а отец ее — его ученик Феодор Мопсуестийский, скончавшийся почти накануне Ефесского собора (428 г.). Ни христология Афанасия, ни новоникейцев не давала антиохийцам безупречного образца для построения. Кроме указанных специфически местных мотивов для богословия антиохийцев формулировка его диктовалась им преобладающим философским авторитетом в их школе — Аристотелем. По их терминологии понятия «сущности», «природы» — οίσία, φύσις суть неживые абстракции. Лишь в момент ипостазирования общая «природа» становится частной, конкретной вещью. * * *
Корифеем александрийского богословия в данную минуту был александрийский папа св. Кирилл, носитель плодовитый и метафизик тонкий. Руководящим началом его богословствования была сотериология его великого александрийского предшественника Афанасия. Эта сотериология победила арианство. Она же должна победить и всякую ересь. «Бог вочеловечился, дабы мы обожились». Эта практическая Афанасиева директива освещала Кириллу все дебри возникшей философско-догматической проблемы христологии. Благодаря этому компас Кирилла был безошибочен, но все другое оснащение его богословского корабля было весьма дефективно. Тем удивительнее, что он как то выгребал и вел корабль к надежной пристани. Как и Афанасий, этот одаренный александриец V в. не имел полного школьного литературного образования, как он сам признается. Не в моде были тогда у христиан литературные языческие штудии. Даже для великого знатока родной литературы в IX веке, для патриарха Фотия, язык Кирилла был достаточно примрачен, самоделен и неправилен. Невыработанность терминологии, т. е. упомянутая нами выше практика безразличного употребления слов φύσις и ὑπόστασις открывала для Кирилла право, в параллель антиохийцам, ставить между ними как бы знак равенства, но из этого делать диаметрально противоположный вывод. По Феодору и Несторию две φύσεις требовали и двух ὐποστάσεις. По Кириллу, рассуждавшему с другого конца, утверждаемая им одна ипостась в Богочеловеке дает ему право говорить и об одной — природе. Однако, монофиситская «μία φύσις» Кирилла была действительно в некоторой степени таковой и не только на антиохийский взгляд. Ее отравляла псевдо-отеческая аполлинаристская литература, которую Кирилл, конечно, воспринял с безоблачной доверчивостью. Заимствованная из этого подлога μία φύσις Θεου Λόγου σεσαρκωμένη стала палладиумом Кириллова богословия и его тысячелетних еретических порождений. Да и подлинная Аполлинариева полемика против своей местной антиохийской христологии сослужила также в уме Кирилла соблазнительную службу ее готовой аргументацией против того же врага. Аполлинарий великолепно аргументировал против всякой попытки раздвоения лица Христова в пользу «единой сложной природы, единой ипостаси, единого лица — μία φύσις σύνθετος, μία ὑπόστασις, ἕν πρόσωπον. Так причудливым образом оказывалось, что даже квалифицированная ересь, с вычеркиванием из неё грубого пункта о неполноте человеческой природы во Христе, пошла на службу задачам православия, искавшего оружия против угрозы с противоположной стороны. Завитое в столь густую сеть дефективных предпосылок богословие Кирилла не могло остаться безупречным образцом на будущее. «В своем богословском направлении», говорит проф. Болотов, «Кирилл не только дошел до той черты, какую указал для выражения православной истины собор Халкидонский, но и перешел эту черту, сделал один лишний шаг в сторону будущего монофизитства» (IV, 180 Лекц.).
В чем же именно состоят сильная и слабая стороны Кирилловой христологии?
Всю силу своей ортодоксальной ревности и сотериологической мистики Кирилл сосредоточивает на утверждении чистейшего единства Лица и личного самосознания Богочеловека. Он ясно видит, как ипостазирование каждой из двух природ в антиохийской школе ведет к раздвоению человеческого и божеского самосознания во Христе и оставляет вопрос о тайне единства неразрешенным. Человек как бы не воссоединяется с Богом даже во Христе и потому так сказать «физически» не спасается. В противоположность этому юдаизирующему уклону, св. Кирилл ценою риска ущербить полноту одной из природ (в данном случае человеческой) устремляется к существенному, «физическому» (по его терминологии), ипостасному и личному, — мы сказали бы — «лично самосознательному» объединению человечества с Божеством ἔνωσις φυσικὴ, ἔνωσις καθ’ὑπόστασιν. По своему александрийскому закалу мысли он не обязуется природу брать ипостасно, в конкретной реальности, в личном раздвоении полного божеского и полного человеческого лиц. Он с истинно эллинистической и платоновской лёгкостью берет природу человеческую неипостасно, в ее безличной общности, удовлетворяясь этой ее полнотой, полнотой без законченного лица, т. е., в сущности, без законченной живой реальности. Корень личного самосознания в Богочеловеке, принцип индивидуализации, он видит только в природе божественной. В некотором тонком словесно-образном сродстве с аполлинариевой системой («Λόγος ἔνσαρκος») он для данной цели избирает из новозаветных определений Сына Божия имя Логоса и, строго говоря, им одним т. е. божественным Логосом и заменяет то, что мы называем личным самосознанием в Богочеловеке. Ипостасное человеческое сознание Иисуса Христа Кириллом укореняется в са-
мосознании, в ипостаси Бога-Слова, в Нем без остатка растворяется и, строго говоря, докетически исчезает. Гарантия единства личности и жизненного, самого интимного, сотериологического единения человечества с Божеством этим дается полная. Но какой ценой? Не ценой ли частичного умаления природы человеческой? При тогдашнем отсутствии науки психологии, при отсутствии такого, например, для нас элементарного термина, как «самосознание», уяснение тайны единения природ в живом Лице Богочеловека представляло для обеих спорящих школ непреодолимые трудности. На фоне этой беспомощности современной философии попытка Кирилла не может не считаться в своем роде глубокой и искусной. Пластический образ, которым он оперирует для пояснения своей христологической теоремы, также превосходит тонкостью аналогии антиохийцев. Те все время возвращались к механическому образу обитания Бога в человеке, как в храме. Кирилл подавляет их истинно таинственным и метким примером единения в человеке души с телом. Тело в человеке есть тоже целая плотская природа. Но корень его человеческого, живого единства в другой природе, в душе, — в начале высшем. Душа — это лицо человека. Она преобладает в вопросе лица и отодвигает роль тела на второе место. Плотская природа в человеке дана полностью, но она так сказать неипостасна. Душа, наоборот, ипостасна и свою ипостась дает телу и затем целому человеку. Более блестящей аналогии не выдумаешь. Но и эта аналогия только подтверждает уязвимость Кирил-
ловой теоремы со стороны неполноты, усечения или растворения вершины человеческой природы, ее ипостасного самосознания в самосознании Бога Слова, т. е. порочность в смысле монофизитства. Ведь неспроста же оно считает своим отцом св. Кирилла? Вот тут и вскрывается слабая сторона его христологической системы. Удовлетворяясь по александрийски абстрактным представлением о природах, св. Кирилл был нечувствителен почти к количественному умалению одной из них. Об евангельском историческом Иисусе Христе Кирилл опять таки по александрийски мыслит чисто богословски, до абстрактности. И труднейший вопрос об объединении немощных человеческих свойств Иисуса Христа с Его же божескими решает так сказать алгебраически. Замечательно последовательно, блестяще, но в диссонансе с евангельскими фактами. Бог Слово, став Иммануилом, сделал человеческую природу с ее телом «своею собственною». Поэтому: Сам Бог родился, возрастал, голодал и жаждал, страдал и умер. По этому безусловному communicatio idiomatum. св. Дева ничто иное, как Богородица. Во Христе нет другого субъекта, нет другого личного центра, к которому можно было бы относить какие либо предикаты и действия, кроме Лица Бога-Слова. Все от Бога-Слова исходит, и божественное и человеческое, немощное во Христе, и к Нему прямо и неизбежно относится. Не два ряда явлений, относящихся к двум ипостасям, как у антиохийцев, и затем уже от двух ипостасных точек сходящиеся к одной точке единого лица, но один ряд разнородных, но не разноипостасных явлений, по одной прямой линии идущих к одной точке единой природы-ипостаси-лица. Кирилла, как александрийца, не занимал вопрос об историческом евангельском Христе. Александрийское абстрактно-богословское воззрение Кирилла на евангельские факты не возбуждало в нем вопроса об отдельных природах во Христе. Ему казалось, что православного богослова должно интересовать только их единство, уже данное во Христе, и что положительно незаконно и бесцельно заниматься их раздельным рассмотрением, ибо их уже нет в данной действительности, а есть только «одна природа воплощенная»; две же были только до момента их соединения, а потому можно об них рассуждать лишь только абстрактно-теоретически (ἐν ψιλαι ς διανοίαις, κατὰ μόνην τὴν θεωρίαν). Однако, при встрече с евангельскими материалами тонкое лезвие этой концепции ломалось. Для антиохийских экзегетов бесспорен был факт, что Христос «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости», что Его познание было человечески ограниченно и подвержено закону развития вместе с Его телесным возрастом. Для александрийцев и для Кирилла и младенец-Христос был божественно всеведущ, а если и выявлялся, как постепенно познающий, то только «κατ’ οἰκονομίαν», т. е. искусственно скрывая свое божественное ведение в меру уподобления человеческому процессу развития. Это уже чисто докетический момент богословия Кирилла, но логически для него неизбежный. Полноличного человека в евангельском Христе, как у антиохийцев, у Кирилла не оказывалось. Его «природа», при абстрактном утверждении ее полноты, конкретно оказывалась обезличенной.
* * * Пред нами две школьно-богословских концепции, пытающихся изъяснить неизъяснимую тайну Лица Богочеловека. Неудивительно, что ограниченная человеческая мысль и слово, как предельная сила летательного аппарата, на какой-то черте изнемогают, сникают и даже терпят катастрофу. В обе стороны за какой то гранью уже получаются провалы ересей, как бы «воздушные дыры» на языке авиации. Где же выход? Выход в признании относительности всякого богословия, в допустимости в известных пределах, различных внешних философско-словесных форм выражения православной мысли, всегда несовершенных и потому не вечных. Суть ведь все-таки не в словах и формах, как они ни важны, а именно в православии самой мысли и чувства богословствующих и спорящих. Если они способны на беспристрастное взаимное понимание своих благих православных намерений, своего православного единомыслия и едино чувствия, спор отпадает. Под разными словами спорящие протягивают друг другу руку общения. Уж если, как мы видели, даже грубая ересь — аполлинаризм могла послужить у александрийской школы сосудом православной мысли, то тем более формулы неопороченные в такой степени. Не раз уже спасалось единство православия при терпимости к разному богословскому языку. Так было во второй половине IV века при расхождении великих умом и сердцем Афанасия и капподокийцев. Афанасий продолжал говорить, что в Боге «одна ипостась», а капподокийцы уже говорили «три ипостаси». Условившись на соборе 362 г. о своем православном единомыслии, они взаимно дали друг другу свободу слововыражений. Для такого великодушного сговора, конечно, нужна большая высь горизонта и тишина духа, которой как раз не было у сторон в разбираемом нами конфликте. В этом именно был трагизм момента. Как показал ближайший же опыт, спорящие могли между собою согласиться, даже под внешним давлением. Тем более, значит, они могли бы разобраться в разногласиях спокойно, по существу, без церковных расколов. Но этого то спокойствия и не было. Конфликт, олицетворявшийся в казусе Несторий-Кирилл, попал в фокус перекрестных ветров высокого напряжения, и корабль церковный закружило в вихре.
Не случайно то, что широко известное и ранее антиохийское богословие никому не приходило в голову объявлять еретичеством, пока его представитель не очутился на раскаленных стогнах Константинограда. Столица, как всегда, делала политическую и церковную погоду в империи, или, как тогда выражались, во «вселенной» — οἰκουμένη. Положение обязывает, и главе церковной власти рядом с двором и троном надо было иметь или слишком много безличия, или бездну мудрости, чтобы не поскользнуться и не упасть при громком эхе «вселенной». Православной репутации иерархов Константинополя нельзя сказать, чтобы посчастливилось от самого его появления на сцене истории, как столицы. Вождь арианства Евсевий сразу же захватил Византию вместе с двором под свое влияние. И с тех пор все арианское полстолетие церковь в лице своих старейших апостольских кафедр римской и александрийской величественно боролась с константинопольским арианством и тамошними еретичествующими императорами. Апостольская кафедра антиохийская долгое время омрачала себя солидарностью в арианской политике с Константинополем. Даже внешняя чистка зачумленной ересью столицы произведена была железной метлой Феодосия Великого, пришедшего с Запада под никейским знаменем римского папы Дамаса. Создалась традиция еретической многогрешности придворных ставленников, архиепископов Константинополя и отчасти с ними связанных антиохийцев, в то время как осиянная славой Афанасия Александрия и вдовствующий императорским троном, но гордый своим православием папский Рим сознавали себя на страже вселенского православия и на страже подлинного первенства своих апостолических кафедр против этого неблагословенного выскочки — Константинополя и его маленького епископа с крошечной епархией в границах одной столицы, формально зависевшего от маленького же митрополита Ираклийского. Никакого церковного прошлого, никаких заслуг перед церковью и православием. Только одни раздражающие претензии быть каким-то непрошенным главой церкви — орудием государственной власти. Вся мелкота недовольных судом своих епископов клириков и монахов стекалась в столицу и апеллировала к двору через посредство столичного иерарха. А значение иерарха без всяких чисто церковных оснований автоматически поднялось над всей церковью, как неизбежное последствие огосударствления церкви. У Константинопольского епископа, кроме города, не было даже своей епархиальной территории. А между тем, пред ним не только стушевался его митрополит Ираклийский, но совершенно угасли и целые диоцезы: Фракия (восточный Иллирик), Вифиния, Понт, Асия попали в орбиту его тяготения и дали ему территорию целого патриархата. Такое невольное автоматическое завоевательство, такой нецерковный «империализм» власти Константинопольского епископа не мог пройти ему безнаказанно со стороны им поглощенных, обиженных и обойденных. При покровительстве Феодосия Великого в 381 г, на Константинопольском соборе, признанном затем II Вселенским, царствующий град, еще не отмывшийся от арианской грязи, уже провозглашен был в церковном отношении вторым по чести и правам после древнего Рима. Никогда этого не признавал Рим, и для Александрии это был удар ножом в сердце. Даже до наших дней в греческом мире не забыто это домашнее соревнование двух патриарших кафедр. Александрия в ту пору поставила себе задачей по крайней мере проводить своих людей на столичную кафедру и всячески держать се под своим влиянием, а при случае конфузить ее иерархов и подрывать их «дутый» престиж. Так объясняется борьба против св. Григория Богослова со стороны брата Афанасия Великого, Петра Александрийского, в союзе с Римом выдвигавшего Максима Циника. Еще ярче эпизод озлобленной борьбы Феофила Александрийского против Иоанна Златоустого, в которой обиженный митрополит Ефесский был заодно с Александрией и этой борьбой закрепил с нею союз против Константинополя и на будущее время. Римский папа в эту недобросовестную борьбу, к счастью, не был замешан, но охотно взял на себя более лестную роль судьи над константинопольскими делами в качестве судьи апелляционного, — честь, которую папе Иннокентию и многим его преемникам всегда сам на блюде подносил раздаривший греческий Восток, унижая тем престиж Константинополя и внося свой грешный вклад в выращивание римских претензий на исключительную власть в церкви. Такая систематическая борьба Александрии и Рима с Константинополем имела своим идеальным оправданием спасение достоинства и независимости церкви от беспредельно и грозно выросшей над ней государственной власти. Но идеальная цель на деле едва светилась во тьме человеческих страстей соревнования и мести. Из Александрии и Рима на Константинопольскую кафедру постоянно наведены были жерла тяжёлых орудий и подозрительные бинокли их наводчиков. Волей неволей, однако, Константинополь был своей столицей. Тамошняя церковная жизнь была для всех своей столичной жизнью, за участие в которой горячо сражались и за перипетиями которой непрестанно наблюдали и рапортовали церковные посольства апокрисиариев двух пап, Римского и Египетского. При выборах преемников столичным архиепископам приходил в движение огромный запутанный клубок разнородных влияний и интриг. Сам двор изнемогал от них и прибегал иногда к навязыванию совершенно неожиданного и стороннего кандидата, чтобы сорвать выборную игру местных кандидатур. В таком порядке двор при императоре Аркадии извлек из Антиохии блестящего Златоуста, но зато и не мог защитить его от местных неутоленных партийных аппетитов, которые отомстили ему предательством, несмотря на его святость. Точь в точь то же самое случилось и теперь, при сыне Аркадия, Феодосии II, когда двор, во избежание повторяющейся безысходной борьбы за кандидатуры пресвитеров Прокла и Филиппа (последнего, по-видимому, кандидата Александрийской партии) по прежнему примеру обратился к Антиохии н взял оттуда тоже прославленного своим красноречьем, как бы второго Златоуста, монашествующего пресвитера из монастыря св. Евпрения, злополучного Нестория.
В этой напряженной обстановке нескромный провинциал, с преувеличенным мнением о своих ораторских дарованиях и своей образованности, был с самого начала обреченным. Гений не мог бы угодить на всех. Тем более Несторий. По прадеду из персидских выходцев, Несторий обладал пылким темпераментом, ревниво бросавшимся на защиту теоретической истины, непогрешимым обладателем которой он себя мнил. Так было еще в аудитории Феодора мопсуестийского. Благожелательный учитель, напутствуя своего пылкого ученика, вызванного в Константинополь, умолял его быть осторожнее, ибо никогда еще не встречал такого пламенного ревнителя веры. Но самоуверенный Несторий не внял мудрому уроку. Не разбираясь в сложной дипломатической атмосфере столицы, он сразу же поднял яростное гонение на всех еретиков, на самых высокопоставленных, в роде ариан-военных из готов, и самых невинных провинциальных четыренадесятников, или уважаемых за добродетель новатиан. Начались всюду волнения, пожары, убийства. Придирчивое общественное мнение столицы сразу же с злорадством начало топить провинциального выходца. А тот не замечал своих административных промахов и верил в неотразимость своих проповеднических чар. Внешние ораторские данные были у него недюжинные. Он был невысокого роста с пышной рыжеватой шевелюрой и бородой, с голубыми глазами и необыкновенно звучным и приятным голосом. Как птица певчая, проповедовать он любил, и коварные монахи и клирики столицы завлекли его к излияниям с церковной кафедры на спорные в их среде темы, в частности и на христологические. Среди константинопольских монахов были и аполлинаристы и скрытые будущие монофиситы. В их среде дебатировался вопрос о термине Θεοτόκος — Богородица. Несторий быстро откликнулся на вызов своей проповедью. Он не одобрял правильности этого термина, хотя и не отрицал его употребления, под условием отвержения арианских и аполлинарианских примышлений. Адвокат Евсевий, впоследствии епископ Дорилейский, открыто в церкви возражал Несторию на его христологическую проповедь и затем прибил в публичном месте плакат с изобличением Нестория в ереси. Начался шум, которого кое-кто выжидал, как сигнала к началу сражения.
* * * Александрийский папа Кирилл уже был задет Несторием, который благосклонно выслушал каких-то жалобщиков из александрийских клириков, искавших апелляции в Константинополе. Римский папа Келестин тоже был неумно задет Несторием, который обратился к нему, титулуя своим «собратом» и спрашивая, за что отлучены были пелагианские епископы, прибежавшие в Константинополь, как будто косвенно подвергая какому то сомнению компетентность суда над ними римской церкви. Когда александрийские монахи отрапортовали своему папе о богословском скандале Нестория, Кирилл почувствовал себя достаточно вооруженным для ожидаемого нападения. Доказать богословскую некомпетентность и еретичность выученика антиохийской школы, свергнуть его со столичного трона и провести туда дружественного Александрии кандидата, повторить весь цикл борьбы своего дяди Феофила против Златоуста, стало для него увлекающей боевой задачей, которой Кирилл отдался со всей страстностью и богословским вдохновением. А страстностью и пристрастностью св. Кирилл одержим был в весьма высокой степени. Историки светские и беспощадные к его церковному значению рисуют его в очень мрачных красках, как самолюбивого деспота и громителя языческого просвещения руками преданной ему варварской черни. Действительно, Кирилл по положению александрийского епископа играл роль морального соправителя области вместе с гражданским губернатором Египта Орестом. Орест был другом языческого просвещения и административным миротворцем среди сталкивающихся элементов населения: язычников и иудеев с христианами, греков с коптами. Между тем монахи и чернь, провозглашавшие своим вождем и владыкой св. Кирилла, учиняли бунты, погромы и убийства, как напр., известное убийство ученой философессы Ипатии. И хотя за эксцессы толпы не мог отвечать епископ, но морально он был часто на ее стороне. Орест аттестовал его Константинополю как беспокойного администратора. Житийное предание довольно подробно рисует нам портрет этого выдающегося из отцов и борцов. Кирилл был маленького роста, но с очень ярким, красочным лицом, на котором выдавались могучие по всему лбу раскинутые брови; прямой тонкий нос, продолговатые узкие ланиты, широкие властные уста, большая длинная борода и редкие курчавые, светлые, с легкой сединой волосы. Общее впечатление энергии и важности. Предание борьбы с Златоустом, в которой Кирилл принимал деятельное участие, переживалось им так страстно, что он последним из епископов, скрепя сердце, решился, ради нужного ему примирения с Римом, прекратить раскол с римской церковью и внести, наконец, около 417 г. имя Иоанна Златоуста в церковные диптихи. Но еще незадолго пред тем на призывы сделать это, он возражал Антиохии и Константинополю, что причесть низложенного Златоуста вновь к епископам это то же что «поместить Иуду среди апостолов». Теперь эта благоразумная уступчивость по вопросу о Златоусте оказалась для Кирилла в высшей степени драгоценной. Сейчас он мог надеяться привлечь и действительно привлек римского епископа себе в союзники в борьбе с Константинополем.
Получив от своих агентов из Константинополя нужные материалы и копии проповедей Нестория, св. Кирилл начал с ним переписку, сначала упрекая за вмешательство константинопольского иерарха в неподлежащие его ведению дела александрийских клириков, затем уже прямо обличая в догматическом неправомыслии. На гордые отписки Нестория Кирилл отвечал целыми трактатами, одновременно широко распространявшимися, как публицистика (таков был обычай), развивая в них свое богословие. Александрийский папа обстоятельно обо всем информировал римского и приглашал его к суду над Константинопольским. Несторий сам поспешил послать свои соблазнительные проповеди Келеситну римскому, самоуверенно считая их образцом богословия, которое он годами проповедовал в Антиохии при всеобщем одобрении. В Риме, где еще семь лет тому назад переживали последний острый конфликт с константинопольским епископом Аттиком из-за посягательств его на Восточный Иллирик (многолетний камень раздора между церквами Востока и Запада), не имели расположения на наивность Нестория отвечать встречной наивностью. Доверие было отдано освещению Кирилла, а ответ Несторию замедлен. При параллельной экспертизе своего востоковеда Иоанна Кассиана и при деятельной собственной информации Мария Меркатора из самого Константинополя, папа Келестин решает соборно дискредитировать и смирить не по чину гордого Константинопольского «собрата», в то время как александрийский обращался к нему как «к отцу», которому «по древнему церковному обычаю подобает сообщать о вещах подобного рода». Словом, принимается союз с Александрией на основе римского первенства.
Но борьба со столичным епископом не могла не считаться с императорской семьей, под щитом которой он состоял. Молодого Феодосия II новейшие византинисты не считают уже двойником нашего царя Феодора Иоанновича. Его царствование отмечено столь крупными про-
светительными, законодательными и строительными деяниями, что предоставление творческой активности самой энергичной партии сената свидетельствует о способностях Феодосия выбирать наилучших соправителей. Но несомненно он был человеком неволевым и поддающимся впечатлениям от последнего, кто с ним говорил. Что же касается широкого окружения из правящего сословия, то оно отличалось анекдотической продажностью. Неискушенный в политике Несторий твердо верил в защиту двора и гордо писал Кириллу, что напрасно тот утишает какую то несуществующую бурю в столице, что тут все идет наилучшим образом и двор вполне им доволен. На самом деле официального благополучия не существовало. Споры и раздоры между клириками, монахами и паствой шли полным ходом. Антиохийский друг Нестория Дорофей Маркианопольский имел дерзость в проповеди не только опровергать, но и анафематствовать термин «Богородица», как аполлинарианский. Противники Нестория упросили бывшего кандидата на кафедру Константинополя Прокла Кизикского произнести проповедь в защиту Богородицы. Началась агитация за отделение от Нестория, Несторий свирепствовал, запрещая в священнослужении многих клириков, в том числе и Филиппа, тоже бывшего кандидата на столичную кафедру. Недовольные доносили в Рим, а там принимали их под защиту. Кириллу со стороны виднее была непрочность протекции двора, на которой утверждался провинциально-доверчивый Несторий. Кирилл приступил к обработке мнения придворных сфер. Свои богословския опровержения Нестория он направил в виде писем императору, его супруге Евдокии и сестре Пульхерии, имевшей титул Августы и влиятельной в делах. Это был акт смелый. О Кирилле при дворе было мнение, как о беспокойном египетском администраторе. Вскоре они получил от Феодосии выговор за письма женской половине его семьи, как за вмешательство во внутренние придворные отношения, которые были довольно сложны, и за вмешательство в церковные дела столицы, которые его не касаются. Но Кирилл-боец упорный продолжал «долбить камень» вплоть до подкупов сановников, которыми он под именем так называемых «благословений» (εὐλόγια) — «архиерейских даров» продолжал засыпать столицу в масштабах прямо поражающих наше воображение» Средство это было старое, оправданное еще его дядей Феофилом в борьбе с Златоустом.
В Риме летом 430 г. Келестия собрал собор и осудил доктрину Нестория в ее неблагоприятном изложении Кириллом. Но в проведении этого решения принят был необычный и непрямой путь. Мимо всякого осведомления императора и через посредство своего союзника — александрийского папы, которому и даны были чрезвычайные делегатские полномочия, с поручением в этом деле представлять архиепископа Рима и с молчаливым предоставлением египетскому папе вести всю борьбу с двором, которая предполагалась. В этой тактике доля дипломатической уклончивости перевешивается смелостью и решительностью акта папы по его содержанию. Папский собор взял на себя право заочно, без личной переписки и допроса, осудить епископа столицы и уже post factum ультимативно известить его и других восточных собратьев. Чрезмерны и подробности этого суда. Папа 1) объявляет Несторию что он аннулирует все его епископские запрещения, наложенные на непокорных константинопольских клириков; 2) предлагает Несторию в десятидневный срок по получении сего публично или письменно отречься от своих богословских мнений под угрозой отлучения его от римской церкви; 3) исполнение этого ультиматума поручается александрийскому врагу Нестория; 4) через головы властей императорской и Несториевой константинопольским клирикам папа объявляет о своем разрешении прещений, наложенных на них Несторием» Даже католический историк Батиффоль признает этот акт неслыханным до сих пор в цепи властных жестов римской кафедры по отношению к Востоку. Папа становится, однако, за ширму своего уполномоченного и пересылает все эти акты, датированные 11 августа 430 г., в Александрию. Кирилл прекрасно понимал смелость такого натиска и пред исполнением его подкрепил себя еще и местным александрийским собором. Собор подписался под суждениями Рима и присоединил к ним длинное обличительное письмо (Του Ζωτη ρος) к Несторию, дополненное принадлежавшими перу того же Кирилла двенадцатью главками-тезисами, кончавшимися анафематизмами. Это знаменитые и, можно сказать, злополучные в истории христологических мук церковных «кирилловы главы» или просто «анафематизмы». В них Кирилл излил свою душу, заострил свои богословские формулы до предела. « Ἕνωσις φυηική, ἕνωσις καθ’ὑπόστασιν», «Бог пострадал плотию» и т. д. — все эти формулы были предъявлены Несторию ультимативно, требовали от него во имя православия больше того, что оно само требует. Послы Кирилла прибыли в Константинополь 7-го декабря, но еще 19-го ноября в Александрию и во все части «вселенной» империи полетели курьеры с императорским указом о созыве Вселенского — имперского Собора в Ефесе на ближайшую Пятидесятницу 7-го июня 431 года. Натиск Рима и Александрии этим был сорван. Молчаливо все покорились как бы первой победе Нестория, апеллировавшего к бесспорной и властной инстанции Собора и непреодолимой также инстанции воли императора. Несторий не без морального торжества заявлял, что у него нет «золотых стрел», которыми его хочет ранить противник. Прозрачный намек на «евлогии», рассыпаемые Кириллом.
Еще незадолго пред тем Кирилл писал своим доверенным лицам в столицу, протестуя против грозившего ему вмешательства Нестория в дело обиженных александрийских клириков: «Пусть не воображает этот жалкий человек, что я позволю ему судить меня, кого бы он ни выдвинул против меня обвинителями. Роли переменятся, я отброшу его компетенцию, и я его заставлю защищаться передо мной». Это бесспорная копировка плана Феофила в деле Златоуста. Что же теперь предпринять против срыва наступления предстоящим вселенским собором? Нужно как то сорвать этот срыв. Нужно использовать собор так, чтобы
все-таки посадить Нестория на скамью подсудимых и заставить его только защищаться. Это было возможно при настойчивости и дипломатическом искусстве, которым Несторий не владел и в малой степени. Положение было не легкое, потому что вызов на собор, адресованный Кириллу, был строгим и немилостивым письмом Феодосия II, требовавшим его прибытия на собор с угрозой в случае неповиновения. Немилостям светской власти оставалось противопоставить чисто церковные авторитеты. Соборный суд Рима и Александрии уже могли весить много, если не прямо намечать решающее большинство собора. Римские решения и письма Кирилла своевременно были посланы всем главным епископам М. Азии, Востока и Палестины. Расчет не обманул Кирилла. Нелюбовь к новоявленной власти Константинопольского епископа легко сплачивала против него весь Асийский, т. е. как раз Ефесский диоцез. Вместе с Феофилом Ефес недавно низвергал Златоуста. Тем охотнее он готов был подтолкнуть нового падающего псевдо-Златоуста. Другие личные мотивы, неблагоприятные Несторию, намечались на Востоке в ряде местных церковных сепаратизмом. От единственно дружественной Несторию Антиохии с ее архиепископом Иоанном во главе тянули прочь Кипрские епископы. Иерусалимский округ в свою очередь стремился быть самостоятельным патриархатом. И те, и другие использовали этот благоприятный момент и через Ефесский собор и Кирилла, в борьбе с Несторием, завоевали себе автокефалии. Так заранее приблизительный подсчет голосов мог сулить Кириллу и Риму формально узаконенную соборную победу. Мемнон Ефесский с своим исключительно многоглавым диоцезом давал до 35 епископов, а в союзе с другими малоазийскими до 100. Ювеналий Иерусалимский приводил до 15. А у Константинополя не было ни какой диоцезальной области. С Несторием по некоторым известиям было только 16 епископов. Диоцез «Востока», т. е. Антиохии давал около 50. Сколько взять от Александрии? Императорская сакра (указ) ограничивалась призывом только митрополитов и при них 2—3 епископов. В Египте могло быть по территории много митрополитов, но их там совсем не было: все тянули к одному папе Александрийскому. Не ехать же Кириллу как заурядному митрополиту скромно сам-пять? Почему у Ефеса 35 епископов, а у Александрии будет 5? При митрополитанском составе собора логично было бы голоса считать по митрополитам. Но, так как митрополитанская система была не повсеместна, то Кирилл верно рассчитал, что придется все равно слагать голоса по единицам, и взял с собой 50 епископов. Большинство обрисовывалось очевидное. Несторий был по прежнему легкомысленно беспечен, верил в свою правоту, верность своих антиохийских единомышленников, в защиту двора и, кажется, ждал от собора себе триумфа.
Дело в том, что анафематизмы св. Кирилла подняли целую богословскую бурю на «Востоке». Там не хотели сначала верить, что автор их Кирилл. Видели в них откровенного аполлинариста. В Антиохии осудил их целый собор и поручил написать опровержения своим наиболее сильным богословам: бл. Феодориту Кирскому и Андрею Самосатскому. Против их тонких возражений св. Кириллу вскоре пришлось обстоятельно и многократно защищаться. Кирилл настойчиво разъяснял, что его терминология не означает единоприродной ереси, т. е. монофизитства, уже подсознательно существовавшего тогда в монашестве, что на его языке «физический» значит «истинный», «подлинный», «ἕνωσις φυσικὴ, τουτέστιν ἀληθής», «κατὰ φύσιν, τουτέστιν οὐ σχετικω ς, ἀλλὰ κατ’ἀλήθειαν», «καθ’ὑπόστασιν κατ’ἀλήθειαν». Β. Β. Болотов с его лингвистической дальнозоркостью указал, что в коптском как раз в таком смысле зачастую встречается греческое «фиси». Мы сказали бы, что александрийский говор употребляя «φυσικω ς * * *
С крушением такого предприятия, как вселенский собор, ни власть, ни церковь примириться не могли. Кто же, наконец, прав догматически и канонически? Это решилось только уже за пределами собора, благодаря усиленному давлению императора, лишь через два года, в 433 г. И решилось тоже еще не окончательно.
Новый заместитель Константинопольской кафедры, кандидат римской и кирилловой стороны подсказывал императору Феодосию II программу подведения всех непокорных к вселенскому большинству: низложение Нестория и анафема его нечестию, как было постановлено в Ефесе. И император на это решился. Но были нужны какие-то уступки и со стороны Кирилла. Даже египетские епископы, вольные и невольные соучастники насильственной тактики Кирилла в Ефесе, шепотом осуждали его. Независимый и смелый инок Исидор Пелусиот один прямил Кириллу в письме: » Приязнь затуманивает зрение, а ненависть уже начисто ослепляет... Многие, кто был в Ефесе, рисуют тебя пылким на отмщение своих обид, а не на искание славы Христовой в правомыслии. Это племянник Феофилов, по их словам: он его копирует. Гнев дядюшки разразился на святого Иоанна, друга Божия. И этот, хотя казусы совсем разные, тоже ищет тщеславного успеха». Максимиан Константинопольский также полагал, что осуждение Несториевой доктрины требование безусловное, а Кирилловыми анафематизмами можно бы и пожертвовать ради церковного мира. Да и при дворе многие говорили тоже. По такой программе уступок с двух сторон и решено было нажать на епископат. Трибун и нотарий Аристолай отправлен был с этой миссией сначала в Антиохию, затем в Александрию. От Иоанна и Кирилла император требовал на этот раз сговора ультимативно, под угрозой смещения обоих с кафедр и ссылки в Никомидию под присмотр двора. Начались мучительные и сложные переговоры антиохийцев с Кириллом. Трагично было самочувствие каждой стороны. Аполлинаристское «μία φύσις — единая природа» было для Кирилла святоотеческим преданием, но он понимал, что можно православно сказать и «две природы» и шел на это унизительное для его гордости противоречие. Антиохийцы видели в Нестории свое православие, как выразился бл. Феодорит: «анафематствовать огульно (indeterminate) учение святейшего Нестория это тоже, что анафематствовать само православие». Они могли признать и личные ошибки Нестория в его рассуждениях, но на низложение его смотрели, как на акт злостной мести и несправедливое homicidium, человекоубийство, т. е. каноническое беззаконие и товарищеское предательство. Но стояние на месте было исключено. Императорская власть, своим либерализмом дезорганизовавшая Ефесский собор, хотя и с запозданием, теперь энергично взялась осуществить свою посредническую, миротворческую миссию. Нажим был в данном случае во благовремении. С мертвой точки спорящие сдвинулись. В ряде писем и заявлений св. Кирилл объяснил свои анафематизмы столь православно, что бл. Феодорит, Андрей Самосатский, Акакий Веррийский и другие авторитеты антиохийской школы с восторгом убедились в возможности примирения. Их посредник Павел Эмесский был в хорошем смысле дипломатом. Но и Кирилл показал в себе большого человека. Левой рукой он рассыпал взятки при дворе, а правой подписывал акт величайшей богословской широты и смелости.
Сохранилось письмо Кириллова архидиакона Епифания к Миксимиану Константипопольскому с приложениям списка даров и издержек александрийской церкви, которая была положительно ими истощена до ропота и жалоб клириков на такую изнурительную войну. Епифаний умоляет Максимиана немножко помочь им из его константинопольской казны, чтобы утолить безмерные аппетиты жадных сановников. Он в пример приводит Комита Аммония, который, кроме уже посланного ему, ждал еще, ни много ни мало, полторы тысячи фунтов — сумма миллионная! Получили «приличные подарки» и Аристолай и Схоластик, и Флорентий, и Артава и многие другие вплоть до камердинеров. Особенно нужно было ублажать друга восточных препозита Хрисорита, «чтобы не мешал» и фрейлин Пульхерии, не поклонницы Кирилла, Маркеллу и Дрозерию. Кроме денег это были целые транспорты предметов комфорта и роскоши — ковры, коврики, занавески, скатерти, покрывала, подушки, кресла, скамейки и столики слоновой кости, вплоть до живых страусов.. Кирилл спасал не отменность всего, сделанного в Ефесе.
Как в деле Златоуста, после пламенного сопротивления, когда стало необходимо, Кирилл мужественно внес его имя в диптихи, так и теперь. Приняв согласие от восточных анафематствовать Нестория, он подписал текст согласительного вероисповедания, составленный антиохийцами и — какая ирония судьбы! — того самого исповедания, которое они привозили в Ефес и которое, если бы там произошел не суд, а сговор, они могли бы (подписать вместе как «орос — определение» собора и которое, конечно, подписал бы, как привычное для антиохийца, и Несторий. Но... ведь тогда Несторий не был бы и свергнут. Хотя, конечно, и после этого символа богословствовать по-своему он не перестал бы, как не перестал после этого повторять все-таки свое излюбленное «φύσις — одна природа» и св. Кирилл, считая его наиболее совершенным. Такова судьба всех компромиссных актов. Это исповедание, по широко распространенному в науке мнению написано бл. Феодоритом, но, как прекрасно показано Болотовым, скорее всего может быть приписано Павлу Эмесскому. Вот оно:
«Исповедуем, что Господь наш I. Христос, Единородный Сын Божий, есть совершенный Бог и совершенный человек с душою разумною и телом, рожденный от Отца прежде век по Божеству и в последок дней нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы по человечеству; Единосущный Отцу по Божеству и Он же Самый Единосущный нам по человечеству, ибо (произошло единение двух природ (δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονε). Посему исповедуем его Единым Христом, Единым Сыном, Единым Господом. По мысли сего неслитного единения исповедуем св. Деву Богородицею, ради воплощения и вочеловечения Бога Слова и от зачатия в ней соединившего с Собою воспринятый от нея храм. Евангельские же и апостольские о Господе речения мы считаем одни общими, как (относящимися) к одному лицу, другие же различительными, как (относящимися) к двум природам. И одни богоприличными по Божеству Христа, другие же уничиженными по Его человечеству». Текст
и по букве и по духу послуживший материалом последующему Халкидонскому постановлению и частично вошедший в него.
Подписав этот символ и получив от антиохийцев письменное отречение от Нестория в 433 г., Кирилл излился в торжественном письме по поводу достигнутого церковного миря, начинавшемся восторженными словами Пророка: «Εὐφραινέσθωσαν оἰ οὐρανοί. — Да возвеселятся небеса, да радуется земля!..» Кирилл, разумно уступая, победил. Его сомнительный и беззаконный собор в Ефесе стал через этот акт законным и завершенным. Тут состоялось заключительное и двустороннее заседание сорванного в свое время собора. Тут только неудачный и закрытый Ефесский собор 431 г. получил свой вероучительный «орос». Этот акт у западных историков носит название «Унии», с привкусом римско-папского взгляда на присоединение к римской церкви раскольников-антиохийцев. Для нас содержание Ефесского Вселенского Собора не предопределяется римским собором Келестина 430 г. и к нему не сводится. Для нас — восточных антиохийцы не раскольники с Римом, а только спорившая часть Вселенской церкви на арене прерванного и только теперь законченного Вселенского собора. С этого момента решения Ефесского Собора, как Вселенского, а не частичного и партийного, становится понятной и естественной, в муках жертвенного взаимного смирения достигнутой. Так неблаголепие и человеческие страсти, неустранимые из среды самых священных переживаний церкви, как грубые каменистые пороги на пути чистых
вод благодатной церковной жизни, чернея своими жуткими и косными очертаниями, не останавливают их течения. И обтекаемые этими водами, и не могущие пленить и задержать их богопределенного устремления, свидетельствуют только нам, как мы «опасно ходим» в делах церкви, где среди невидимого обóженного Тела Христова присутствует, действует и проявляется полностью и вся наша человеческая грешная природа. Осознание этой истины, оживляемое историческими уроками, побуждает нас с благодарностью вспоминать о заслугах антиохийской богословской школы, спасшей для Церкви совершенную цельность человеческой природы во Христе, т. е. и религиозный смысл человека и человечества от опасности докетизма и ханжеского спиритуализирующего монофизитства.
* * * В чем же «икона», в чем специфическая ценность III Вселенского Собора и в чем специфическая неправота его жертвы: печальной памяти Нестория?
В дни моей богословской юности один светский философ сказал мне: «Удивительная вещь! Церковь всегда была права и все еретики были неправы!» Применимо ли это к данному случаю? Безусловно, как и ко всем прочим, хотя — повторяю — из всех Вселенских Соборов нет более соблазнительного, чем III, и из всех еретиков нет более симпатичного и здравого, чем Несторий. Его собственная апология, до нас не дошедшая носила название Τραγωδία, т. е. трагедия. Под таким же названием писал в защиту его и ссыльный друг его, сначала комит, а потом епископ, Ириней. Трагична судьба Нестория и конец жизни в ссылке. Трагична и его недавно открытая и в 1910 г. изданная в сирском оригинале и во французском переводе книга под заглавием: «Трактат Ираклида Дамасского». На основании ее английский ученый Бетюн-Бэкер, затем германский Лоофс и многие другие, преимущественно протестанты, возобновили давнюю, еще XVII века тезу, что Несторий пал жертвой чистого недоразумения и был осужден неправильно. Народилась и новая консервативно-апологетическая литература в обвинение Нестория и сугубое оправдание Кирилла. Словом, вопрос снова приведен в движение и, как нам кажется, оживает не только с документально археологической точки зрения, но и как вопрос возрождающийся по существу в религиозном сознании современной нам церкви.
Самое бесплодное и мертвенное отношение к нему, это внешнее суждение свысока о будто бы пустячном словопрении древних греков. Еще Цицерону казалось, что jam diu torquet controversia verbi homines graeculos, contentionis cupidiores, quam veritatis — издавна споры o словах мучают греков, жадных больше до состязаний, чем до истины. Слова эти вспомнились и Лютеру при рассмотрении судьбы Нестория. Но думать так, значит, быть совершенно чуждыми и неблагодарными греческому гению, а также глубочайшим достижениям церковной мудрости. Под словами и миллиметрическими их различиями лежала живая мука души, терзаемой исканием истины не только умом, но и всем сердцем, и всею крепостью. И вопросы эти в существе все те же великие, вечные, насущные, человеческие вопросы. И кто скажет, что напрасно лились чернила и кровь из за таких оттеночных расхождений, того я с пристрастием спрошу: а что наша идейная интеллектуальная и общественная жизнь чужда этой оттеночной, греческой диалектики, этой Haarspalterei, как говорят немцы? Скажите, разве каждый из нас не во власти самых тончайших, самых оттеночных, до почти паталогической нервной чуткости притяжений и оттолкновений решительно во всех измерениях своей интеллектуальной и особенно общественной и политической жизни? Боже мой, какие мы без микроскопа зрим друг в друге мельчайшие уклоны своеобразной левизны и правизны по каждому решительно вопросу! Какие мы все друг для друга немилые «еретики», беспощадно отрицающие друг друга и неспособные к соборному единству! Нет, не нам, анафематствующим друг друга за миллиметрические идейны уклоны, заносчиво смотреть на подвижников и мучеников вселенских соборных споров. Их достижения и их грандиозные соглашения и объединения должны быть для нас предметом уважения, как недосягаемые добродетели соборности.
Итак, «икона» III Вселенского собора, его идеальное достижение, запечатленное в оросе 433 г., это та же формула идеального равновесия природ в Богочеловеке, какой вскоре дал высшее выражение ΙV-й Вселенский Халкидонский собор. III-й был только этапом, черновым его наброском. Но прежде, чем дойти до Халкидонского равновесия, нужно было диалектически пройти сквозь специфический уклон Кириллова богословия и им защититься от угрозы полярного заблуждения, символически представлявшегося Несторием. Самой драгоценной, иконной чертой этого достижения является освящение имени и осознанного культа Богородицы, как воплощенной вершины догмата об обожении человека. Под этим знаком собора Пресв. Богородицы Ефесский собор и прошел в сознании масс церковных. Памятником этого, напр., является древняя римская Санта Мария Маджоре, перестройка которой Ксистом III, как гласит посвятительная надпись, произведена для увековечения триумфа Богородичного догмата в Ефесе. Иконно и оправдание антиохийского богословия, завершенное вскоре в Халкидоне. А за промежуточный период 20 лет все дефективное в Кирилловом богословии подверглось вновь огненному искушению опытной проверки, выявило в нем и извергло всю изгарь и все шлаки монофизитства.
Как только александрийцы с антиохийцами подписали соглашение 433 г., так и начались новые драмы на той и на другой стороне. Там и здесь нашлись крайние и непримиримые, вплоть до расколов, подогретых давлениями и ссылками строптивых государственной властью. В антиохийском округе взяли свое начало, без участия и вины самого Нестория, приверженцы крайностей его доктрины, не примирившиеся с его осуждением. Так появилась группа консервативных антиохийцев, ушедшая в Персию и основавшая там так называемую церковь халдеиских христиан с несторианским учением. В Александрии реакция на соглашение приняла до времени не сепаратисткий, а так сказать, кафолический курс.
По смерти св. Кирилла (444 г.) его фанатичный ученик и преемник Диоскор отважился произвести радикальную чистку несторианских примесей к Кириллову богословию и дать ему полное, исключительное торжество. Национально-египетское, коптское, монашеское истолкование этого богословия было чисто монофизитское. Диоскор с демагогическим увлечением поставил ставку на это стихийное течение. Через вождя столичного (да и всего имперского) монашества Евтиха, духовного отца временщика Хрисафия, захвачена была власть и над душой Феодосия II и внушена ему как главная задача — добивание корней несторианства. Путем государственного насилия вся восточная церковь, не исключая и антиохийского округа, была взята под влияние Диоскора. Для триумфа Кириллова богословия в его монофизитском истолковании новым ересиархом-Евтихом император созвал под председательством Диоскора новый вселенский собор в 449 г. в том же Ефесе, для продолжения дела Кирилла. Насильническими приемами подобранное большинство собора утвердило монофизитскую ересь, канонизовав 12 анафематизмов Кирилла. Легаты папы уехали с протестом. Папа Лев I назвал этот собор разбойничьим. Но император, начавший в 431 г. с защиты Нестория, кончал теперь свою слепую церковную политику безоглядочной покорностью Диоскору и монофизитствующему монашеству. Собор был им утвержден, как Вселенский, с новыми гонениями на антиохийцев и с новым расколом с Римом. Такова была проверка на опыт удачности Кириллова богословия. Неизвестно до чего дошло бы это догматическое уродство, введенное в кафолическую церковь, если бы не внезапная смерть в следующем 450 г. Феодосия II. Новые императоры — Пульхерия и повенчанный с нею Маркиан резко повернули церковную политику на мир с Римом и на рельсы церковного мира 433 г. Собран был в 451 г подлинный IV Вселенский Халкидонский собор, не без большого давления императоров и не без столь же большого сопротивления отравленной монофизитством и пустыми страхами несторианства иерархии, вынесший, наконец, свой славный «орос» с его «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». В Халкидоне вновь было реабилитировано антиохийское богословие, поддержанное традиционно простым, но инстинктивно верным богословием Рима. Оправданы были и лично жившие тогда корифеи антиохийской школы бл. Феодорит и Ива-Хиба Эдесский.
* * * Печальный герой момента — Несторий был еще свидетелем этого перелома и видел в нем свое торжество. В 435 г. во время гонения Феодосия на непримиримых друзей Нестория, последний был сослан в Петру Аравийскую, а оттуда в глубь Ливийской пустыни, в Великий Оазис Каргех, где дожил до 451 г., подвергаясь пересылкам с места на место, с тяжелыми приключениями, ждущими пера исторического романиста. Гонимого друзья питали сведениями о ходе церковных дел и готовили ему амнистию, делали шаги к вызову его на Халкидонский собор, что после Ефесских насилий не лишено было смысла. Перед смертью Несторий приветствовал православие Флавиана Константинопольского и томос папы Льва, легший в основание Халкидонского вероопределения. Он признавал в них свое собственное богословие и повторял с горьким великодушием, что он рад, что анафема, наложенная на него, помогла многим принять истину, т. е. уйти прочь от монофизитства Кирилла и Диоскора: «пусть Несторий останется анафема, лишь бы прославился Бог!» В последних строках апологии в предвидении смерти, он просит у Бога избавления от мук жизни, ибо видели очи его «спасение Божие», разумея низвержение Диоскора и веру папы Льва.
Не иллюзорно ли это субъективное убеждение Нестория в его единомыслии с томосом Льва? Изучение отрывков сочинений Нестория, истребленных гонением Феодосия II, и его большого новооткрытого «Трактата Ираклида» не оправдывает оптимизма Нестория. В «Тр. Ираклида» Несторий с упорной настойчивостью отвергает всякое онтологическое единение двух природ, отвергает термин — «μία ὑπόστασις», а ἕν πρόσωπον толкует, как особое πρόσωπον τη ς ἐνώσεος (новый термин, придуманный Несторием в ссылке), как особое лицо для свободного нравственного объединения природ, без отнятия у каждой из них не только ипостаси, но даже и лица. Так что «объединенное лицо» у Нестория есть некая сумма двух лиц.
Единение природ по существу Несторием отвергается, как язычество. И характерно, что, полемизируя с монофизитами о соотношении элементов в евхаристии, Несторий, в параллель с своей христологией, и здесь, вместе с бл. Феодоритом, отвергает изменение природы хлеба и вина и только совмещает их с природой плоти и крови Господа И. Христа. Для римско-католических богословов это отвержение дорогой им транссубстанциации, это только «консубстанциация» и даже Лютерова «импанация». Но православное учение скорее отметит в Несториевом толковании некоторые достоинства чем недостатки. Словом, Несторий со всем усердием сам доказывает нам, что его богословие заключает «антиохинизм», доведенный до предела и потому не по недоразумению ставший символом ереси. Мог ли бы он подписать Халкидонское определение, где утверждается при двух природах, все-таки μία ὑπόστασις, ἕν πρόσωπον и θεοτόκος? Такое предположение возможно. Но утверждение Лоофса, что «если бы Несторий жил во время Халкидонского собора, он мог бы стать столпом православия» — нам кажется преувеличенным. Ведь почему то все-таки антиохийцы решили его анафематствовать? Феодорит писал, что Несторий «не учил ничему новому сверх здравого учения» и заявлял, что «скорее пусть отсекут ему руку, чем он подпишет анафему Несторию». А когда на Халкидонском соборе, возбужденные отцы, не давая ему говорить, закричали на него: «провозгласи анафему Несторию и все тут!» он нехотя, но провозгласил. Может быть, он думал, что реальный Несторий не то, что о нем думают. Однако, он понимал, что есть образ Нестория-еретика и есть такая формула ереси — «несторианство», которых нельзя не анафематствовать для единения с православием.
Так мы и приходим к выводу, что огульная реабилитация Нестория невозможна. Чудо церковной истины явилось и на нем. «Церковь всегда права, и все еретики неправы». Но какими смутными и даже мутными путями пробивается иногда церковная истина? Кто ее орудие и слуги? Разве александриец Кирилл с его несовершенным богословием и неправыми методами борьбы есть образец истины? Но «немощное и уничиженное мира избирает Бог, да премудрое посрамит». Для мессианских откровений Бог избрал грешным и антипатичный, некоторые отцы думали, худший из народов земли. Есть кажущаяся неправда в Царстве Божием. «Един поемлется, а другой оставляется». «Иакова Я возлюбил, а Исава Я возненавидел». Не гордая и здравая антиохийская школа избирается для прославления кафолической веры, а болезненная и более слабая Александрийская. Антиохийская идет почти на слом. Отсюда и личная трагедия Нестория и Феодорита — у каждого своя, но возбуждающая у ученых нравственную потребность отстоять их чисто-человеческую личную правоту. Эта правота есть. И долг истории ее показать. Но — одно человеческое стремление «понять — простить», а другое провиденциальная жертвенная судьба лиц и явлений в путях Царствия Божия. В заключение вы спросите: какое же живое наследство оставил нам III Вселенский Собор? Тянутся ли какие-нибудь живые нити к нашей христианской современности от великого конфликта V века Несторий — Кирилл? Да, без сомнения. Тем, у кого открыт восприемник христианского ума и сердца, ясно, что наше время заболевает той же христологической мукой в ее обращенности к человеческой природе, к тайне человека во Христе. Уже сказано вещее слово, что «Церковь раскрыла тайну о Боге и о Богочеловеке, но еще не о человеке». И эта тайна уже бьется о стены церкви мировыми волнами древнего хаоса. Он грозит захлестнуть убежавшее от церкви человечество потопом безбожия и бесчеловечия. Скала, маяк, корабль и якорь церкви — единственное верное прибежище. Но слово научения, но злободневная формула взаимоотношений в наши дни человеческого начала с Божеским должна оттуда понятно и призывно звучать. Звучит ли она? Слабо, неясно. Через полторы тысячи лет грозит человеческой природе строгий палец св. Кирилла. И из той же дали тянутся на защиту ее руки антиохийской рати, не исключая и неглупого Нестория. Почему? Казалось бы, их роль закончена после Халкидона. Равновесие природ установлено. Но в том то и секрет истории, не всем очевидный, что за Халкидонское «неслитно и нераздельно» нужно еще бороться и до сегодня. Посмертная сила Кирилла еще века давила на халкидонское православие и искривляла его линию.
Вечная заслуга антиохийцев (и Нестория в том числе), что они антиномию природ не исказили, а, утончая, до конца сохранили, т. е. оставили для ума неразрешенной. Кирилл притупил жало антиномии, обломив вершину человеческой природы — ее неслиянное самосознание. Несторий реалистически зачарован был ретроспективно тем, что Христос был, как мы, а потому и мы можем быть сообразны ему и теперь. Кирилл устремлен перспективно в будущее преображение, в эсхатологию, в то, что мы когда то будем, как Он.
Халкидонский орос восстановил полноту антиномии, связав в один узел оба конца евангельской верви. Но что-то все-таки очень глубокое подметил Гарнакк, утверждая с грубостью, что восточно-греческое благочестие есть монофизитское благочестие. Действительно, кроме великих монофизитских отпадов от православия из-за Халкидонского собора, сама официальная православная Византия двести слишком лет боязливо отталкивалась от Халкидона, мирила Льва с Кириллом за счет Льва. Кирилл одолевал. Ведь не один Несторий в Халкидоне видел свой реванш. Все монофизиты твердили то же. Считали Халкидон хитроумной ловушкой. Несторий будто бы был анафематствован для отвода глаз, чтобы провести самое несторианство. И это была правда в смысле восстановления равновесия, нарушенного Ефесом. Но вся Юстианова эпоха снова ушла к Ефесу, услаждалась монофизитскими формулами — «Един от Св. Троицы распят», трисвятое с «распныйся за ны» (до сих пор об этом нам напоминает на литургии Юстинианово «Единородный Сыне»...) и повторил в сущности Ефес в диалектически излишнем V Вселенском соборе 553 r., по Кирилловски добивая мертвых «несториан» — Феодора, Иву, Феодорита и поглощая монофизитского верблюда. Что иное затем ересь монофелитская — μία θεανδρική ἐνέργεια, как не повторение через 200 лет Кирилловой μία φύσις Θ. Λ. σεσαρκωμένη? И сколько нужно было иметь в недрах богословского сознания церкви истинного догматического здоровья, чтобы после двухсотлетних отрав монофизитством, снова, в 680 году дать торжество Халкидону, даже Антиохии, скажу еще более — самому Несторию! Ибо «две природные воли, и два природных действия, и Его человеческая воля не противоборствующая, но во всем последующая его Божественной воле» (орос VI Вселенского собора) это — ликвидация монополии Кирилловой μία ὑπόστασις. В двуволии восстановлена двуипостасность, совершенная антиохийская полнота природ, до конца раздельных и соединенных только в ἕν πρόσωπον, с возможностью толковать его даже в Несториевом стиле «Объединенного Лица».
Но спасен ли Халкидон даже этим изумительным по смелости перегибанием дуги VΙ Собором? Принципиально да. Но в жизни церкви и в практическом благочестии нет. На Востоке, по крайней мере, интерес к тайне человека угас. И снова приходится звать отнесенных волной Ефесского отлива: «Опять к Халкидону! К чистой антиномии! К сохранению во Христе смысла всего тварного, конечного, множественного, индивидуального, личнаго, человеческого!» Перелицовывая крылатое словечко русской публицистки, можно сказать: «Время антиохийствует!»
Поймет ли это, подготовляемый без великой русской церкви новый восточный вселенский собор? Не собирается ли Кирилл снова поторопиться открыть его, не выждав четырех дней до подъезда Иоанна Антиохийского? Тогда вновь устремимся от соблазнительного Ефеса к спасительному Халкидону...
Речь произнесенная на годичном акте 15-XI-1931 г. Православного Богословского Института в Париже.
Максимум — это принятие Василием Великим тех, кто не называл даже Духа Святого Богом. Памятником этой чрезмерной тактической уступчивости является и не называние Духа Св. Богом в Никео-Цареградском символе веры, родившемся в компромиссной атмосфере II Вселенского собора, для нашего времени совершенно антиквированной. Давно наша свободная совесть протестует против этой обидной для нас осечки языка в ту самую минуту, когда мы должны дерзновенно исповедовать нашу веру во Св. Троицу, Единосущную и Нераздельную. Давно пора всем христианским церквам согласно вставить в 8-й член символа одно нужное слово «Бога»; «И в Духа Святого Господа Бога, Животворящего» и т. д. Я думаю, это не мое только скромное предложение ближайшему Вселенскому Собору.
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).