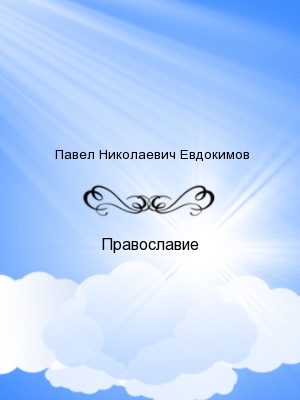Историческое введение
Глава I. Введение
“Христианство, – это восточный аспект нашей культуры”, – отмечает Амиэль в своем “Личном дневнике”. Будучи типичным представителем западного мира, Амиэль пытается показать, насколько все духовно питаются от восточных корней, испытывая греческое и еврейское влияние. В свою очередь, Теофиль Готье, во время посещения храма Святой Софии в Константинополе, воскликнул: “Византийская архитектура – вот, без сомнения, – форма, необходимая католичеству”...Однако, встречаясь с православием, человек, сформированный под влиянием таких великих учителей, как Декарт, святой Фома Аквинский и Кальвин, может испытать потрясение, оказавшись перед новым, на первый взгляд, измерением, которое, тем не менее, некогда было общим. Воспитанный в духе римского права, приученный к ясному, логичному, точному мышлению, к хорошо выстроенной системе понятий, он будет испытывать искушение противопоставить этот хорошо организованный мир “смутному мистицизму” православия. Этому искушению легко поддаться. Но тогда недооцениваются различия между разными путями приближения к Тайне, нюансы в самом методе постижения истины. Это не только противопоставление “Афины-Иерусалим”, “эллины-иудеи”, но и факт формирования различных исторических менталитетов, – Рима, Гиппона, Аугсбурга, Женевы и, с другой стороны, – Иерусалима, Антиохии, Александрии, Византии...
“Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”, – сказано в Евангелии. Похоже однако, что центры интересов, к которым устремлены сердца людей, более не совпадают. Для одних это достижение Блага, удостаивающего блаженного созерцания Бога, для других – всемогущество Бога, оправдывающего избранных Своих через одну только веру, для иных – новое творение, обоженное по преизливающемуся Божьему человеколюбию, или же непогрешимость папы, писания или Церкви, тела Христова...
Не стали ли мы просто разными людьми перед лицом одного и того же Бога? Более того, не предстает ли позднее Бог апостольского христианства как католический Бог, протестантский Бог, православный Бог, точно так же, как в произведениях великих мастеров искусства есть византийский, фламандский, испанский, русский Христос? Однако гораздо глубже, чем национальный дух и культурный тип, глубже, чем любой образ, запечатленный в народной душе, таится некий росток – первичная, не сводимая ни к чему иному религиозная реальность. Это ставит нас перед очень важной проблемой – проблемой апостольского предания и верности его духу как критерию всякого предания.
Действительно, никому не дано вникнуть в Писание непосредственно, игнорируя его живое истолкование на протяжении истории, где Святой Дух неумолчно говорил через пророков и святых. Нужно было быть просвещаемым и ведомым шаг за шагом, чтобы перейти от “Царствия Божьего” синоптиков, от “Жизни вечной” апостола Иоанна, от “христологии” апостола Павла к святоотеческому богословию Троицы. И, прежде всего, нужно было Духом Святым включиться в благодатную полноту Церкви, в общение неба и земли. Так, когда иудео-языческий мир угрожал Церкви апостольского времени, в полемике с гностиками она противопоставляла им не умозрительные аргументы, но прежде всего выдвигала всю непосредственную и все еще животрепещущую реальность воплощенного Слова. Мужи апостольские и апологеты сохраняли живую память о Господе. И вслед за ними Ориген, Ириней, Афанасий сохраняли не “тексты”, а саму веру и передали эту чашу Жизни, не проливая из нее ни одной капли, золотому веку Соборов.
Сегодня всякий может назвать пункты расхождения. Между Римской Церковью и православием – это Filioque, непорочное зачатие Девы Марии, непогрешимость папы. Между православием и протестантскими общинами грешников, спасаемых только верой и благодатью – иерархическая структура священства, апостольское преемство, аскетический синергизм и святость новой твари. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему понять православие, которое отнюдь не находится на полпути между католичеством и протестантизмом. Оно представляет собой духовно однородное и неразрывное целое; будучи главным образом Жизнью, оно превосходит любое определение. “Прииди и виждь”, – говорит о. Сергий Булгаков, обращаясь ко всем людям доброй воли, поскольку православие действительно является наименее нормативной, наименее переводимой на язык понятий формой христианства. И если оно на первый взгляд и кажется архаичным, то это потому, что оно очень близко к источникам палестинского происхождения, – к евангельским истокам. Его духовность, его богослужение, его молитва, сама его душа восходят к “богоотцам”, к святому Симеону, святой Анне, святому Иосифу, святому Иоанну Крестителю, к апостолам и к первым поколениям христиан. Тот, кто может без всякого предубеждения войти в мир православия, легко обнаружит это первоначальное христианство, сам его первоначальный росток, значительно обогащенный жизнью многих поколений, но все время питаемый от того же единственного корня, глубоко погруженного в плодородную землю Палестины. Благочестие православия, которое может показаться “не от мира сего”, в действительности является самым древним упованием, которое, вместе с составляющими этого мира, складывается в священное слово “Маранафа” (“Ей, гряди, Господи!”). Этот глубинный эсхатологизм предохранил его от давления секуляризованного мира и сделал его нечувствительным к модернизму, прогрессизму, беспорядочным “озарениям” сектантов или к обскурантизму интегристов. Современное обращение Запада к истокам, к восточной патристике и к ее литургии показало, до какой степени обвинения в том, что православие стало музеем и мумифицированным трупом являются лишь недоразумением малосведущих или недоброжелательных ученых.
Объективное рассмотрение открывает во всех деталях православной жизни все тот же культ верности первоначальному преданию: “Так верили Апостолы и Святые Отцы”. Эта священная формула скрепляет соборные акты и выражает постоянное попечение отцов Соборов. Чтение апостольских посланий во время ежедневной литургии, называемое “Апостол”, – очень характерная деталь, так как сам апостол, т. е. свидетель, присутствует и говорит. Это же относится и к столь возлюбленному и почитаемому свидетельству мучеников и исповедников, которое являет Церковь утвержденной кровью этих “раненых друзей Жениха”, их всецелой верностью. “Торжество Православия”, празднуемое в первое воскресенье Великого поста, также вспоминает о героическом усилии Соборов и дает возможность вновь услышать голос отцов.
Есть что-то провиденциальное в том, что православие не испытало разделений внутри своего тела: оно не знало ни Реформации, ни Контрреформации. Его не тревожили ни религиозные войны, ни страсти полемики и прозелитизма. Православие ничего не изменило в апостольской сокровищнице веры. Даже сегодня, когда его богословская мысль удивительным образом развивается, православие остается, как и прежде, в своей структуре, духовности, молитве и догматическом сознании идентичным Церкви эпохи, по крайней мере, VII Вселенского собора (787 г.), – Единой Святой, Церкви до всякого разделения и отражающей еще столь недавнее время апостолов.
Господь говорил в мире и покинул его. Он послал Утешителя и вновь приходит и присутствует в мире вплоть до его конца, только прикровенно, в Духе. Как никто не может прийти к Отцу, кроме как через Сына, так никто не может прийти к Сыну, кроме как через Духа Святого. “Эпиклеза”, призывание Духа, есть преддверие всякого общения со Христом и Отцом. Между Словом Божиим и человеческим ответом, между Богом и человеком стоит Дух, который охристовляет и который берет “прошлое” от Сына, чтобы возвестить “грядущее” (Ин.13:15). Это Слово Истины непрестанно возглашается Духом Истины, и созывает Церковь. Состоящая из грешников, “Церковь погибающих” в своей совокупности включена во Христа, Церковь есть Христос – totus Christus, и благодаря этому она божественна, свята, непогрешима.
Возвещение апостола Иоанна о “победе, победившей мир”, – ибо “Слово стало плотью” и “мы видели славу Его”, – и само созерцание этой славы составляют сущность православия. Оно соединяет Крест с запечатанным Гробом, который разверзается под напором Жизни, оно следует за победным шествием раннего христианства, которое писало на гробницах всех кладбищ мира о победе над смертью и провозглашало это на всех перекрестках. Святой Серафим Саровский говорил всякому приходящему к нему человеку: “Радость моя, Христос воскресе”, – передавая самый дух православия, его ликование, которое уже есть отзвук Царствия Божьего.
“Покаяния отверзи ми двери...”, “даждь ми слезы покаяния”, – взывает глубокий аскетизм Креста, и этот аскетизм, внимающий внутреннему раскрытию своей собственной диалектики спасения, беспредельной полноте Креста, “Животворящего”, ведет к гимну освобождения: Abyssus abyssum invocat (Бездна бездну призывает): “В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну...”, “прииде Крестом радость всему миру!” Смирение и уничиженное, но пламенеющее любовью поклонение достигает крайнего реализма, желания “прикоснуться душой” (о котором говорит Ориген), “осязающей” Слово Жизни: “что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши” (1Ин.1:1).
Это самосознание – “Апостол”, не есть что-то присущее исключительно Востоку, оно само православно лишь в той мере, в какой верно сохраняет и передает общее наследие: “Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем” (1Ин.1:2).
1. Эллинизм
Эллинизм на Западе, начиная с VI века, переживает упадок, вплоть до появления Иоанна Скота Эриугены в IX веке, до перевода творений Иоанна Дамаскина, до возникновения в XII веке школ Шартра, Лана и Парижа, до немецких мистиков XIV в. и итальянского Возрождения. На Востоке Константинопольский университет, основанный в 425 г. императором Феодосием II, одерживает победу над афинскими языческими философскими школами (закрытыми в 529 г. Юстинианом), продолжая оставаться все в тех же культурных рамках. Во время своего быстрого роста город Константина одерживает верх над Сирией и Египтом, завоеванными арабами (VII в.), и играет на протяжении десяти веков роль духовной столицы, где формируется так называемое “восточное” христианство – православие.
Непосредственно продолжая лучшие традиции античного мира, православная мысль – гибкая, диалектически утонченная, с определенно выраженной тягой к мистическому созерцанию, одним словом, мысль Византии в пору ее полной зрелости, – бесспорно, являет христианский аспект греческого гения. Он выходит из крещальных вод глубоко укорененным в новом библейском основании. “От языческой культуры мы сохранили то, что является поиском и созерцанием истины”, – говорит святой Григорий Богослов. Эллинский вклад, отмеченный знаком крещения, входит в новый синтез предания и определяет тем самым стиль византийского христианства. Его культура окажет сильное влияние, и впоследствии победит более восточные черты – ереси, пришедшие из Северной Африки и Азии, антиохийское несторианство и египетское монофизитство. Точно так же, позднее внутри монашества можно увидеть следы долгой борьбы между египетской и греческой традициями, между более темным и тревожным мистицизмом и мистицизмом уравновешенным и “просвещенным”. Этот последний, уже в лице святого Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопагита, вобрал в себя лучшие элементы неоплатонической мысли. Равновесие, трудно сохраняемое из-за постоянного давления этих полюсов, будучи однажды достигнуто, накладывает отпечаток своей меры и своей трезвенности, структурируя изнутри захватывающие видения умозрительного духа Византии.
Возможно, именно церковное искусство дает нам наиболее адекватное выражение этого врожденного дара, предрасполагающего к диалектике, – пределу богословских истин, приучая нас превосходно чувствовать себя в разреженном воздухе вершин. Постоянно находясь во внутреннем, почти музыкальном движении, следуя шаг за шагом за литургическим таинством как переживаемой трансцендентностью, иконософия (наука об образах – термин авт.) сопровождает взлеты мысли и превосходит ее в своем мраке, сообщающем откровение невидимого и невыразимого. Слово передает логическую форму истины, икона же есть ее пластический символ, в котором тайна открывается в контурах. Сквозь прозрачную оболочку этого мира она выражает глубинную неизменную реальность; из Фаворского света она ткет свою собственную ткань и дает возможность за видимым проявляться небу на земле. Легким штрихом, легкость которого – от Духа Святого, она пронизывает мир и помогает раскрыться трансцендентному присутствию. Человек приучается жить в “совсем ином”, и сверхъестественное предстает сверхъестественно естественным, знакомым и близким, выступая в качестве нормы человеческого существования.
2. Социальный характер
Врожденная метафизическая непринужденность придает византийскому богословию глубоко человечный и социальный характер. Не одна только элита, но весь народ принимает близко к сердцу наиболее тонкие оттенки христианских догматов. Философский аппарат, с отточенными до совершенства терминами и категориями, делает человеческий разум способным к восприятию истины Откровения. На самом деле, речь идет не о философии. Границы последней превзойдены в самих ее основах, и мы присутствуем при чуде теогнозиса, богопознания, непреходящей славы Византии. Богословие святых отцов всегда открыто всем направлениям человеческого знания, замечательному греческому гуманизму, однако, будучи реалистическим и практическим педагогом, оно на этом не останавливается и постепенно возвышает мысль до опыта прямой связи с Богом, вводит в чистое созерцание “пламени вещей” и приводит, наконец, к порогу “исихии”, к последней встрече “лицом к лицу” с обожением, с одухотворением человеческого существа.
Первые пять веков свидетельствуют об интенсивном становлении предания. Но для того, чтобы никогда не удовлетворяться его буквой, чтобы постичь самый дух истины, который оно передавало, и сформулировать основы веры, нужно было, чтобы разум согласился со своей ограниченностью, поместив себя внутрь догмата. Теперь уже более не мысль осознает себя в состоянии собственной автономии, но мысль участвует в большем, чем она сама, и выражает это.
3. Функция истолкования
Апостол Павел, обращаясь к афинянам, истолковывает их собственную мудрость и, тем самым, завершает ее. Находясь перед жертвенником “неведомому Богу”, он объясняет его назначение и дает Богу имя Христа. Разуму теперь не нужно ни изощряться, ни измышлять, ни тем более “конструировать”; христианская мысль есть прежде всего интуитивное постижение предложенной истины, ее творческое прочтение, или истолкование. В знаменитой византийской “симфонии”, диархии двух властей, патриарху принадлежит харизматическая привилегия истолковывать истину. Даже Иисус ничего не говорит “от Себя”, но передает слова Отца. Церкви принадлежит апостольская харизма истолковывать Священное Писание. Догматы, вдохновенные писания святых отцов и богослужение образуют живой комментарий, где само Слово с помощью этих многочисленных форм постоянно приходит для истолкования Своих собственных слов.
Любая ересь возникает из незаконного нарушения правил истолкования, заложенных апостольским преданием. Конфликты показывают, что истинный принцип virtus traditionis не есть принцип чистого разума, но восходит к церковному опыту восприятия Бога. Он заключается в том, чтобы просто слушать Христа изнутри Его Тела, следовать школе Его собственного истолкования.
Умозрительные построения великих еретиков запутываются и умирают в отвлеченной бесплодности рассуждающего ума. Догмат извлекает самый смысл Откровения, но логическая структура его утверждений заключена, как река, между берегами невыразимой апофазы: “Весть божественной сущности состоит в том, чтобы почувствовать ее непостижимость”, – говорит святой Василий. Христологический или тринитарный догматы очевидным образом находятся над законами логики и исчислений, однако богословие, никогда не впадая в иррационализм, как раз поднимает мышление до металогической плоскости, где наши формальные законы просто неприложимы. Не разрушая их и не противореча им, оно приучает к спасительному смирению: “Утверждать то одно, то другое, когда оба утверждения истинны, свойственно любому хорошему богослову”. Эти слова святого Григория Паламы хорошо показывают сосуществование различных планов (или уровней) бытия. Утверждения, кажущиеся противоречивыми (антиномии), являются истинными, и каждое берется в своем собственном смысле и не исключает другого. Истина не иррациональна, так как она включает все аспекты, и в том числе – рациональный аспект, но она превосходит его. Она никогда не есть “это, а не иное”, но всегда “это и иное” – трансцендентное единство. Она исключает лишь ошибку, ересь, которая всегда проистекает из частичного утверждения, возведенного в абсолют. И эта ограниченность, порочное отрицание плиромы (полноты), в пределе приводит к самоотрицанию, небытию.
4. Богочеловечество. Принцип равновесия
Пройдя через крещенские воды, человеческий дух видит, как что-то умерло и что-то родилось в нем. Человеческий ум становится причастным уму Христову. Перед антиохийским историческим методом экзегезы, который “очищает” и разъясняет букву, Церковь отдает предпочтение Александрии, которая ищет сокровенный смысл, извлекая его дух. Она очищает аллегоризм от крайностей (оригенизма), но не менее энергично сторонится всякого концептуального антропоморфизма, – так же, как и этической имманентности. Как и Бог в себе самом, глубина догмата, его скрытая сердцевина остается трансцендентной человеку, и расстояние, всегда бесконечное между Богом и человеком в его исконном состоянии “твари”, в высшей степени спасительно. Однако парадокс христианства заключается в равновесии радикальной трансцендентности Бога в себе, Deus absconditus, Бога, сокровенного в Своей сущности, и имманентности Бога домостроительного, Deus revelatus, Бога, открывающегося в Своих энергиях, в благодати Воплощения, где человеколюбивый Бог преодолевает Свою собственную трансцендентность. Великая заслуга Вселенских соборов состоит в том, что они отбросили несторианский дуализм (с его разделением между божественным и человеческим) также, как и монофизитство (с его одним только божественным, растворяющим все человеческое) и утвердили, таким образом, теандризм (богочеловечество), нерушимое основание синергии (содействия) действия божественного и действия человеческого. Дифизитство и дифелитство (гармония двух природ и двух воль во Христе) выковывают золотой ключ, подходящий ко всякой богословской проблеме. Действительно, согласно основному догмату Халкидонского собора, божественное и человеческое соединены без смешения и без разделения, и именно в таинственном общении свойств рождается теосис (т. е. обожение), крайнем пределе православной духовности.
5. Чувство Бога
Совершенное искусство убеждать, прославленная риторическая наука эллинов, вносит значительный вклад в реалистическую конкретность святоотеческой мысли. Святой Василий, по словам его друга святого Григория Назианзина, вывел золотое правило из античной поговорки: τὸ πᾶν μέτρον ἄριοτον – мера во всем есть совершенство. Проповеди святых отцов, многочисленные исповедания веры и первые катехизисы, никогда не теряя из виду предмет, рассматривали его по отношению к слушателю, к оглашаемому. Не говорил ли Синесий, что искусством из искусств для греков была “способность вести разговор с людьми”? В то же время, склонность к аттическим оборотам и намеренный возврат к архаической форме языка способствуют сознательному отмежеванию от “профанного употребления” и выковывают “священный” язык богослужения. Постоянный трепет перед “тайнами” веры, естественная потребность и, следовательно, истинный культ аскетического катарсиса (очищения) и тáинственного посвящения проистекают из глубинной и врожденной культуры эпигнозиса (познания), “чувства Бога”.
Категория священного во всех измерениях (в литургическом времени спасения, в пространстве ином устройства храма, в самом видении иконы) в совершенстве передает это чувство. Оно определяет знаменитый византийский стиль, органическое единство православной духовности, которая властно пронизывает все детали повседневной жизни до такой степени, что упраздняет “профанное” и преобразует даже дворец василевса (царя) в огромный монастырь, где все устроено по образу литургии и где сам василевс совершенно естественно признается “внешним епископом” и “вселенским диаконом”. Его идеал – это земная империя на службе Царствия Небесного. Динамичный по своей сути, противостоящий любому “собранию древностей”, он выражает стремление к тому, что пребывает над временным. Это страстная, до мученичества, любовь к “cat-holon” (кафоличности), к тому вертикальному измерению глубины, которое есть не что иное, как совершенно реалистический синтез того, во что уверовали и что пережили все и что переживается всегда и везде. Эти трансцендентные добродетели, эта неутолимая жажда души формирует византийский тип, накладывает на него неизгладимый отпечаток православного традиционализма, нерушимой верности апостольскому началу.
Первые пять веков – это золотая эпоха великих святителей, отцов и учителей Церкви, которые передавали будущим поколениям наследие Парадосиса (Предания), уже сформированного в своих главных чертах. В деятельности Леонтия Византийского в VI веке и святого Иоанна Дамаскина в VIII веке мы можем увидеть попытки систематизировать учение Церкви. Нужно упомянуть и об озарениях святого Максима Исповедника, чудесного мистического писателя VII века, и единственную в своем роде молнию, осветившую византийское небо в XI веке в лице столь притягательной личности студитского мистика, “бедняка, любящего своих братьев”, святого Симеона Нового Богослова, и, наконец, в XIV веке, – огненное завещание святого Григория Паламы. Паламитское учение было признано канонизировано на Константинопольском соборе в 1351 году как самое подлинное выражение православной веры. Защищая исихастов-созерцателей Афона, святой Григорий обобщил святоотеческую мысль (а именно – святого Афанасия, каппадокийцев и ареопагитики) в богословии Славы Божьей. Апофатизм православия, основание и правило его гносеологии, снова переживает здесь мощный взлет. Сосредотачиваясь на Фаворском свете, паламизм утверждает традиционное разделение между радикально трансцендентной и непознаваемой божественной сущностью и нетварной благодатью, “энергиями”, или божественными проявлениями, имманентными и обоживающими.
6. Мудрый гнозис
Наивность Гарнака, писавшего о том, что отцы Церкви занимались философией, сейчас является лишь музейным экспонатом. В своем Источнике знания святой Иоанн Дамаскин ясно показывает, что истина зависит не от диалектики, а от того содержания, которое мы придаем терминам и категориям разума. Откровение утверждает истины, не сводимые к логике, и постоянно обязывает изменять термины и их значения (усия, ипостась) или создавать другие, совершенно новые категории (такие как теандризм или богочеловечество). Логическая форма и технический рефлексивный аппарат все время развиваются и извлекают благо из того, что они находят, но содержание святоотеческой мысли своей оригинальностью и трансцендентным характером предмета изучения взрывает любую систему. Человек посвящается в такое прочтение чувственного, при котором он разгадывает его, как притчу, содержащую духовную глубину. Следуя божественному Предшественнику, который входит в святилище Троицы (Евр.1:20), человек “проникает по ту сторону завесы”. Видение приобретает интеллектуальную оправу только потом, на второй ступени; оно облекается в рациональную форму только для того, чтобы оставаться прежде всего мистическим, – такова история всех догматов. Напротив, каждая ересь происходит от рационального утверждения, которое затем примешивается к вере и искажает ее.
В построении своего богопознания византийцы “аристотельствуют”, когда дело касается логического упорядочивания мысли, доказательств и определений, и в этом их формальный “аристотелизм”. И, напротив, они “платонизируют”, когда дело касается метафизического содержания мысли. Их метод философской рефлексии, задний фон богословия, не дедуктивный, но постулирующий, и постулатами являются догматически очевидные утверждения. Дионисий убедительно утверждает это, когда говорит, что подобная философия “не доказывает истину, но дает возможность увидеть ее непосредственно, скрытую под символами, и дает проникнуть в нее душе, преображенной святостью и светом». Постулаты исходят не из философии “по преданию человеческому, по стихиям мира” (Кол.1:8), они –догматы Откровения; пережитые и исповедуемые, они входят в “символы веры”. Они – сущности, пребывающие в Премудрости Божией изнутри, пронизывающие историческую плоть существ, дабы соделать из них “совершенно новую тварь”. Речь не идет о какой-либо философской системе, а лишь о философском методе, который применяется к тому, что даровано Богом, и получает указания для себя. Таким образом, диалектика помещается внутри догмата и Священного Писания. С другой стороны, мистический опыт света делает из богословия “тайноводство” (святой Максим) и в этом новом измерении “просвещенного ума” выходит за пределы всякой чистой мысли.
Христианский неоплатонизм, отчетливо прозвучавший уже у святого Григория Нисского, внедряется в интеллектуальный климат Византии, особенно в связи с ареопагитиками. Святой Максим, святой Симеон и, в особенности, представители монашеской духовности, по самой своей сути противостоящие всякому чисто философскому размышлению, увидят в нем специальный метод, наиболее приспособленный к выражению православия. Святые отцы придают большое значение философскому созерцанию в качестве “пропедевтики” к духовности и делают из греческих философов “учеников Моисея”. Другие – такие, как Пселл – видели в каждой истинной мысли введение в мессианские ожидания. Платон назван “предтечей христианства”, так как он один смутно предвидит то, что выше ума, и останавливается перед Единым. Аристотель остается пленником логических категорий и “доказательств”, и он критикуется именно как богослов, который слишком по-человечески касается догмата.
Неоплатонизм уберег восточную мысль от склонности к созданию концепций и поместил ее в перспективу, отличную от средневековой схоластики, особенно от номинализма, неизвестного на Востоке. Начиная с конца XI века, Запад претерпевает решительный поворот, который отделит его от Востока. От мира подобия, соучастия и синтезирующего восприятия совершается переход ко вселенной с действующей причинностью, к схоластическому анализу и образованию через школу. Библейский и святоотеческий живительный сок разжижается и уступает место богословским доводам. На долгие века служение Церкви оказывается лишенным подлинного евангельского вдохновения. Схоластике как установке религиозного познания, ее аналитическому (и, тем самым, рациональному) методу Восток предпочитает мудрое знание, где сходятся догмат, мистическое созерцание, богословие и философия. Насколько Запад проявляет всеобъемлющую потребность определять все, настолько Восток не только не имеет такой потребности, но, более того, имеет потребность не определять. Дидактическая, катехизическая часть римской мессы, взятая в своей совокупности, у самых ее истоков заметно более развита по сравнению с преобладающей мистической настроенностью восточной литургии. Но разница состоит не только в подходе и методе, но и во вкусе и интересе: Восток, более мистический, целиком пребывает в размышлении об обожении; Запад, углубленный в мораль, озабочен тем, с чем человек предстанет перед Богом. То же самое мы видим в предпочтении, оказываемом Западом с педагогической точки зрения монашескому общежительству, более приспособленному к упражнениям в совершенствовании добродетелей и легче контролируемому. Восток же будет рассматривать отшельническую жизнь как особую благодать, даруемую избранным, когда человек приходит более прямым путем к единству и к простоте, которые предполагаются в обоженном состоянии. Кажущийся “святой эгоизм” анахорета остается нормой даже для общежитийных монахов и остается узким путем для немногих, призванных стать светильниками и солью земли. Однако никакого разрыва нет, и святой Иоанн Златоуст подчеркивает идеальную идентичность: “Те, кто живет в миру, хотя бы и в браке, должны во всем остальном походить на монахов”. Во времена святых отцов существовала лишь одна духовность, универсальная в своем применении (в разных жизненных обстоятельствах), – монашеская аскеза: властвование над чувствами, молитва, чтение святых книг. Предание ставит аскетическую жизнь в ряд харизматических даров. Святыми являются чудотворцы, мученики, целители и аскеты.
7. Действующая и формальная причины
В понимании благодати и спасения Запад и Восток еще раз расходятся. Схоластическое богословие, ведомое “аристотелизмом”, будет рассматривать действие Бога в мире как результат действующей причинности. С помощью сил преизбыточной благодати человек стремится к непосредственному видению божественной сущности. Вновь обретя способность к духовным действиям, верные объединяются в организованное общество, Церковь воинствующую, для завоевания мира и высшего блага – это, в первую очередь, моральное и юридическое представление о плодах искупления. Для Востока божественное есть внутренний смысл бытия (формальная причинность), доходящий до онтологии существ и определяющий их. Всякое тварное существо предстает как происходящее от Божественного Существа и как Его подобие, соответствующее божественному замыслу о человеке. Его совершенство зависит от устроения всего его существа по образу и подобию. Благодать и одухотворение существа с помощью животворных энергий содействуют восстановлению обоженного таким образом человечества. Расцвет человека целиком заключается в причастности к условиям божественной жизни (бессмертию, простоте, цельности). Дело Искупления находится, таким образом, на линии действия полноты Воплощения: во взаимопроникновении (греч. перихоресис) или обмене свойствами, освящающими и преображающими человека. С одной стороны, антропология, имеющая более этическое и морализующее значение, стремящаяся к сверхъестественным заслугам – покорению мира и достижению блаженного видения Бога; с другой стороны, антропология с онтологическим направлением, просвещение и превращение человека в обоженное существо, ставшее “причастником Божеского естества” (2Пет.1:4). На Западе ударение делается на способности действовать по божественному образу, на Востоке оно переносится на новую тварь и на ее существование по божественному образу. Образ Божий у латинян является недостаточным принципом, так как даже в раю, до грехопадения, нужно было одаривать человека дополнительной благодатью.
Для Востока именно образ является достаточным источником божественного света в человеке. Это позволяет увидеть во Христе не заглаживание вины с точки зрения “богословия удовлетворения”, а природу, которая возрождается, и богословие восстановления: подобие воссоздано, и, таким образом, первоначальная природа восстановлена. Грех поразил единство человеческого существа, аскетизм и таинства исцеляют его, и в этом заключается все пророческое и нормативное значение монашества.
Для Запада апостольство Церкви выражается в священстве (вплоть до частого отождествления Церкви и священства) в его самом активном аспекте: в иерархической власти, в профессиональных проповедниках, в квалифицированных миссионерах и конгрегациях. Для Востока священство монахов ничуть не является элементом монашества; оно гораздо более в своей основе связано с харизматизмом мирян, с особым призванием. Именно харизматики (священники или простые монахи), прозорливые старцы, экзорцисты и анахореты-созерцатели обладают “апостольской душой” по преимуществу. “Совершенный становится равным апостолам”, – говорит святой Симеон. И, читая в душах с сердцеведением и различением, пророчествуя о Царстве Божьем и открывая его в настоящем, ограничивая власть бесов, они говорят о Боге и несут апостольское служение, делающее очевидным “совсем иное”, то, что из другого эона. Важно понять, что монашеское целомудрие, или “ангельское состояние”, совсем не противостоит супружеской жизни, а представляет в своем собственном значении явление пришествия Царствия Божьего. Речь идет о целомудрии души, об “очищении сердца”, которое находится в совершенно иной перспективе, чем лишь одно формальное физиологическое целомудрие.
133-я новелла Юстиниана гласит: “Монашеская жизнь как созерцание, которому в ней предаются, есть священная вещь”. Исихазм, просвещение и созерцание делают из монашеского состояния тайну новой твари, которая важнее всякой деятельности или юридического представления об обетах. Отсюда проистекает на Востоке отсутствие разнообразия религиозных орденов (все монахи живут по уставу святого Василия) и, напротив, разнообразие духовных состояний внутри монастырей: рясофорные монахи, монахи в малой схиме и в великой схиме. В противовес новому западному уставу, узы служения рассматриваются как нерасторжимые, и правила не содержат совершенно никакого послабления в их соблюдении в зависимости от деятельности в миру. Монашеское состояние является, таким образом, нормой для всякой души, оно есть в своем существе пришествие Царства Божия в глубину сердца и трепет души (смирение) перед вратами рая.
8. Монашество
Лучшим путем для проникновения в православную духовность является постижение ее через монашество, которое сыграло главенствующую роль в ее формировании. Монашество сразу же заставляет вспомнить великие имена преподобного Антония (250–350 гг.) и преподобного Пахомия (252–340 гг.) и наводит на мысль о страшной Фиваиде, колыбели столь многих гигантов Духа, – об этой пустыне, бесплодной, выжженной, но озаренной повсюду их светом. Эти учителя, опытное знание которых достойно удивления, учили столь утонченному искусству жить по абсолютному идеалу Евангелия.
Монашество объясняется, прежде всего, самым решительным востанием против зла и своим категорическим “нет” любому компромиссу, любому конформизму. Его суровость властно требует мужественного отказа от призрачных форм этого мира и построения монашеского града за пределами этого мира; его ангельское служение, тоска по Царствию Божьему противостоят слишком человеческому характеру империи, может быть, очень рано названной христианской.
Во времена гонений высшее проявление христианской веры принадлежало мученикам, которых Церковь почитает как собственное сердце и называет “уязвленными любовью ко Христу”. Мученик проповедует Христа, становясь “зрелищем” для Бога и ангелов. Ориген говорил, что мирные времена благоприятствуют сатане, который похищает у Церкви ее мучеников. В душе мученика Христос присутствует особым образом. “Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?” (Мф.13:22). Согласно этим словам, мученик есть евхаристическая чаша, осуществленная в христианской жизни, “воспоминание” страстей, перенесенных пред лицом Отца, и, тем самым и сразу, – празднование брака Агнца. По древнейшему преданию, мученик тотчас входит в Царствие Божие.
После соглашения с государством, утвердившим Церковь в истории и дало ей законный статус и мирное существование, свидетельство мучеников последних времен переходит к монашеству и преобразуется здесь в служение эсхатологическому максимализму. Монашеское состояние начинает рассматриваться как второе крещение: “крещение аскезой”, тем самым, заменяет “крещение кровью” мучеников. “Житие преподобного Антония” предстает как “самый древний агиографический очерк, в центре которого – человек, достигший святости и не вкусивший при этом мученичества”.
“Совершенный становится равным апостолам... он может, как святой Иоанн, обратиться к людям и сказать им то, что он видел в Боге. Он это может, и он это должен. Он не может действовать иначе”. Это постоянное и столь мощное напоминание о “едином на потребу”, о вкушении плодов спасения через аскетический подвиг, через “невидимую брань”, через эту неустанную ежеминутную борьбу “воина, сражающегося со страстями”, по классической формуле святого Нила. В тишине келий исихастов, в школе “умудренных Богом” медленно совершается столь удивительное превращение человека в новую тварь. Можно сказать, что по крайней мере здесь, в пещерах отшельников или в общежительной форме монастырей, это изменение, эта евангельская “метаноя” удалась.
Не есть ли это непримиримое противостояние пустыни и христианской империи? Экстремизм всегда содержит в себе опасность чрезмерности, исключительности, разрыва онтологических уровней. По прошествии времени мы можем, однако, увидеть единую евангельскую истину, которая освещает обе стороны человеческого существования, показывая их, как дополняющие и оправдывающие одна другую, чтобы выстроить ту плерому (полноту), которую несло в себе Воплощение. Монашество покидает этот мир, чтобы тут же благословить его из пустыни и поддерживать его непрестанной молитвой. И именно в максимализме монахов мир находит свою меру, шкалу для сравнения, “канон” существования. Исполненный изумления перед столпниками, он открывает в молитвенном измерении и в акте поклонения главное в человеке – жертвенный дар его существа, “смолотого жерновами смирения, чтобы стать сладостным и приятным хлебом для Господа”. И наконец, в духе самоотречения он постигает эсхатологическое служение самой истории. Своим сугубо евангельским стремлением к “невозможному” монашество спасает мир от самого опасного самодовольства (“автопистии” и “авторитмии”) и учит его глубине, связанной с эоном Духа. “Торжество Православия”, провозглашенное на VII Вселенском соборе, прославляет догматическое обобщение всех соборов, запечатленное в икономудром видении Трансцендентного. Сколь симптоматичной оказывается борьба иконоборцев одновременно против икон и против монашества, точнее, против монашеского идеала, этой живой иконы земных ангелов и единого на потребу, максималистского противовеса к минимализму людей империи. Жажда священного искусства (иконософии) у латинян и монашеского образа жизни в протестантских общинах в наши дни указывают на то, что часть христианского мира ищет потерянное христианское измерение. В формировании “христианского типа” или “нового человека” монашеский аскетизм сыграл решающую педагогическую роль. Его искусство различения духов, его культура духовного внимания, его стратегия невидимой брани, его наука господства духовного над материальным, никогда не оставляющая без внимания конкретный план существования, делали его прозрачным и сводили, таким образом, его феноменологию к измерению, близкому к Царствию Божию.
Путь был усеян пропастями. Нужно было преодолеть монофизитское пренебрежение человеческим, гордость “избранных”, боязнь “чистых” оскверниться, и его неизбежное следствие – смешение обскурантизма с апофатическим мраком, прибежище невежества в соединении с “docta ignorantia”. С другой стороны, предельное совершенство античной культуры подразумевало преодоление всякого предела и всего конечного. В противоположность мазохизму с его умерщвлением-наказанием, терапия уравновешенного аскетизма, избегая крайностей, реабилитирует материю, плоть воскресения, и провозглашает словами ликующей радости на гробницах мира весть о Пасхе и о Втором пришествии.
Святой Иоанн Лествичник (524–605), синайский игумен, знаменитый своей “Лествицей”, показывает, что очищенной душе свойственна неутомимая любовь к Богу, которого надо “любить, как свою невесту”. Служба, посвященная его памяти (30 марта по ст. с.), представляет его “воспламененным Божественной любовью, превратившимся в непрестанную молитву и невыразимую любовь к Богу”. Прямой опыт бытия Божия рассеивает призрачное бытие зла (святой Григорий Нисский) и делает из монаха “такое существо, каков он есть на самом деле”, существующим по образу сущего Бога. Цель истинного монашества заключается не только в том, чтобы соединиться со Святой Троицей, но и выразить Ее.
9. Экзистенциализм аскезы
Если Платон в “Федре” описывает философию как размышление о смерти и делает из нее искусство достойно умирать, то аскетизм идет дальше и вводит в искусство воскресения (Ин.1:24). Аскеты даже называют человеческий дух “воскресением”, что вполне соответствует идее святых отцов о том, что христианская душа является, по своей сути, “возвращением в рай”. Иначе говоря, существование определяется первоначальным предназначением Адама, которое мы вновь постепенно обретаем с помощью целительных таинств и аскетического очищения. Это значит, что аскеза вовсе не является ни “философией”, ни, тем более, “системой добродетелей”, но изменением через соучастие в “совсем ином”. Будучи уравновешенной, ее наука имеет своим центром все богатство, содержащееся в библейском понятии сердца. Если человеколюбивый Бог становится человеком только из-за любви к нему, то человек становится “богом по благодати” только через любовь к Богу. Никакая аскеза, никакая наука, лишенная любви, не приближает к Богу.
Знание естественно для человека, бытие существования свойственно только Богу: здесь видно преимущество живого существа над гнозисом. Святой Григорий Богослов подчеркивает: “говорить о Боге – это великая вещь, но еще лучше – это очищаться для Бога”. То же говорит и преподобный Симеон Новый Богослов: “Нет иного способа познать Бога, как жить в Нем”, и тогда человек “наполнен бытием”. Святой Иоанн Дамаскин говорит об уникальности Бога, сущностью которого является существование, и проясняет таким образом экзистенциализм тревоги и заботы (по типу Хайдеггера). Тревога, согласно святому Иоанну, есть крайняя степень страха, свойственного несчастному сознанию. Страх перед смертью (terror antiquus, или древний ужас) естественен для эмпирического существования. Человек потерял память о бессмертии в раю, но он хранит память о своем происхождении: вырванный из небытия, он остается под потенциальной угрозой возвращения в ничто или под угрозой уничтожения (комплекс смертности). Под действием закона природы воспоминание о ничто господствует над воспоминанием о божественном акте творения и над начальной жизненной силой бессмертия. Но в глубине, за завесой природного, скрывается или дьявольская мука – пожар неутоленного желания быть равным Богу, – или тоска образа, ищущего свой Божественный архетип – эрос архетипных условий райского существования. Итак, вовсе не разум находит Бога, но разум может найти и узнать себя в Боге. После грехопадения более не существует имманентной дороги. Только от Бога исходят, бросаются и погружаются в Него. Вот почему христианский разум никогда не развивается внутри какой-то системы мышления, а это развитие происходит в реальной полноте исторического существования, возведенного до уровня “места Бога”, Его богоявления. И глубинный смысл таинств состоит именно в том, чтобы продолжать видимое присутствие исторического Христа. Если каждый мистик есть прежде всего аскет, то это потому, что он никогда не является существом абстрактным, мечтателем, погруженным во всю конкретность “горних” и “дольних” бездн этого мира. И мученики в своей героической борьбе против монофизитов и монофелитов защищали эту чудесную полноту воплощения и различали в историческом материале плоть Царствия Божиего.
10. Литургическое богословие
Аскетический экзистенциализм заставляет нас увидеть, что поскольку православие происходит от слова δόξα и означает одновременно и правильное учение, и правильное прославление, то оба смысла соединяются в orthozon – правильном существовании – и показывают православие более молитвенным, чем дидактическим. “Если ты – богослов, то ты будешь истинно молиться, если ты истинно молишься, то ты – богослов”, – учат Евагрий и святой Григорий Нисский. Монашеская духовность подчеркивает непосредственную связь с Богом. Мистицизм, как умозрительный, так и созерцательный, неотделим от своего литургического источника, – искусства, доведенного в монастырях до совершенства. Литургия выступает как “канон” благочестия и властно формирует собственно образец православия – литургическую духовность.
VIII век –это время предания, поиск синтеза. “Сумма” святого Иоанна Дамаскина завершает святоотеческую эпоху, и после этого наступает время энциклопедического плетения, при котором созидание уступает место цитированию и оправданию через consensus patrum (согласие отцов). Но это еще и то время, когда богословские темы переходят в литургическую поэзию, которая вбирает таким образом живительный сок святоотеческой мысли. Во времена некоторого застоя в развитии мысли, Византия сумела создать наиболее глубокий богословский синтез в своей литургии. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, божественный свет сияет в Церкви с той же силой, как и во времена апостолов, и способствует радостному оптимизму, который пережит и который взывает: смерть не будет более иметь власти над нами.
В тесной связи с литургической жизнью видно, как в монастырях развивается непрерывная традиция опытного богословия великих мистиков. В X веке появляется преподобный Симеон Новый Богослов с его настойчивой проповедью о причастии божественному свету. Πτωχὸς φιλάνθρωπος – “бедняк, друг людей” – обогатил их богатством своей бедности – любовью Бога.
Так, воскресение для него начинается здесь, до перехода в иной мир. Святой Симеон продолжает традицию святого Григория Нисского и “Духовных бесед”, традицию непосредственного опыта вселения Божия. Святой Симеон является одной из мистических вершин, и если он и разделяет влияние с учителями меньшего масштаба – преподобным Макарием, преподобным Исааком Сириным или преподобным Иоанном Лествичником – его гимны Любви буквально воспламеняют современников, и его присутствие, столь живое даже сегодня, происходит из его милосердного стремления разделить мистическую радость с каждым человеком, заразить его ослепительной святостью.
Гора Афон является местом первых споров об исихазме, которые ведут к соборам XIV в. по поводу учения святого Григория Паламы. Святой Григорий – последняя и завершающая вспышка византийской духовности: еще раз и на все времена он возвышается, чтобы вновь утвердить суть православной духовности – причастие Богу посредством божественных энергий. Разъяснение этого – предел тайны теосиса (обожения).
11. Исихазм
Исихазм весьма четко разделяет Восток и Рим. Развиваясь от преподобного Иоанна Лествичника до Стифата и преподобного Симеона Нового Богослова, эта традиция, в лице святого Григория Паламы, говорит свое последнее слово о судьбе человека в свете богословия Святого Духа и божественных энергий. Исихазм обретает свой центр на горе Афон, но восходит к истокам монашества. Наряду с общежительным идеалом (по уставам святого Василия и преподобного Феодора Студита) всегда существовала более древняя форма, которая больше подчеркивала чистое созерцание и внутреннее безмолвие анахоретов. Обе формы дополняют друг друга без всякого противостояния или соперничества, т. к. они соответствуют единому типу монаха и исходят из одного и того же источника духовности. Однако большие монастыри, с их хозяйством и все более усложняющейся социальной деятельностью, рано или поздно обнаруживают истощение живительных мистических соков, которые тщательно сохраняются лишь одними отшельниками-исихастами. В этом вся важность обновления созерцательности, совершенной на Афоне Григорием Синаитом. Речь идет о единственной цели всякого созерцания – о целомудрии духа.
В середине XIV в. мощная реакция исходит из православных кругов, сориентированных на Запад. В конфликте между православным мистицизмом и рационализмом западной схоластики весьма показателен антипаламизм Григоры, Варлаама, Мануила Калеки, Димитрия Кидониса и его брата Прохора. Варлаам следует за богословием святого Фомы и отрицает различие между божественной сущностью и ее действиями (центральное утверждение паламизма). Имеют значение лишь доводы разума, всякое интуитивное постижение мистической природы объявляется источником ошибок, а внутреннее озарение даже обвиняется в материализации Бога. Действительно, святой Фома отвергает учение блаженного Августина о богопознании через божественное озарение и через интуицию и превращает разум в единственный инструмент, позволяющий мыслить о Боге. Димитрий Кидонис, будучи настоящим греком, в письме к своему другу Калоферу не скрывает своего энтузиазма по поводу богословской суммы святого Фомы: “С его помощью наша вера оказывается обеспеченной всеми возможными доказательствами”, и тогда, по словам его брата Прохора, “кто знает премудрость Божью, тот знает сущность Бога”. Это могло бы быть обожением посредством чистого интеллектуализма! Здесь налицо конфликт не между философскими кружками (хотя с обеих сторон присутствуют и Платон, и Аристотель), но более глубинный, догматический конфликт. Его суть заключается в различии между автономным катафатическим богословием, претендующим на “путь превосходства”, и апофатическим, помещающим каждое утверждение в присущие ему границы.
Согласно первому, логическое понятие Бога адекватно выражает Его Бытие. Из понятия Бытия аналитически выводятся свойства Бога: Его простота и Его единство. Онтологические законы приложимы к Богу, поскольку Он есть Бытие. Поэтому всякое антиномическое представление отстраняется, т. к. оно противоречит панлогизму. Последний, благодаря своему универсализму, представляется даже как источник причастности к божественному.
Согласно второму, божественная “сверх-сущность” коренным образом трансцендентна человеку и необходимо ведет к антиномическому (однако никогда не противоречивому) утверждению о полной непостижимости Бога в самом себе и об Его имманентных проявлениях в мире. Бог “проявляется” в Своих энергиях, и в них Он присутствует целиком. Энергия никогда не является частью Бога, она суть Бог в Его откровении, при этом Он ничего не теряет из радикального “не-исхождения” Своей сущности. Энергии являются общими для всех ипостасей Святой Троицы, они не сотворены и доступны твари. Они ничуть не затрагивают божественное единство, нераздельность и простоту, так же как и различие между ипостасями не делает из Бога нечто составное. Даже блаженный Августин был вынужден называть Бога “simpliciter multiplex”. Бог выше бытия и особенно того, которое имеет логическую форму, ибо Он – Творец всякой формы и, соответственно, выше и вне всякого понятия. Простота Бога есть “совсем иное”, чем наша идея о простоте. Уже всякий догмат антиномичен и металогичен, но никогда не противоречив.
Выявленное различие непосредственно отражается в очень сложной проблеме благодати. Для Запада благодать есть трансцендентное, но тварное качество и представляет собой условие, которое позволяет вменить нам оправдание в юридическом смысле. Реформаторы доводят это понятие до его предела, вменение принимает смысл “объявления” (посредством “судебной” благодати): внешним образом, через голос Суда, человек как бы объявляется праведным, не будучи таким в действительности по своей природе – semper justus et peccator (всегда праведный и грешник). Напротив, для Востока благодать, божественная энергия обоживает человека онтологически и делает из него подлинно новую тварь, праведную и святую саму в себе, хотя и по благодати.
Итак, именно это фундаментальное утверждение определяет все восточное богословие: божественная сущность совершенно трансцендентна; только “действия” (энергии, благодать) имманентны, им можно быть сопричастным. Речь идет совсем не об абстракции, это вопрос жизни и смерти, т. к. это вопрос о самой реальности приобщения человека Богу. Человек не может приобщиться и участвовать в божественной сущности (в этом случае он был бы Богом), и, с другой стороны, всякое приобщение тварному элементу (тварной благодати, даже если она называется сверхъестественной) вовсе не является приобщением к Богу. Человек самым реальным образом приобщается к божественным действиям и проявлениям Бога в мире, но это происходит точно так же, как в таинстве евхаристии: те, кто принял божественное “действие”, приняли Бога в полноте. Приобщение является ни субстанциальным (пантеизм), ни ипостасным (за исключением одного Христа), но энергийным, и в Своих энергиях Бог присутствует полностью. Напротив, у антипаламитов обожение, или блаженное видение божественной сущности, есть “логическое” приобщение, которое действует наравне с причинным детерминизмом и рациональным доказательством существования Бога. Рационалистический интеллектуализм помещает Бога на уровень человеческого ума. Эвклидова или декартова жажда рациональной ясности абсолютизирует ум и делает из него атрибут Бога, богословское место причастия. Это катафатизм, доведенный до своего предела, за неимением апофатического богословия.
Паламизм полностью находится в рамках строгоправославной мистики, мистики “божественного мрака” – мрака Божьего, обрамления Его света. От познания на человеческом уровне Святой Дух через причастие переносит к познанию на божественном уровне. Это иоанново богопознание через обитание в нас Слова и внутреннее озарение. Последнее есть явление нетварного божественного света. Мистический опыт показывает его, начиная с внутреннего, скрытого аспекта до его внешнего сияния (нимбы святых, свет Фавора или воскресения), увиденного с помощью телесных, но преображенных очей, отверстых Святым Духом. Действительно, преображение Господне, по словам Паламы, есть преображение апостолов и их способности в этот момент созерцать славу Господа, скрытую Его кенозисом. Этот свет, или слава Божья, есть энергия, в которой Бог являет Свое полное присутствие, и ее видение составляет подлинное созерцание “лицом к лицу” – “тайну восьмого дня творения” и совершенное состояние обожения.
12. Обобщения
Николай Кавасила (†1371) обобщает и обобществляет монашеский опыт великих духовных деятелей для того, чтобы все смогли найти в нем образец для проникновения в их существо всех харизматических форм жизни Церкви. Его труд о таинствах озаглавлен буквально “О жизни во Христе”. Это название, уже само по себе весьма красноречивое, показывает, до какой степени именно в этой таинственной, сакраментальной стороне жизни Церкви мы находим сердце православного мистицизма – жизнь в Боге. С другой стороны, таинства продолжают историческое видимое присутствие Христа, удостоверяемое “эпиклетическими” действиями Святого Духа. Сакраментальное воспоминание “воспроизводит” жизнь Иисуса, заставляет следовать символическому пути спасения, идя шаг за шагом за Христом. Жизнь каждого человека в Иисусе отождествляется с жизнью Христа в человеке, с “обителью Троицы” и одухотворением человеческой природы божественными энергиями. Литургический мистицизм, доступный всем, таким образом, тесно связан с жизнью каждого человека на историческом и, одновременно, духоносном уровне бытия и ведет к весьма конкретному включению верных в Тело Христово, к их объединению со Христом: “Доколе не изобразится в вас Христос” (Гал.1:19).
Наследие Вселенских соборов и отцов Церкви передается и легко узнается в каждом местном выражении православия. Мефодий и Кирилл, апостолы славян, будучи греками из Солуни, приносят с собой Библию, как и литургию, это живое истолкование Священного писания, насыщенное самими живительными соками святоотеческой Византии. Славянский гений принимает и усваивает ее, придавая ей черты своего собственного облика-то, что больше всего поражает в русской иконе. Невозможно точно определить, в чем состоит разница; мы здесь оказываемся перед очевидностью, которая не поддается никакой формулировке. Однако, высшая точка греческой иконы, “Богоматерь Владимирская”, и вершина русской иконописи, “Троица” Рублева, являют одни и те же богословские принципы, то же видение единого и единственного предания.
13. Прискорбное разделение
Восток применяет к экклезиологии тот же метод синтеза, что и к тринитарному догмату: как он исходит из Лиц, чтобы идти к Их единству (богословие каппадокийцев), так же от полноты каждой поместной Церкви он переходит к согласию этих равных и единосущных элементов. Отсюда, наряду с органичным единством, мы видим все разнообразие традиций и их собственное независимое лицо. Запад (особенно в томистском богословии) касается проблем аналитически: он видит прежде всего божественное целое и затем обращается к Лицам; точно так же, исходя от римского целого, он обратится к поместным церквам, как к частям этого целого, что предполагает единый язык и единый порядок богослужения. Здесь будут молиться “pro Ecclesia tua sancta catholica” (“за Церковь Твою святую кафолическую”), а на Востоке “о благостоянии святых Божиих Церквей”.
На Востоке уже сама множественность апостольских кафедр способствовала их совершенному равенству. На Западе только Рим в силу своего положения играл монархическую роль церковного центра. Это положение предрасполагало Римского папу все более и более чувствовать себя единственным преемником Петра. Православие, напротив, следует концепции святого Киприана: каждый епископ пребывает на cathedra Petri (кафедре Петра), являющейся местным символом универсальной ценности единства веры. Апостол Петр первым председательствовал на евхаристическом собрании, и каждый епископ является его преемником, является Петром, обладая этой сакраментальной властью. Так, католикос Селевкии – Ктесифона был “Петром, главой нашего церковного собрания”. Каждый патриарх является независимым духовным главой, непосредственным преемником Петра.
Если Православие видит себя как непрестанную Пятидесятницу и находит в этом принцип власти, коллегиальной и соборной, то на Западе Рим утверждает себя в качестве вечного Петра, единственного князя и наместника всех видов власти (всякой власти) Христа. Несмотря на очень точные каноны, полагающие предел его власти (5-е правило I Никейского собора, 8-е Эфесского), Римский первосвященник никогда не упускал случая навязать свои суждения поместным церквам.
Папское государство, в котором папа обладает обоими мечами и коронует королей, возводит его в единственное в своем роде достоинство носителя всемирной власти во всех ее формах, и это якобы в соответствии с божественным правом. Такие документы, как “Константинов дар” или “Лжеисидоровы декреталии”, хотя и были подложными, полностью отвечали формирующейся идеологии. Греки, со своей стороны, являли прагматическую позицию, более наивную и непоследовательную, которая выльется позднее в самое большое недоразумение во всей истории Церкви. Погрузившись в догматические споры, втянувшись в частые конфликты, безвыходные на местном уровне, они прагматически или эмпирически искали объективного третьего судью, способного разрубить узел. Обращаясь к Западу, к папе, представители Востока вполне естественно находили в нем всего лишь беспристрастного судью для разрешения данного затруднения, голос, исходящий не свыше, а извне. Мы определенно присутствуем здесь при рождении двух экклезиологий, несовместимых, не сводимых друг ко другу в их собственном догматическом принципе, взаимно игнорирующих друг друга. Христианизация римского права позволила основать средневековую западную теократию на ипостазированной власти пап. На Востоке священство и царство являются двумя харизмами Божьими, которые дополняют друг друга в единой священной диархии. Восточная теократия ищет и формирует духовные условия, способные сохранить догматическую чистоту веры, цель которой выражена монашеством – рождение новой твари. Существует лишь один Василевс для всех христиан, и империя есть местопребывание Церкви. Это объясняет, почему Церковь следует за расширением империи, столицей которой является Константинополь, и, соответственно этому, престол Вселенского патриарха имеет приоритет над древними патриархатами. Независимость Церкви, исходящая от империи, гарантированная и исповедуемая императором, делала ее полностью нечувствительной ко всякому другому примату, включая примат Рима. Действительно, симфония между Церковью и империей, между патриархом и василевсом не оставляла никакого иерархического места для власти Римского папы, и греки органически не могли понять латинского “tertium datur” (“третье дано”); они полностью игнорировали грандиозную мистику папства, которая медленно, но верно выковывалась на Западе. Греки спустились с небес, внезапно обвиненные в предательстве истины. Обвинение, разумеется, было формально правильным, и греки бессознательно делали все, чтобы ввести в заблуждение западных идеологов. В действительности же Рим, временно призываемый в качестве судии, после того как спор был улажен, полностью выходил из поля зрения Востока. “Восток не видел того, что видел Рим... Вечного Петра... Святой Василий игнорирует его, так же как и святой Григорий Богослов и святой Иоанн Златоуст.
Авторитет Римского епископа есть авторитет старшего первосвященника, но ничто не указывает на то, чтобы он для Востока являлся авторитетом по божественному праву”, – ясно утверждает католический историк Батиффоль (Mgr Batiffol). Для Востока папа, как и всякий епископ, подчинен собору, и никакое догматическое заявление не может быть принято во внимание без санкции собора.
С XI в. ссора углубляется, и папы присваивают себе власть на Востоке. Согласно постановлению Флорентийского собора (1439 г.) – последней и столь трагической встречи Востока и Запада – папа Римский есть глава всех поместных Церквей и, следовательно, всей Церкви; он получает свою власть непосредственно от Иисуса Христа, наместником которого он является, и это дает ему главенство над всяким собором; он не только отец, но также и учитель веры для всех христиан, которые должны быть ему послушны. Это учение о plenitudo potestatis (полноте власти) Римского первосвященника, превосходство которого над собором является прерогативой кафедры Петра, стало классическим на Западе. Оно является ипостазированной абсолютной властью. Нил Кавасила (вторая половина XIV в.) видел причину раскола в неразрешимом противостоянии голоса соборов и постановлений пап, имеющих значение ex sese (сами по себе). Начиная с XIII в., восточные богословы, потрясенные открытием непримиримого разногласия, стали подчеркивать разницу между апостольством и епископством и тем самым сразу подорвали основное притязание пап прикрываться авторитетом апостола Петра. Апостольское достоинство не может передаваться и почиет на всем Теле Церкви.
Существовало уже, по крайней мере, семь разделений между Востоком и Западом, в общей сложности насчитывающих более 200 лет лишь между IV и IX веками. Разрыв же 1054 г. все еще продолжается...
Рим навязывает свою экклезиологию, сосредоточенную на власти монархического типа. Полагаясь на эту мистику, не имеющую совершенно никаких корней на Востоке, Рим властно отвергал всех тех, кто не соглашался с ней. Крестовые походы решительно оборвали последние связи. Призыв “лучше турецкая чалма, чем латинская тиара” красноречиво свидетельствует о горечи и о жестоком разочаровании византийцев. Глубоко встревоженный Восток внезапно оказался перед ужасом ереси. Чистота веры представляет собой отчетливую грань и объясняет столь резкий поворот восточных христиан. Перед лицом римской ереси никакой компромисс, никакая “икономия” не могли больше играть никакой роли. Чисто догматический вопрос о Filioque (навязанный папам политической имперской властью) выдвигается на первый план, но он более не может правильно ставиться в духовном климате римского примата, уже в самой своей основе еретического для православных.
Более чем когда-либо нужно подчеркнуть явную историческую очевидность: в Церкви эпохи Соборов единство было выражением Истины. Не люди организовывают единство, но именно Истина порождает и предписывает свою собственную структуру единства, и только она одна организует людей в церковное собрание, в евхаристическое служение. И, следовательно, мы никогда не можем прийти к единству путем унии, т. е. отделить посредством компромисса единство от полноты догматической веры. Полный и совершенно необратимый провал попыток унии Лионского (1274 г.) и Флорентийского (1439 г.) соборов показывает бесплодность всякой капитуляции как средства решения догматического конфликта.
В православии не говорится ни о подчинении историческому институту, ни, тем более, о власти, – иной, чем власть любви. Именно здесь православие абсолютно самобытно и верно апостольской традиции: для каждого искреннего стремления к истине речь идет об объятии ее, и именно это участие в полноте догматической истины вводит ipso facto в согласие Церкви, в православие.
14. Славянская Византия
На Востоке формальная сторона экклезиологии никогда не привлекала внимание святых отцов. Мы видели, что Церковь не испытывала потребности определять себя. Так же и по поводу отношений между Церковью и государством Эпанагога (конец IX в.) ясно показывает, что знаменитая “симфония” двух властей является не юридическим принципом, а постулатом веры, прямым следствием догмата о воплощении, его полноты. Наряду со святыми мучениками, аскетами, отцами Церкви мы видим совершенно особую категорию святых императоров и князей. Их святость имеет природу, отличную от монашеской святости. Она подчеркивает религиозную миссию империи и ее правителей: защиту веры и ее распространение. Весьма характерен Кодекс Юстиниана, начинающийся Никейским символом веры; догмат как раз помещен в самую сердцевину того, что так неверно и легкомысленно называют “византийским цезарепапизмом”. Ригоризм и максимализм монахов, иногда чрезмерные, поистине смягчались в согласии патриархов и князей, но всякая попытка затронуть чистоту веры разбивалась рано или поздно о неколебимую скалу Церкви.
Харизматический характер церемонии коронации императора – это вхождение империи в священную ограду Церкви. Церковь есть всеобщее правило жизни, и поэтому, например, византийскому воинству присваивается название “христолюбивое”, и в осознании этого василевс иконографически всегда изображается коленопреклоненным или простертым ниц перед Христом. Конечно, равновесие всегда трудно сохранить, и оно проходит по острию меча; и если Церковь и не была никогда побеждена государством, то она сама временами подвергалась сильным искушениям, исходящим от истории.
В IX в. святые братья Кирилл и Мефодий Солунские переносят на почву славянских стран не только христианство, но также и теократическую идею по византийскому образцу, формируя славянское византийство. И сразу же можно заметить, насколько характерна потребность в независимости, которую так сильно ощущают Болгария и Сербия и которая выражает их общее стремление к теократическому достоинству, равному достоинству Константинополя.
В XV в. Византия исчезает. Не есть ли падение Константинополя кара за провалившееся предательство во Флоренции? Не является ли переход короны василевса к князю российских земель небесным благословением законного наследника православного царства, царя всех христиан? Иван III вступает в брак с племянницей последнего василевса и передает Москве герб святой Руси: двуглавый орел покидает берега Босфора и простирает свои крылья над степями необъятной России. Сердце национальной жизни бьется именно в Церкви, она осознает свое новое достоинство, вдохновляет народ, и тот в предельном усилии сбрасывает языческое иго и навсегда изгоняет татарские орды. Устами монаха Филофея народное сознание перемещает духовный центр мира в Москву; в то время как два Рима (Рим и Константинополь) пали, третий – Москва – стоит, а четвертому не бывать. Это отрицание “четвертого” определенно обозначает у Филофея эсхатологическую перспективу: Москва знаменует наступление последних времен. В Константинополе падает крест с храма святой Софии, Московский храм наследует титул “соборного”, и из того же духовного принципа исходит истинное значение вселенского титула “царь”. В 1557 г. Иван Грозный утвержден Востоком в этом достоинстве. А в 1589 г. Константинопольский патриарх Иеремия возводит митрополита Иова в сан патриарха Московского и всея Руси.
Но сильная централизация Московского государства, быстрый рост империи и ее политической власти обгоняют темп духовного развития; рост сознания церковного народа замедляется и ищет убежища в упрощенной верности прошлому. Консерватизм фатально вырождается в формальное обрядоверие. Официальное лицо русского православия формируется в отрыве от внутренней традиции, византийской по духу. Новгородские епископы в своей борьбе с еретиками призывают государственную охрану и воздают неявную, но от этого не менее тревожную хвалу западной инквизиции. Стоглавый собор (1551 г.) проповедует верность прошлому в гораздо большей степени, чем истине, и подготавливает своим узким обрядоверием староверческий раскол. Государство, становясь все более самодержавным, утверждает свои права и обходит молчанием свои обязанности по отношению к Церкви. Все больше и больше оно подавляет Церковь, нейтрализуя ее социальную роль и совершение дел милосердия. Драма третьего Рима, его утопизм, заключается в национальном мессианстве, которое вытесняет вселенское миссионерство Византии, и из-за этого несет в себе яд обмирщения.
XVII век отмечен глубоким кризисом. Богословы Киева вместе со Стефаном Яворским вводят латинское богословие, Феофан Прокопович уравновешивает его лютеранствующей тенденцией. При Петре Великом утверждается западный абсолютизм и происходит секуляризация. Петр отвергает роль Церкви как совести государства и сводит ее к непосредственным потребностям верующих, которые он сам определяет. С этих пор государство передает Церкви некоторые функции из соображений государственной пользы. Аппарат Синода заменяет древнее патриаршество, он заимствован и, будучи протестантским по природе, именуется “Департаментом православного исповедания”.
Но, наряду с Великой Россией, растет в глубине мистическая традиция, старчество, святая Русь многочисленных паломников, ищущих Небесный град. В конце XV в. преподобный Нил Сорский (1433–1508) приносит исихазм с горы Афон и оставляет замечательный труд о православной аскезе и устав монашеской жизни. В конце XVIII в. преподобный Паисий (Величковский) (1722–1794) формирует целую мистическую школу, сосредоточенную на “Добротолюбии” и Иисусовой молитве. Его ученики возвращаются из Молдавии в Россию и оживляют традицию непрестанной молитвы и старчества. Самые знаменитые центры – Оптинская и Саровская обители, причем последняя была освящена преподобным Серафимом Саровским, умершим в 1833 г. и бывшим современником Пушкина. Тот факт, что, будучи современниками, преподобный Серафим и Пушкин не знали друг друга, показывает трагедию параллельных путей аскезы и культуры; проблема их внутренних отношений будет поставлена перед русской мыслью XX века.
Россия, верная своему внутреннему византийскому наследию, развивает особую сторону русской святости, образ кенотического, смиренного Христа (“юродивые во Христе”). С другой стороны, наряду со святыми князьями, служащими миру, мы видим старцев, которые осуществляют свое собственное харизматическое служение как в миру, так и для мира. Столь трагичный конфликт между Иосифом Волоцким (1439–1515) и Нилом Сорским является также конфликтом между социально организованным христианством и христианством духовной традиции нестяжания и мистического созерцания. Традиция Нила и его заволжских учеников, в противоположность внешнему обрядоверию, делает ударение на внутреннем источнике духовной жизни. Ничего не оставляя из того, что касалось социальной благотворительности, эти “нестяжатели” видели, однако, роль монашества совершенно в другом. По существу, эта роль является пророческой: монах, прежде всего, свидетельствует о присутствии Царствия Божия среди людей этого мира. “Третий Рим” есть лишь его отдаленный и весьма хрупкий образ. С другой стороны, трагически изолированные в своем расколе староверы напряженно борются с падшим священным царством и вводят тему Антихриста, которая станет основной на все времена и оставит глубокий отпечаток на русской мысли.
Святость и истинная православная духовность будут расцветать в тени политических событий, в тишине монастырей.
Накануне революции происходит открытие иконы, литература и русская общественная мысль лихорадочно ищут последнего синтеза; на более же глубоком уровне непрерываемая традиция Иисусовой молитвы и богословие Святого Духа свидетельствуют о преемственности по отношению к духовной Византии – к православию.
Глава II. ВИЗАНТИЯ ПОСЛЕ ВИЗАНТИИ
Василий Татакис называет последнюю главу своей “Византийской философии” “Византия после Византии” и говорит в ней о русском православии. Конец Византии – это всего лишь конец империи. Византия же, как духовная родина православия, продолжает существовать.В течение десяти веков Россия усваивает византийское наследие и, начиная с XIX в., приступает к великому обобщению всех его тем. Отец Сергий Булгаков, крупнейший богослов нашего времени, выразил самую суть в своем настоятельном призыве вернуться к великой истине Халкидонского собора, к теандризму (богочеловечеству), присущему православию. Идея богочеловечества, основная в философии Вл. Соловьева и, после него, у всех великих русских мыслителей, направляет мысль к христологическому перихоресису: взаимопроникновению божественных и человеческих свойств. Диалектика образа и подобия, данного и заданного, исключает любое монистическое построение. Отец Павел Флоренский блестяще демонстрирует бесплодность логического принципа тождества и анализирует основное понятие единосущия и подобия. Способность интуиции направлена не на рациональный принцип противоречия или достаточного основания, а на духовную антиномию совпадения противоположностей, к “пресветлому мраку” Премудрости Божьей. Нет никакого онтологического дуализма, но есть полярность способов существования, ноуменального и феноменального, святого и демонического, бытия и небытия.
Воплощение – это событие в самом сердце бытия, его внутренний факт; в своем обобщении оно распространяется на все человечество и ставит историю под знак вселенского соединения со Христом. По Соловьеву, Христос-Богочеловек продолжает и исполняет Свое воплощение во Христе-Богочеловечестве: Церкви людей, ангелов и космоса. Славянофилы применяют богочеловеческий принцип к гносеологии или к эпистемологии и утверждают соборную структуру сознания и познания. Приобщение к религиозному изменяет природу человеческого ума (гнозис Климента Александрийского). Ум, соединенный с “сердцем”, в библейском смысле слова, превосходит дискурсивный рассудок, умственное размышление (dianoïa), приводя его к разуму – noûs, способному к познанию через озарение и к объединяющей любви. Знание есть функция жизни, оно присуще человеку, живущему в цельном единстве всех способностей духа. Такое “живое знание” (по представлению славянофилов) способствует воссоединению всего сознания в Святом Духе. Оно раскрывает тайный смысл через участие в зоне Святого Духа. Человек “в исторической ситуации” обнаруживает, что он находится между небытием и Сущим, и в акте действующего знания он изменяет свое бытие, становясь его сущим, субъектом. В. Соловьев приближается к паламистской концепции и делает различие между бытием и существованием: бытие есть онтологический предикат существующего субъекта. Всякая односторонняя философия бытия (онтология) олицетворяет предикат и впадает в абстракцию. Мыслитель является прежде всего существующим, он стремится постигнуть то, к чему бытие принадлежит через причастность. Такой экзистенциализм учит скорее видеть бытие как свет, пламя или дуновение, чем определять его как статическое и неподвижное бытие.
Бог выше всякого понятия об Абсолюте, что уничтожает всякую аргументацию, осуществляемую с помощью рациональных доказательств через причинность, действующую в плане бытия, но разрешает ее в плане существования, и это – апофатическая несомненность скрытого Бога, Deus absconditus (апофатический аспект аргументации святого Ансельма). Она свидетельствует о существовании каждого в форме литургического “воспоминания”, то есть по отношению к Богу, в обращении к Нему; для каждой намеренно направленной мысли является нормативным, что ей органически присуща и неотделима от нее идея Бога. Благодаря реальному присутствию истины, ее критерий является не логическим, а несомненным и откровенным.
Типично русский максимализм, страстное отрицание любой попытки удовольствоваться золотой серединой придает русской мысли одновременно историософский и эсхатологический характер. Она видит конец мира во всякой организованной объективации, во всякой формальной сакрализации и абсолютизации относительного. Вслед за святым Симеоном Новым Богословом, Бердяев показывает, что в грехопадении происходит экстериоризация и объективация существования. Эсхатологизм же, напротив, является возвратом во внутреннее, возвращением в эон Духа. Концепция зла как призрачного, иллюзорного состояния (святой Григорий Нисский) углубляется в феноменологической концепции мира. Чаадаев ощущает эсхатологическое измерение исторического времени, Соловьев говорит об имманентном завершении истории. Для Бердяева это завершение неизбежно, т. к. любое творчество, любое пламя вдохновения застывает в объектах этого мира, социализируясь и демократизируясь. История утверждает свой конец, но тем самым она утверждает и свой смысл. А он опять восходит к Халкидонскому догмату. В то время как Гоголь внутренне разрывается между двумя полюсами халкидонской формулы, Бухарев уже намечает сверхрациональный синтез культуры, осуществляемый во Христе. Достоевский со всей страстностью восстает против любого вида монофизитства, равно как и против монизма немецкого идеализма, и в свете догмата пишет грандиозную апологию человека и космоса. В отличие от западного акосмизма, софиологическое течение (Соловьев, Флоренский, Булгаков, Трубецкой, Зеньковский) предлагает свое решение проблемы космоса и метафизического единства всех измерений тварного мира.
Парадоксально, что именно в монашеском максимализме, в его видении одухотворенного мира, Византия нашла источник вдохновения для создания своей величественной культуры. Тот же дух воодушевляет русских мыслителей в их поисках воцерковления жизни. Так, одинокий мыслитель-эрудит Федоров борется против греха забвения, ратует за восстановление живой памяти обо всех умерших и мечтает о великом синтезе всех наук, поставленных на службу воскресения.
Восток предполагает наличие величайшей связи между уровнями бытия, которые Запад разделяет. Здесь всегда можно увидеть связь между неполнотой и плеромой, реальностью и ее собственной глубиной, ее собственной истиной. Так “сверхъестественное” является полным изменением по подобию Божьему строения естественного. Вера является совершенной истиной знания, и Церковь – совершенной истиной общества. Вот почему в общественной структуре и даже во всякой социологической форме православие всегда ищет образ “абсолютного Общества” Единого и Троичного Бога. Византийская симфония – это вовсе не договор и не юридическое разграничение полномочий, а постулат веры, приложение догмата, имеющее целью обретение единства всех церковных служений в едином служении Царства Божьего, т. к. всякое церковное действие харизматично, а всякий верующий есть священник, царь и пророк царственного священства. В замкнутом мире явлений существуют лишь индивидуумы; человек становится личностью лишь тогда, когда он определен свыше, и личность есть признак наступления духовного ипостазирования.
Райская лествица святого Иоанна Лествичника говорит о постепенном погружении в Дух. Это также является превращением всего существа в свет. Святые оставляют после себя свидетельства этого света. Вот почему все учение святого Серафима Саровского в XIX в. будет сосредоточено на одухотворении человека дарами Святого Духа.
Библейское богословие Присутствия вдохновило о. Сергия Булгакова на труд о слове как прообразе мысли, о его таинственной жизни и его небесных корнях. “Когда Иисус предстает перед нами, мы видим тайны, сокрытые в Священном Писании” (святой Симеон). Ересь исходит от разума, рассуждающего об абстрактном и потому мертвом слове. Итак, все значение предания состоит в открытии Христа, который наполняет Своим присутствием все формы веры: “Вера вводит в нас не только стрелу, но и Стрелка вместе с ней”. “Всякий иной способ изучения и прочтения Священного Писания ведет нас только к заблуждению”, –уточняет святой Симеон. Присутствие дает возможность увидеть его как характерное для новой твари во Христе.
В связи с этим А. Карташев с огромной силой говорит о современном смысле теократии и даже христократии. Он объединяет глубочайший мессианский и эсхатологический смысл с наиболее конкретным историческим смыслом. Но прогресс никогда не бывает прямолинейным, наряду с развитием существует также и распад. Исторические достижения относительны. Цель государства, говорил Соловьев, не создать рай, но помешать миру стать адом. Такое видение стоит выше оптимизма и пессимизма, и при желании его можно назвать трагическим оптимизмом, т. к. оно связано с человеческой свободой, с его да, сказанным Второму пришествию. Федоров в своих трудах выразил замечательную идею об условном характере Апокалипсиса: если Страшный суд и может иметь место, то это потому, что его могло бы и не быть.
Один из самых великих даров Святого Духа свобода предполагает в жизни Церкви преодоление всякого принципа власти. Она ничуть не отрицает иерархию, но отрицает клерикализм. Организм благодати противостоит любой организации благодати, особенно организованной благодати, и исключает всякий принцип формального права. “Каноническое право” не имеет ничего общего с юридическим правом. Оно ничего не предписывает, исходя из правосудия и его законов, но указывает на наиболее адекватные формы, чтобы показать, как история в каждую эпоху и на свой манер может воплощать в своей плоти догматические истины. Таким образом, оно указывает не на принципы, а на саму жизнь.
Церковь знает лишь одну власть, власть любви. Это та пастырская “харизма милосердия”, “отеческая ласка”, которую получает каждый епископ: “Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так” (Лк.13:25). Епископы не правят, а направляют, объединяют и ведут. Харизматические полномочия священства не зависят от личных качеств: будучи функциональными, они осуществляют объективную связь, предлагают лестницу Иакова, таинства. Напротив, авторитет святого всегда личностен, он выше всякой функции, он свидетельствует о пришествии Духа Святого в твой собственный дух, о личной харизме.
Православие внимательно прислушивается к “воздыханиям неизреченным” Святого Духа и ставит богословие под знак эпиклезы. Сын молит Отца послать Духа, чтобы завершить Свою собственную миссию. Таким образом, Христос предстает как великий Предшественник Утешителя. Самое привлекательное для всякого богослова, – это сделать свое богословие христоцентричным, что превосходно согласуется с кенозисом Святого Духа. Однако сам кенозис не допускает никакого пневматоцентризма. Отец Сергий Булгаков в своих главах о Святой Троице блестяще показал, что только полностью уравновешенное тринитарное богословие выпрямляет любое отклонение. Великое святоотеческое наследие говорит нам о том, что богословие – это молитва, литургия, и оно предполагает приношение, духовную жертву: “Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом” (1Пет.1:5). Тайна Второго пришествия являет Сына и Святого Духа в сходстве Их действий при осуществлении троичного домостроительства: они едины в Отце и их двуединство являет миру недоступный лик Отца, делает окончательно ясным сыновства. “Ибо все, водимые Духом Божиим суть сыны Божии” (Рим.1:14). “Дабы Он был первородным между многими братьями”, сынами в Сыне, которым Он определил “быть подобными образу Сына Своего” (Рим.1:29); Отец их усыновляет во Христе через Духа Святого. Сыновство ведет к состоянию наследников Славы Божьей. Владыка Кассиан в своей экзегезе выделяет в богословии апостола Павла учение о “Церкви-жилище”, οιςκιᾳία: “Вы устрояетесь в жилище Божие” (Еф.1:22). Мистические брак-семья-жилище, “домашняя Церковь” – все эти образы восходят в крайнем дерзновении к Божественной Церкви, к Святой Троице. “Вы... приняли Духа усыновления, Которым взываем: Авва, Отче!” (Рим.1:15). Нам дана возможность усвоить состояние Христа в момент Его молитвы: во время литургии непосредственно перед причастием, которому предшествует молитва Господня, священник говорит: “И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати: Отче наш...” Вечность Отца открывает то, что человек был создан чадом Божьим, и усыновление есть лишь возвращение к первоначальному достоинству, данному от рождения.
Глава III. PRO DOMO SUA
Мы сознательно выбрали описательный, строго объективный метод. Наша вера учит нас, что истина не нуждается ни в наглядности, ни тем более в доказательствах – ее очевидность самодостаточна. При встрече с непризнанием или со страстной полемической позицией мы видим, как критика неизбежно оборачивается против примитивных апологетов, подобных друзьям Иова. И не через Иова ли, не через это ли существо, которое расстраивает и запутывает всякий четко очерченный образ. Бог посылает в шепоте премудрости Свою весть?Кажущийся беспорядок православия, который доходит до того, что создает впечатление анархии, а также наличие часто встречающейся небрежности его эмпирических форм и возможности для каждого богослова основать свою отдельную школу – насколько все это справедливо! Но так как православная соборность проникает в самое наше существо и становится источником, благодаря которому мы существуем и живем, то она – в этом мире, но не от этого мира, и поэтому она неорганизуема, необъективируема и неформализуема. Не существует никакого формального критерия вселенскости соборов, но соборы существуют и направляют всю нашу жизнь; “власть любви” невыразима ни в какой юридической формуле, но именно она составляет харизматическую сущность епископата. Мы утверждаем и будем утверждать до последнего нашего вздоха евангельскую весть о примате личности и сыновней свободы над абстрактным общим и над организацией. Так, например, с риском противоречия букве, личность никогда не может быть принесена в жертву коллективному “порядку”, и поэтому допустим “беспорядок” развода. Каноны и дисциплина поставлены на службу догмату. Мы не могли бы более чувствовать себя свободно, как у себя дома, вместе с Богом, если бы все в Церкви было бы регламентировано. Именно наше евхаристическое восприятие Церкви помещает нас локально повсюду в ее полноту и сообщает эту свободу вне всяких принуждающих, централизующих и объединяющих принципов. В то время, как федерализм указывает на демократизацию духа, универсализм неизбежно склоняется к духовному тоталитаризму. “Организованная истина” с расчетом на массы ведет к обезличиванию выдрессированной и покорной толпы. Аристократический беспорядок заставляет нас страдать, но, будучи в высшей степени иерархическим, он охраняет в то же время уникальность каждого лица и каждой судьбы. Церковь наставляется Церковью же, минимальное количество догматических формул и максимальное число мнений объединяются в живом предании. Но сама невозможность выделить и оценить степень чистоты каждого элемента предания показывает, в какой степени мы стоим перед лицом не механизма, а тайны жизни. Зеленеющее дерево обитает на скале, и всякая попытка упрощения разбивается при соприкосновении с ней.
Выдающийся латинский богослов в своей во многом замечательной книге о Достоевском выражает нечто очень римское. Он считает, что христианство скорее на стороне “Инквизитора” и что Христос легенды из “Братьев Карамазовых” есть образ разрушительной для Церкви анархии. “Тайна, чудо и власть” задают структуру Церкви, и чем стало бы ее теократическое могущество без этих трех принципов? Однако для Востока чудо – в таинствах, тайна – в озарении при эпиклезе, а власть – это власть одной лишь любви. Восток и Запад расходятся именно в самом интимном, касающемся опыта Бога, в парадоксальности того, что скрывает Его гораздо больше, чем открывает, – в самой тайне благодати.
Православная анархия очень относительна и внешне ограничена. В догмате и в литургическом славословии, в “едином на потребу” евхаристии, мы все являемся единосущными членами их единства. Таинственный голос Христа, который исходит из Его собственной исторической судьбы, непрестанно говорит нам: “Духа не угашайте”, не становитесь рабами слишком хорошо организованного порядка ценой насилия над совестью и избегайте самой грозной опасности – “организовывать” веяния Духа.
У нас нет руководителей совести, но есть духовники и духовные отцы, и нас ведет кровь мучеников. Тот, кто не выносит “ига” православной свободы, уходит прочь и всегда становится “интегристом”, большим папистом, чем папа, или крайним протестантом-анабаптистом, сектантом, фанатиком: “Они вышли от нас, но не были наши” (1Ин.1:19).
Православная свобода не противостоит порядку, его очень четкая догматическая система и совершенная литургическая структура требуют его, но являют этот порядок зависящим от свободы и, следовательно, глубоко таинственным, скрытым; она противостоит лишь нарушениям, проявляемым со стороны олицетворенной власти и анархии уравнения всех в священнических правах.
Духовный авторитет старцев, внутреннее монашество всякого мирянина, харизматизм всякого верующего – все это присуще богословию Святого Духа, а не богословию института в западном смысле слова. Скорее можно говорить о “феноменальном учреждении”, которое не организуемо по своей природе.
Запад и Восток сегодня не более чем географические понятия, истина же свободна от всякого ограничения в пространстве и зовет к подлинному универсализму. Современный человек в своей обнаженности и пред лицом смерти более чем когда-либо стоит пред божественной альтернативой: “Жизнь и смерть предложил Я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты” (Втор.13:19). Четкие границы божественного и бесовского не оставляют более места ни для чего нейтрального и призывают к окончательному выбору. Величайшая тоска по истинным глубинам охватывает мир, ищет время, открытое вечности, и пространство, ведущее в Царство. Это и тоска по всеохватывающему Присутствию, по новому творению.
Находящееся между безднами христианство стоит перед призывом заполнить эти бездны любовью. “Имеющий уши да слышит”. Фаворский свет судит все части света и всех нас принуждает к глубинной свободе – вслед за fiat (да будет), сказанным Богоматерью воплощению, сформулировать и вписать в историю эсхатологическое fiat Второму пришествию. Литургическое место для всех чад Божьих, Церковь исполнения, устремленная к “Востоку, сходящему с неба”, уже является предвосхищением Церкви Царства.
Известно, с какими трудностями столкнулся Меланхтон при переводе на греческий язык Confessio Augustana (Аугсбургского вероисповедания). Он не мог найти основных категорий, с помощью которых можно было бы выразить лютеранское богословие перед традицией, которую он сам (в своем письме к Константинопольскому патриарху Иоасафу II в 1558 г.) называет традицией Афанасия, Василия, Григория и Иринея. См.: Ernst Benz, Wittenberg und Byzanz, Marburg 1949.
В XIX в. на Западе лишь некоторые отдельные мыслители (Карлейль, Ибсен, Кьеркегор, Л. Блуа) выражают метафизическое беспокойство. В России же литература целиком погружена в предчувствие грядущих потрясений. Одному пастору, посетившему недавно Россию и спросившему, какова самая жгучая проблема Русской Церкви, священник не раздумывая ответил: Второе пришествие.
Старообрядческий раскол не имеет ничего общего с догматической ересью. Он происходит от трагического разочарования в том, что в истории не осуществляется священное царство. Хилиастическая и теократическая утопия, доведенная до крайности, порождает бегство от истории, вплоть до очищения огнем, до эсхатологического самоубийства. Немногочисленные же секты – это следствие зарубежного влияния, заразного и порождающего необычные сплавы на русской почве, – но они никоим образом не могут рассматриваться как собственно православный феномен.
Не есть ли это косность? “Дерево, зеленеющее на скале”. Этот образ, используемый проф. Федотовым, показывает православие зиждущимся на скале предания и в то же время встречающим те же жгучие проблемы, что стоят перед Западом. Возможно, космизм православия, его врожденный эсхатологический характер и, особенно, богословие Святого Духа выдвигают православие в авангард современной богословской мысли.
Особое призывание Святого Духа в восточной литургии. В расширенном смысле означает действие Святого Духа, предваряющее всякое явление Христа.
Αφή, см. Rahner, “Le debut d’une doctrine des cinq sens spirituels chez Origene”. R.A.M. 1932, pp. 113–145.
Fr. Fuchs. Die hoeheren Schulen in Constanlinopel. В 475 г. Константинопольская библиотека насчитывала 120000 томов.
P.G. 36, 502. См. Salaville “De l’hellénisme au byzantinisme” (“От эллинизма к византизму”), in: EOR, t. 30, 1931.
Послания 234, н. 2, P.G. 32, 868.
P.G. 150, 1205.
Mansi, Coll. concil. VII, col. 116. “Единородный, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемый”: ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωπίστος.
Т.е. в общении свойств двух природ во Христе в единстве их жизни и в действии в единой ипостаси Слова.
Похвальное слово, P.G. 36, 573 В.
См. Norden, Die Antike Kunstprosa II, 2, p. 463.
Cotidiana vilescunt: Повседневные вещи становятся низкими, – гласит старая поговорка.
См. Dorn О. Rousseau, “Les langues liturgiques de l’Orient et de l’Occident”, in: Iŕenikon, t. 29, 1956.
Выражение принадлежит о. Габриэлю Хорну (Pere Gabriel Horn, “Le miroir et la nuée”, R.A.M. 1927). В Притч.1Септуагинта и Вульгата переводят древнееврейское слово ath как ἐπίγνωσις (в Синодальном переводе: “познание о Боге” – прим. перев.), Симмах – как γνω σις. Ориген (Против Цельса, 749) по поводу этого текста говорит о “божественном чувстве” и переводит его как αïσθησις. Святой Григорий Нисский заимствует это слово у Оригена.
См. Dvornik, Le schisme de Photius, Paris 1980, (Unam Sanctam 19).
См., напр., тексты святого Василия и святого Григория Нисского, P.G. 29, 497–775; 45, 248–1122; 32, 684–694; 45, 115–136; 32, 325–340.
Epist. IX, 1, P.G. 3, 1105 CD.
Писания, упомянутые впервые на Константинопольском соборе в 553 г. и прокомментированные епископом Скифопольским Иоанном.
Напротив, простодушные монахи с горы Олимп в Вифании при одном имени Платона осеняли себя крестом и шептали анафему эллинскому дьяволу!..
Укажем на весьма яростную реакцию Симеона Фессалоникийского, Диалог против ересей, P.G. 155, 140.
См. Congar, “Neuf cents ans apres” в L’Eglise et les Eglises, изд. Chevetogne, I, p. 46; M.D. Chenu, La theologie au XlI s., Vrin, 1957.
Cм. Baumstark, Grundgegmsce tze morgenlce ndischen und abendlce ndischen Christentums, Rheine, 1932.
См. G. Bardy, “Le sens de l’unite dans l’Eglise et les controverses du Ve s.”, in: L’Année théologique, 9, 1948, p. 167.
См. Dorn A. Stolz, L’Ascèse chŕetienne, Ed. d’Amay, 1948, pp. 52–55.
Беседа на Послание к Евреям, 7, 41.
Святой Кирилл Иерусалимский, Поучения тайноводственные, 16, 12.
См. Dom O. Rousseau. Monachisme et Vie religieuse, Chevetogne, 1957, p. 26.
См. Ориген, P.G. 12, 728 С.
На Западе новые монашеские ордена образуются в зависимости от специальных целей, которые не являются монашескими в собственном смысле слова.
Рясофорные – те, кто носит монашескую рясу, малосхимники – монахи малого образа, великосхимники – монахи великого образа.
См. Studia anselmiana, № 38, Roma, 1956.
Когда преподобный Антоний удаляется в одиночество пустыни, бесы жалуются: “Выйди из наших владений, нам не остается здесь больше места”. Кассиан подчеркивает желание аскетов впрямую сразиться с бесами: Сб. 18, 6; 7, 23. См. К. Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Moenchtum, Leipzig 1898.
Святой Афанасий, P.G. 26, 867–908.
DAL. XL, coll. 1802, ст. D. Leclerq, “Monachisme”.
I. Hausherr. “Syméon le Nouveau Théologien” in Orientalia Christ. XII. 1928.
Святой Василий направил монашество к киновийным общинам. Однако идея отшельничества никогда не теряла своей притягательности. Симеон Фессалоникийский (1435) приводит Самого Господа в качестве образа для отшельников, в то время как для общежительных монахов он указывает только жизнь апостолов (P.G. 155, 913). Об истории монашества см. F. Heiler, Urkirche und Ostkirche, 1937. О русском монашестве: I. Smolitch, Russisches Moenchtum. Augustinus Verlag, Würzburg 1953.
“Изречения” святых отцов передают совет, обращенный к Арсению: “Беги от мира, храни молчание и сохраняй мир в душе; эти три вещи избавят тебя от греха”. Авва Андрей также говорил: “Три вещи подобают монахам: покинуть свой дом, жить в бедности и в молчании, упражняться в терпении”. Но для такой отшельнической жизни необходимо особое призвание.
Вера в свои собственные силы и дух самодовольства.
“Ученое незнание”. Выражение принадлежит Николаю Кубанскому. Дионисий говорит о “благом незнании”: это знание, которое “не наука”.
45 P.G. 88, 596–1209.
Святой Максим, Толкования к трудным местам, P.G. 91, 1196 В.
Святой Кирилл Иерусалимский говорил новокрещенным: “Когда же ты отрицаешься сатаны, разрывая совершенно всякий с ним союз и древнее согласие со адом: тогда отверзается тебе рай Божий, на Востоке насажденный”, Поучения тайноводственные, I, 9.
Ватиканский собор завершает постановление Тридентского собора о вере и подчеркивает ее интеллектуальную природу. Вера полностью отделена от любви и есть одобрение, интеллектуальное согласие: “Вера, взятая сама по себе, даже, когда она не воодушевлена любовью, есть дар Божий, и ее действие полезно для спасения» (Denzinger, n. 1791). Для Востока же вера есть акт метанои всего человеческого существа и живет она в сердце, в метафизическом центре, и определяет все способности духа – это, как сознательная эпиклеза, решение, ведущее человека к соединению со Христом.
Слова XXXII, 12; P.G. 36, 188 С.
Христологические ереси, утверждавшие во Христе наличие лишь одной природы и одной воли.
Слово о молитве, 60. Состояние богословской восприимчивости требует “дара (благодати) молитвы”; там же, 87.
Молитва есть дерзание непосредственного разговора с Богом – θεου ὁμιλία – P.G. 44, 1124 В.
Его главный труд, “Источник знания”, в третьей части под названием “"Точное изложение православной веры"” подводит итог греческому богословию. Переведенный на латынь в XII в., он передает на Запад предание отцов.
Это время упорядочивания церковного календаря императором Василием II, редактирования текстов Симеоном Метафрастом и т.д.
Приписываются преподобному Макарию Египетскому.
Константинопольский собор 1351 г. окончательно канонизирует учение святого Григория Паламы как подлинное выражение православной веры.
“Это учение, рассматриваемое в своем фундаментальном принципе, является не только серьезной философской ошибкой. С католической точки зрения, это также и настоящая ересь”, – авторитетно утверждает Жюжи (Jugie, in: Palamas, DTC. coll. 1764, t. XI).
См. J. Bois, “Les hésychastes avant le XIVe siècle”, in: Echos d’Orient, 1901, t. V.
См. рассказ Никодима Святогорца в: Добротолюбие, Афины, 1893, т. II, с. 242.
Оно достижимо даже в условиях брачной жизни, по словам святого Григория Паламы, P.G. 150, 1056 А.
P.G. 151, 693–716.
“Множественный в простоте” (О граде Божьем (De civit. Dei) 12, 18).
Ватиканский собор очень ясно определяет достоверное знание о Боге, приобретаемое через естественный разум (Acta,col. 255, Denzinger, n. 1653). Школа святого Фомы не признает в душе способности, отдельной от ума, который по своей сути един. Напротив, для греков νου ς, алтарь троичного образа и “око понимания”, есть познание через харизматическую по своей сути интуицию. Если ratio познает в отраженном свете, то μέγα νου ς вдохновляется непосредственно от Духа.
Беседа на Преображение, P.G. 151, 433В.
Его подлинное имя Хамаит. Отличать от Михаила Кавасилы Сакеллария. См.: P.S. Salaville. “Cabasilas le Sacellaire et Nicolas Cabasilas”, in: Echo d’Orient. oct. 1936.
От “эпиклеза”, призывание Святого Духа.
См. Y. Congar, “Neuf cents ans après”, in: L’Eglise et les Eglises. Ed. de Chevetogne, v. 1, p. 17.
См. В. Chabot, Synodicon Orientate, Paris 1902, p. 294; W. de Vries, “La conception de l’Eglise chez les syriens séparés de Rome”, in L’Orient syrien, 1958.
“Cathedra Petri”, in: Etudes d’histoire anciennes de l'Eglise (Unam Sanctam), Paris 1938. p. 75.
О причинах разделения Церквей, P.G. 146, 685. См. Palmieri, Theol. dogm. orth. II, p. 83.
За согласие с решениями этого еретического собора император Михаил Палеолог был немедленно отлучен. Если правители и получали (может быть, даже слишком легко) прощение за свои нравственные прегрешения, то за преступление против веры, напротив, никакого прощения никогда не давалось.
Руководство по византийскому праву, опубликованное между 879 и 886 гг. при Василии I и предназначенное для подготовки труда по обзору законодательства – “Василики”. Опубликовано Захариасом Лилиенталем: Collectio librorum juris graeco-romani in editorum, Leipzig, 1852.
Идея Третьего православного Рима появляется на свет в Твери в 1453 г. Образованнейший мыслитель Фома формулирует ее и обращается с ней в послании к великому князю Тверскому Борису. В 1461 г. она появляется в похвальном слове великому князю Московскому Василию. Филофей, монах Спасо-Елеазарова монастыря под Псковом, основывает принцип абсолютизма на идее Рима и обращается к царю Ивану IV со своими размышлениями в форме послания, ставшего знаменитым. См. В. Малинин, Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания, Киев, 1901.
I. Smolitsch, Leben und Lehre der Starzen, Vienne 1936.
J. Cologrivov, Essai sur la sainteté en Russie, Ed. Bayært, Bruges 1953; E. Behr-Sigel, Prière et sainteté dans l’Eglise russe, Paris; G. Fedotov, Treasury of Russian Spirituality, Shead and Ward, Londres, 1950.
В современной Румынии ученик старцев знаменитой Оптиной пустыни возобновил традицию Иисусовой молитвы, которая восходит в этой стране к Паисию Величковскому.
Histoire de la Philosophie par E. Brehier. Deuxième fascicule supplémentairë La philosophie byzantine. Presses Universitaires de France, 1949.
“На дороге догматов”, в: Путь, № 37, 1933.
Чтения о Богочеловечестве, 1881; английский перевод: Lectures on Godmanhood, New-York, 1944.
Столп и утверждение истины, 1913. Существует немецкий перевод в: Oestliches Christentum, Documente herausgegeben von N. u. Boubnoff und Hans Ehrenberg, Munich 1925; Значение идеализма, 1915.
Христианская мысль выявляет категорию “омоусианскую” (“единосущную”), основу личности. Ее противоположностью является “омиусианская” (“подобосущная”) философия вещей и безжизненной неподвижности.
Кризис западной философии, 1874; Философские основы цельного знания, 1977; Критика отвлеченных начал, 1880.
См. P. Evdokimov, L’aspect apophatique de l'argument de saint Anselme, Journées anselmiennes de l’abbaye du Bec-Hellouin 1959. Spicilegium Beccense, p. 233.
См. С. Франк, Познание бытия, Aubier 1937; Непостижимое, Париж, 1939. Б. Вышеславцев, Этика преображенного Эроса, Париж: ИМКА-Пресс, 1932.
Дух и свобода, Париж: Je Sers, 1933. О назначении человека, Je Sers, 1935. Пять размышлений о существовании, Aubier, 1936
“Философические письма”, в: Телескоп, 1829; Литературное наследие, 22–24.
Три разговора, 1900; французский перевод: ed. Plon-Nourrit, 1916.
Авторская исповедь; Избранные места из переписки с друзьями.
Православие и современность.
Его критика Канта и Гегеля сближает его с Кьеркегором.
Философия общего дела, Харбин, 1928 (переиздание).
Философия имени, ИМКА-Пресс, 1953.
Святой Григорий Нисский, Толкование на Песнь Песней, P.G. 44, 852 А-В.
А. Карташев. Воссоздание Святой Руси. Париж 1956, с. 88.
“Le Fils et les fils, le Frère et les frères”, in: Paulus-Hellas-Oicumene, Афины, 1951; “Учение о Божественной любви”, в: Православная мысль, Париж, 1947; “The Family of God”, in: Ecumenical Review, vol. IX, 1957.
За свой дом (лат.).
Часть первая. Антропология
Глава I. ВОСТОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СВЯТООТЕЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
Политические события конца V в. разделяют Запад и Восток. Римская империя пошатнулась, в то время как на Востоке начали укрепляться великие культурные центры – Александрия, Антиохия, Константинополь, Селевкия-Ктесифон. Начиная с V в. Рим и Византия поневоле оказываются перед различными проблемами, между местными традициями разверзается пропасть, богословская мысль оказывается в разных социальных и интеллектуальных климатах. Запад глубоко проникается идеями блаженного Августина (которые никогда не были хорошо известны на Востоке) и несмотря на деятельность Скота Эриугены, знакомство с восточными отцами ослабевает, вплоть до появления в XII в. первого перевода трудов святого Иоанна Дамаскина.Однако, говоря “восточная традиция” или “западная традиция”, мы чувствуем всю формальную неточность и недостаточность этого термина, который сегодня гораздо шире чисто географических представлений. Византийские, сирийские, новогреческие, румынские или славянские традиции не имеют четко очерченных контуров (несторианская, коптская, яковитская, армянская, грузинская литература плохо изучена или мало известна и в наши дни).
Однако можно говорить о “доминантах”, которые формируются и укрепляются в ходе тысячелетий, можно говорить о чувстве и даже об инстинкте восточного православия, несмотря на сосуществование в недрах одной и той же общности различных ярко выраженных типов.
1. Святоотеческое богословие
Душа, обращенная к себе самой, может, самое большее, догадаться о своем происхождении и осознать свое тварное состояние. Она может достичь естественного знания славы Бога и даже представить себе “абсолютное существо”. Но здесь проходит непреодолимая граница, т. к., по словам апостола Павла (1Кор.1и Гал.1:9), познание Бога (“Абсолютной ценности” и Отца) есть бескорыстный акт Его откровения. Именно божественная инициатива, знание человека Богом рождает имя Божие в человеческом ответе: “Ты, Кого возлюбила душа моя”. Это откровение восходит к божественному человеколюбию, Его предвечному решению о воплощении, обусловленному Его местом – человеком, сотворенным по образу Божьему. Это включает в себя безвозмездный дар веры и врожденную благодать созерцательной восприимчивости. “Человек несет в себе определенную меру познания Бога”.
Созерцание, “theoria”, происходит от θεωρει ν, что означает рассмотрение с некоторой точки зрения. От простого восприятия оно может возвыситься до интеллектуального видения и, далее, достичь сверхинтеллектуального видения. Множественные точки зрения воспринимают множественное, око души видит единую реальность, божественную Единицу. Никогда не бывая абстрактным, видение, завершаясь в любви, предстает как “теогнозис” (Богопознание), харизматический союз и соучастие. Действительно, аскетический катарсис очищает восприятие мира от видимости, но видение Бога в Его творениях преподает лишь знание о Его могуществе. И только внутри энстасиса (вхождения внутрь) и в божественном вселении находит душа необходимые условия для выхода за пределы всякого чисто интеллектуального знания, “богословия символов”, и для постижения Бога, который предлагает себя в своей благодати; это очень конкретный опыт прямого непонятийного познания, “духовного чувства” божественной близости, присутствия Бога в душе.
Восток различает, с одной стороны, “ум”, направленный на соединение противоположностей и приводящий к “единству и тождественности через благодать”, и, с другой стороны, “разум”, дискурсивное мышление, основанное на логическом принципе противоречия и формального тождества и обращенное ко множественному, следовательно, “удаленному от Бога”. Итак, “ум обитает в сердце, мысль – в голове”. Это объясняет то, почему православная вера никогда не определяется в терминах интеллектуального согласия, но исходит из пережитого опыта “восприятия трансцендентного”: “Господи, яже во многия грехи впавшая жена, Твое ощутившая Божество...” Надо подчеркнуть экзистенциальный аспект веры, осуществляющий присущее ей совпадение любви и знания, нераздельно единое в сердце-разуме, что превосходит интеллектуализм и сентиментализм, и соответствует весьма сильному евангельскому термину метаноя (покаяние), перевороту во всей организации человеческого бытия. Преподобный Симеон Новый Богослов доходит до того, что отрицает присутствие Святого Духа в том, кто не осознал Его и кто удовольствовался крещением, думая что облекся во Христа. Диадох употребляет термин “восприятие”, αἴσθησις, Макарий говорит о “духовном восприятии”, харизме осознания Божественного присутствия. Этот термин не имеет ничего общего ни с сенсуализмом, ни с психическим эмоционализмом, но подчеркивает всю конкретную реальность пережитого духом. Речь идет о восприимчивости noûs (ума), имеющей ноэтический (умопостигаемый) характер, связанный с мистическим опытом. Это осознание присутствия Бога в душе святого Григорий Нисский называет также “чувством Пришествия”, αἴσθησις παρουσίας, и, следуя Оригену, говорит о “чувстве Бога” и “ощущении Бога” (“существует некое осязание души, которым она касается Слова”. Святой Максим называет его “высшим восприятием” и говорит: “Я называю опытом собственно познание в акте, который происходит вне всякого понятия <...> участие в объекте, который открывает себя за пределами всякого мышления”. Подобное участие, осуществленное с помощью созерцания, святой Григорий называет θεολογία или θεογνωσία (Богословие, Богопознание).
Богословие включает в себя доктринальный элемент, объективное учение Церкви, ее катехизис, но в своих глубинах, в своих собственно живительных соках оно внимает своим святым, питается их духоносным опытом Слова. Так, как это показывает заглавие одного из трудов Дионисия псевдо-Ареопагита: Περί μυστικη ς θεολογίας (О мистическом богословии, имеется в виду богословие тайны, которое познается лишь через откровение и соучастие). Оно воспринимает слова Бога внутри “фаний”, проявлений Бога. Божественная трансцендентность учит нас, что нельзя идти к Богу иначе, чем отправляясь от Него и находясь уже в Нем.
Все догматические сражения за истину во времена Вселенских соборов велись не за какое-то чисто теоретическое знание, а имели своей конечной целью уточнить единственный путь спасения и через это выявить в высшей степени правильный и практический путь союза с Богом. В отличие от всякого гностического любопытства, они отвечали на вопросы жизни и смерти для человека. И поэтому для того, чтобы уберечься от какого-либо сектантского размывания или еретического уклонения, мистический опыт отцов всегда догматически ориентировался и сообразовывался с Opus Dei (Делом Божиим). Богословие, таким образом, принимает довольно широкий смысл литургии, “дабы все соединить под главою Христом” (Еф.1:10), в евхаристическое собрание. Теоретические исследования у святых отцов часто без всякого разрыва переходят в тексты молитв и беседу с Богом. Святой Исаак Сирин видит в эти мгновения “пламень вещей”. Это, возможно, лучшее определение богословия. Являясь гораздо более искусством, чем систематической наукой, оно открывает скрытую истину небесных и земных вещей и приобщает к участию-согласию с духовным миром Божьим. Будучи живым богопознанием, богословие, хотя и включает в себя учительный элемент катехизиса, представляется в своем конечном стремлении как опытный путь к союзу с Богом.
Для святых отцов богословие есть прежде всего созерцание Пресвятой Троицы: θεωρία τη ς ἁγίας Τριάδος. Однако святоотеческое предание очень решительно отрицает всякое непосредственное видение божественной сущности, которая принципиально непостижима, и утверждает лишь видение божественного света, отраженного прежде всего в зеркале очищенной души; душа “принимает в себя солнечный диск” и погружается, наконец, в ощущение близости Бога.
Именно такое знание через вселение в себя Слова и есть мистическое богословие. Речь идет действительно о божественном “пришествии” в душу, которое может быть воспринято лишь с помощью очей веры, “глаз Голубиных”. Речь идет не о том, чтобы знать что-то о Боге, а о том, чтобы “иметь Бога в себе”. За пределами “символического богословия” начинается постепенное осознание озаряющего присутствия Слова, Его постижение. Евагрий Понтийский, который оказал сильное влияние на всю духовность, заявляет: “Тот, кто не видел Бога, не может говорить о Нем”. Но сразу же уточняет, чтобы избежать всякого превратного понимания: “Желая узреть лик Отца, сущего на небесах, ни за какие блага мира не пытайся воспринять форму или образ во время молитвы”. Правильное созерцание приобщает к внутреннему видению души в качестве “местопребывания Бога”; “Кто погружен в молитву, тот облечен в свет, не имеющий формы, он есть Божие жилище”. Мы видим тесную связь между теорией и praxis: “Спеши преобразовать твой образ по подобию Прообраза”. Богословие соединяется с евхаристической реальностью: “Чем Существо, Которому причащаются (μετεχόμενον) является по Своей природе, в то Оно неизбежно превращает и причащающееся существо” (τό μετέχον), “через единство с Бессмертным человек участвует в бессмертии”.
Высшее богословие становится той точкой, где сходятся аскетический катарсис очищения, созерцание света, отраженного в душе, и молитва-союз, что позволяет святому Григорию Нисскому и Евагрию дать определение богословия, которое объясняет значение слова “мистический”: “Если ты богослов, ты будешь истинно молиться, и если ты молишься, ты – богослов”. Богослов – это тот, кто умеет молиться, литургический труд придает человеческому духу свой порядок – непрестанное приобщение Богу. В таком случае богословие становится описанием озаряющего присутствия Слова в богословских терминах. Это не размышление над мистическими текстами, но сам мистический путь, порождающий единение. Он предполагает возврат к обнаженности духа, снятие с него покровов вплоть до его до-понятийного состояния чистой восприимчивости, свойственной Адаму: “Созерцание было привилегией Адама в раю”. Следовательно, он связан с “даром молитвы”.
Богословие возводится, таким образом, в ранг харизматического служения, т. к. “никто не может знать Бога, если сам Бог не вразумляет его”, и “нет иного способа познать Бога, как только жить в Нем...” “Говорить о Боге – это великая вещь”, – иронизирует святой Григорий Богослов и, оправдывая свое имя, добавляет: “но еще лучше – очищаться для Бога”.
Православие – это не религия Слова в смысле Реформации, оно не выражается в представлениях диалектики, которая, даже будучи “парадоксальной”, не делается от этого менее рациональной. Читая Священное Писание, Восток стремится выйти за его пределы, стремясь к Тому, Кто его дал: “До начала любого чтения молись и проси Бога, чтобы Он открылся тебе”, – учит святой Ефрем. Это диалог человеческого духа и Духа Божия, творящий единство в состоянии “обожения”: “Бог соединяется лишь с богами”, – говорит святой Симеон. Ориген призывал своих учеников по богословию к молитве, чтобы получить “лобзания Слова”. Богослов, по словам святого Макария, это “наставляемый Богом” – θεοδίδακτος – и именно Святой Дух, по словам преподобного Симеона, из ученого творит богослова, т. к. речь идет не о том, чтобы научиться в интеллектуальном смысле знанию о Боге, а о том, чтобы исполниться Богом: “Для того, чтобы принять Его в себя, мы должны стать тем, чем является Он”.
Отцы прекрасно знали культуру своего времени; они использовали весь технический аппарат мышления, но отнюдь не останавливались на богословии понятий и стремились к “науке, которая становится любовью”.
В противоположность пассивному квиетизму, благодать подразумевает praxis, она есть σύμπραξις (содействие), и хотя добродетели даны опять-таки Богом, человек призван предложить со своей стороны “капли пота от каждой из своих добродетелей”. Святой Симеон отрицает оправдание через таинство для того, кто удовольствовался его формальной стороной. Слово “добродетель” у святых отцов богаче, чем его обычный смысл в моральном учении. Оно означает скорее “достоинство” или “святость”: “Человек делается подобным Богу через добродетель”. Для святого Василия “истинное богословие освобождает от страстей”, а Никита Стифат учит активному, действенному знанию, проявляющемуся в действиях. “Богословие без действия есть богословие демонов”, – отмечает святой Максим. Именно динамичности веры отвечает “духовный дар Святого Духа, который открывает смысл богословия”. Богопознание духоносно и предполагает эпиклезу просвещения, действующую на аскетически очищенную душу. В конечном счете, именно Святой Дух является подлинным субъектом богословского знания, именно Он являет и открывает Слово. Он является и объектом, т. к. Он “от Моего возьмет и возвестит вам” (Ин.13:15). Откровение исключительно едино: беря свое начало в Отце и действуя в Сыне, оно завершается в Духе. И Иисус говорит о Своем явлении, как о соединении: “Мы придем и обитель сотворим” (Ин.13:23), поэтому “Бог называет блаженством не какое-то знание о Нем, а Свое пребывание в человеке”: “Благодарю Тебя, Боже Вседержителю, за то, что Ты стал единым духом со мной, неслиянно и нераздельно”. Богочеловеческий принцип учит, что человек является субъектом, личностью лишь тогда, когда он является членом Тела; его сознание обладает соборной и синергической структурой.
Богословы не оказываются в ситуации “невозможности” святости, но аскетический катарсис требуется от всех, так же, как и трепет перед харизматическим служением, чтобы прикоснуться к “святыне” Бога и преодолеть самодовольство (авторитмию) чисто энциклопедической науки: “Кто обращает свои взоры к богословию, у того жизнь находится в совершенной гармонии с его верой”. Православие проявило большую строгость при присуждении звания Богослова по преимуществу. Лишь трое обладают им как признаком святости: святой Иоанн Богослов, наиболее мистический из четырех евангелистов, святой Григорий Богослов, “певец Пресвятой Троицы”, и преподобный Симеон Новый Богослов, автор гимнов, воспевающих соединение. Этот выбор ясно показывает, что богословие не есть дело разума, но, как учит апостол Павел, дело “ума Христова” (1Кор.1:16); будучи практическим в самой высшей степени, освобожденным от всяких безосновательных рассуждений, оно имеет своей целью союз, творящий обожение, теосис, и действует посредством познания-причастия, участия; т. к. “то, в чем участвуют, преобразует в себя то, что участвует”. И приобщая к богословию, отцы рассматривают аскезу как предварительное условие богословского искусства, а молитву как состояние (κατάστασις) ума.
2. Богословский метод святых отцов
Обращенное к Богу, восточное богословие представляет собой прежде всего апофатическое богопознание, отрицание всякого человеческого, антропоморфного определения; метод осознания мрака, граничащего с неприступным божественным светом. Аксиома апофазы гласит: о Боге мы знаем только то, что Он éсть – ὅτι ἐστίν, а не то, что́ Он есть — τί ἐστιν. Запад к концу XIII в., под влиянием августинианской традиции и ее стремления к непосредственному видению, разработал четкое богословие блаженного видения и познания Бога лицом к лицу. Для Востока, столь чувствительного к непостижимости божественной тайны, “Бога не видел никто никогда”, Сын же дал Его познать “лицом к лицу”, но только как воплощенного Сына, таинственный отпечаток Отца. Невозможно видение сущности Отца, совершенно трансцендентной, но возможно самое реальное участие в нетварных энергиях. Следовательно, нет никакой возможности блаженного непосредственного видения. Святой Иоанн Златоуст отрицает возможность видения божественной сущности даже для святых на небесах. На Флорентийском соборе Марк Эфесский отрицает эту возможность даже для ангелов. Для святого Исаака Сирина видение Бога совсем не подавляет веру, но делает ее высшей, “второй верой”: видением Невидимого, который, однако, не делается менее невидимым. Сущность Бога выше всякого имени, всякого слова, и поэтому имеется множество имен: Благой, Праведный, Всемогущий. И, кроме того, когда мы говорим “Бесконечный и Нерожденный”, мы выражаем этой отрицательной формой нашу немощь и прикасаемся к апофазе. Бог в абсолютном смысле не может ни с кем и ни с чем сравниваться. Он является таковым уже из-за совершенного отсутствия какой-либо меры для сравнения. Говоря “Бог” или “Творец”, мы описываем лишь Его лик, обращенный к миру, лик Бога в домостроительстве, в Его промысле, но никогда – Бога в Самом Себе. Таким образом, катафатическое, положительное, богословие, или “символическое богословие”, приложимо только к Его явленным атрибутам, к проявлениям Бога в мире. Такое познание Бога в Его действиях возможно только благодаря откровению и сразу исключает всякое “рассуждение”, всякий метод логической дедукции в приложении к Его невыразимому существу. Его истолкование с помощью понятий дает только зашифрованное выражение, является “методом изобретений”, т. к. реальность, о которой он свидетельствует, абсолютно уникальна и несводима ни к какой системе мышления. В противоположность этому “логический Бог”, в котором логический принцип возводился бы в атрибут, был бы только выдуманным идолом. Круг молчания очерчен вокруг бездны Бога.
Катафатический метод осуществляется через утверждение, но определяя Бога, давая Ему имена, он ограничивает Его и делает свое собственное учение неполным; с его помощью мы видим “как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, отчасти” (1Кор.13:12). Нужно его дополнить апофатическим методом, который осуществляется через отрицания или противопоставления всему тому, что от мира сего. Положительное богословие ничуть не обесценивается, а точно очерчивается в своем собственном измерении и в своих границах. Отрицательное же богословие привыкло к непреодолимому спасительному расстоянию: “Понятия создают идолов Бога”, – говорит святой Григорий Нисский, – “и только удивление постигает нечто”. Однако, если это верно, тогда удивление характерно для правильного отношения, которое направлено за пределы любого знания, “за пределы даже незнания, к самой высокой вершине мистических Писаний, где открываются простые, абсолютные и нетленные тайны богословия в сверхсветлом мраке молчания”. В противоположность этому, чувственное и рациональное притупляет скрытый смысл и приводит к ошибочной оценке. Это совсем не является агностицизмом, т. к. “благодаря именно этому незнанию познается то, что находится за пределами всякого ума”. Речь идет не о человеческой немощи, но о бездонной и непостижимой глубине божественной сущности.
Тьма, присущая вере, охраняет тайну близости Бога – тайну, потому что, как это ни парадоксально, чем более Бог присутствует, тем более Он скрыт и покрыт мраком. “Пресветлый мрак” является только образом выражения самой реальной и, вместе с тем, самой непостижимой близости, и кроме того, человек может иметь только опыт “зги ночной”. Поэтому вера, в полном смысле этого слова, представляется святому Григорию Нисскому как единственный путь соединения, т. к. оно предполагает состояние души, отвергшей саму себя в состоянии полного отречения. Итак, видно, что мистика мрака и мистика света совпадают и находят свое высшее выражение в высшем разуме, который отрекается от себя, и в любви, которая не знает своего. В отличие от любого философского способа познания, здесь имеется в виду “познание в соответствии с сообразностью” или познание через аналогию-участие. Оно не сводится к простой поправке, призыву к осторожности, но образует независимое богословие со своим собственным методом.
Это не чистое и простое отречение гнозиса, но именно познание, которое существует только в той мере, в которой оно превосходит свои пределы для того, чтобы сберечь свою душу, теряя ее. Апофатическое богословие возвышает человеческий ум и собирает его воедино, делая из него “место Бога”. Он может еще более открыться только на нетварный ответ, исходящий от Бога. Таким образом, выражения “сверхблагой” и “сверхсущий” являются отрицаниями-утверждениями, которые дают нам некоторое положительное описание непостижимого. И оно находится в той точке, где ум окунается в опыт, порождающий единство.
Литургическая молитва “Безсмертныя трапезы на горнем месте высокими умы, вернии, приидите насладимся” призывает возвысить ум до состояния близости Бога через участие в высшем устроении. “Горнее место” означает и это устроение и в тоже время относится к тайне единения в евхаристии. Речь идет вовсе не о том, чтобы приспособить догматические антиномии к нашей логике, а о том, чтобы изменить наше существо, приспособив его к устроению Святого Духа (обожению). Сам Бог находит человека, который ищет Его, и, при стремлении к Его истине, именно она овладевает человеком и переносит его на эонический уровень Царствия. “Найти Бога-это значит неустанно искать Его... и воистину видеть Бога означает никогда не насытиться желанием достичь Его”. Таким образом, апофаза как метод властно учит правильному отношению со стороны любого богослова, и наличие такого отношения необходимо для ее науки: человек не размышляет, а меняется.
Душа познает Бога в своей собственной немощи, в акте самоотречения, когда она больше не принадлежит себе. Жертвоприношение и безусловное самоумаление задает структуру созерцательной восприимчивости через смирение, ставшее действием. Чистая и обнаженная душа стоит на божественной страже, готовая к приходу-пришествию Бога, готовая жить в близости к Нему. Истинный богослов выходит за границы множественных точек зрения и видит глазами Голубиными; оком Святого Духа он созерцает божественную Единицу, которая “остается скрытой в Своем собственном явлении”.
Глава II. АНТРОПОЛОГИЯ
1. ВведениеОтцы Церкви никогда не занимались построением исчерпывающей антропологической системы. Однако их богословие, уточняя истины, касающиеся Бога, постоянно говорит о человеке, согласно принципу соответствия “образу”. Только святой Григорий Нисский написал труд “Об устроении человека”. У других отцов мы находим лишь отрывки или утверждения, антропологические по характеру и по существу.
Наряду с богословием существует “глас пустыни”, опытная наука аскетов, особым образом чувствительная к безднам порока; это практическая, прикладная антропология, которая непосредственно учит нас “невидимой брани” за человека. Наконец, святой Максим Исповедник, преподобный Симеон Новый Богослов и многие другие, одаренные харизмой “поэтической” проницательности, приносят плоды своих великих обобщений мистического созерцания.
Святой Фотий, патриарх Константинопольский (†891), хорошо передает само вдохновение святоотеческой традиции, говоря, что именно “в самом своем строении человек оказывается перед загадкой богословия”. Так как человек сотворен по образу Бога, Единого и Троичного, то он сам выступает в качестве живого богословия, совершенного “богословского места”.
“Образ” в качестве способа познания предлагает два возможных метода: восходящий и нисходящий. Когда блаженный Августин исследует человеческую душу и от образа, который в ней запечатлен, восходит к познанию Бога, воссоздает Бога с помощью того, что находит в человеческом отражении, то тогда он создает, с методологической точки зрения, антропологию Бога. Святой Григорий Нисский, опираясь на принцип соответствия, исходит от Бога как от прототипа чтобы понять тип и определить сущность человека как образ Сущего. С помощью Божественного он “воссоздает структуру” человека. Таким образом, восточные отцы создают богословие человека. С другой стороны, антропология зависит от момента, с которого полагается ее начало. Можно рассматривать человека, начиная с его грехопадения, и изучать его судьбу только в рамках земной истории. В этом случае чтение Библии начнется с третьей главы книги Бытия и закончится на рассказе о последнем суде.
Блаженный Августин, автор учения о первородном грехе, сделал в своем пессимистическом тезисе о massa damnata (осужденной массе) чрезвычайно сильное ударение на коренной испорченности человеческой природы. Подобное представление с трагической заостренностью приводит логически к своему следствию – учению о предопределении. И если пастырские заботы остановили епископа Гиппонского, и он испугался сделать страшные выводы, то позднее, уже в эпоху Реформации, другие люди с отчаянной отвагой дошли до логически неизбежного завершения этого учения – представления о двойном предопределении. Оно означает, что Христос в Своем милосердии пролил Свою Кровь лишь за избранных и что Бог поместил сам акт творения мира в условия начального разделения, что Он начал с места для проклятых, с ада, и что Он создал категорию человеческих существ, чтобы его населить: так Он являет Свое правосудие.
Можно восхититься мудрой осторожностью православия, которое никогда не стремилось формулировать догмат о последней участи. Эта тайна, к счастью, остается несказанной, и всякие рассуждения о времени и вечности, уже будучи шаткими сами по себе, останавливаются перед выражением из Священного Писания: αἰω νας τω ν αἰώνων – “века веков”; в нем настолько отсутствует доктринальная точность, что оно означает не более, чем некоторую меру, промежуток времени. С другой стороны, понятие о вечном сосуществовании ада и рая переводит в вечность дуализм добра и зла: если он и не был всегда, то он существует навсегда.
Если грех есть извращение, то всякая антропология, исходящая из демонического элемента человеческой природы, оказывается расположенной между имманентными ей пределами: в начале – ангел с огненным мечом, заграждающий доступ в рай, а в конце – страшный суд с огненным озером. Рай и Царство Божье оказываются на разрыве онтологических уровней, принципиально трансцендентных здешней судьбе. При отсутствии достаточно углубленного учения об образе Божием, являющимся фундаментальным для антропологии, возникает представление о том, что божественный произвол в форме воплощения и с помощью благодати (gratia irresistibilis – непреодолимая благодать) принуждает человека и присоединяется к нему, происходя от того, что ему трансцендентно, от того, что для него чуждо, и является для него внешним (gratia forensis – внешняя благодать).
На Востоке совершенно явным образом именно божественный элемент человеческой природы, imago Dei (образ Божий), полагается в основание антропологии. Он связан с состоянием, предшествующим первородному греху. Действительно, у отцов всегда первоначальная участь, райское состояние определяет человеческое существо; даже после грехопадения оно давит всем своим весом на его земную судьбу. Эсхатология, в качестве экзистенциального измерения времени, присуща истории; она позволяет понять мистику начальных и последних вещей и, следовательно, предполагает некоторую имманентность рая и Царствия Божия. “Рай вновь стал доступен человеку”, – говорит святой Григорий Нисский. Врожденной ностальгии по бессмертию и раю, потерянным, но всегда демонстрирующим истинную природу и поэтому являющимся источником всевозможной тоски, соответствует вполне реальное присутствие Царства Божия. Литургическое время есть уже вечность, а литургически ориентированное пространство есть уже Восток Царствия Божия. Вечность – ни до, ни после времени: она раскрывает его подлинное измерение.
Последний Суд предстает еще во времени: обращенный к истории, он рассматривает прошлое. Итак, антропология эсхатологически раскрывается в своем истинном конце – sacramentum futuri (таинстве будущего века), включении всей совокупности земного домостроительства в Царствие Небесное. Святость новой твари переходит за разрывы исторического времени, стремясь к наступлению условий Царствия Божия уже в земной жизни. Величание Пресвятой Девы “Раем”, “Вратами Царствия Божия” и “Небом” в богослужебных текстах отнюдь не является свидетельством восторженности. Это вовсе не лирика; литургический реализм в этих именах задает осью истории совершенно конкретную реальность новой твари и новой участи во Христе, выраженную этими словами. “Христианская душа – это возвращение в рай”, по словам отцов; история есть “трепет души человечества перед вратами Царствия”.
Бесконечно тонкая разница между богословскими концепциями коренится в познании Бога, в природе Его отношений с человеком. Само воплощение может получить детерминистский оттенок решения, которое определяло бы все от альфы до омеги. Христос спасет, потому что Он предопределен к Своей миссии Спасителя, как Иуда к своей роли предателя. Благодать спасения будет действовать на человека, несмотря на него и, при необходимости, вопреки ему. Это спасение одной лишь благодатью, когда felix culpa (счастливая вина) является felix (счастливой), поскольку она неизбежно влечет за собой искупление и его орудие – “организованную благодать” Церкви.
Итак, роль человека, его участие в деле своего спасения всегда будут сохранять свою антиномическую, парадоксальную сторону. С одной стороны, “если бы Бог смотрел на заслуги, то никто не вошел бы в Царствие Божие”. С другой стороны, “Бог может все, кроме одного – заставить человека любить Себя”. Точно так же в акте смирения аскет субъективно уничтожает себя, и для самого себя он есть лишь ничто; но объективно для Бога, для мира и для ангелов он есть новая тварь, высшая человеческая ценность; всякая попытка рационализировать эту тайну и определить количество элементов разрушает ее и мгновенно извращает все. “Считать пристойно лишь наемникам”, – говорит святой Иоанн Златоуст. На тайну очень хорошо указывает догмат о согласии двух воль во Христе. Он утверждает полноту человеческой воли во Христе, которая “неизменна” именно потому, что она потенциально изменяема, но свободно следует и сообразуется с “неизменностью” божественной воли. Кажущийся детерминизм этой “неизменности” во внутренней диалектике любви есть самое парадоксальное выражение свободы. Ибо свобода также обладает своей собственной, но единственной внутренней необходимостью – необходимостью реализоваться в качестве свободы. Чем больше любовь освобождается от всякого определяющего принципа, или “заинтересованности”, тем больше она оказывается внутренне обусловленной своим собственным духом самоотречения и жертвенности. Но то, что вдохновлено (in-spirare) лишь полной отдачей самого себя другому, не принадлежит более детерминизму, являясь даже разрушением всякой формы эгоцентрической или собственнической ограниченности, т. к. жертва есть сама формула свободы, в которой находит свое высшее выражение любовь.
“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Ин.1:32). Вначале, в момент встречи с истиной, ее можно узнать только свободно, т. к. всякое насильственное добро превращается во зло; но, в свою очередь, истина придает положительное содержание каждой форме свободы, наполняет ее (Еф.1:24), направляет и тем самым реально освобождает. Свобода, еще отрицательная или пустая, свобода от, переходит в положительную свободу для. Свобода есть форма истины, ее как, а истина есть содержание свободы, ее что. Если мы говорим, что содержание свободы есть безразличие выбора, произвол, liberum arbitrium, она оказывается лишенной содержания, т. к. в этом случае содержание совпадает и отождествляется с ее формой: свободной свободой, или чистым произволом. С другой стороны, положительное содержание, истина, может быть лишь призывом, приглашением к своему “пиру ценностей”, приглашением, которое подразумевает возможный отказ. Вот почему слово tsedeqa (справедливость и, следовательно, оправдание) не несет в Библии юридического смысла: оно характеризует сущность нашего отношения к Богу, взаимного милосердия. Вера есть то глубокое и тайное да, которое произносит человек источнику своего бытия; и тогда “человек оправдывается верою” (Рим.1:28). В акте веры человек выявляется для самого себя, помещается свободно, решительно и целиком в предмете своей веры: религиозная истина, ее правда удостоверяет его, оправдывает его. Но как только мы покидаем вершины апофазы, разум набрасывает искажающую сеть своих собственных измерений и заточает тайну. Уже приставка пред- в словах предвидение, предназначение “заключает” мудрость Божию в категории времени и сводит воплощение единственно к одной лишь сотериологии (учению о спасении). Когда на помощь приходит причинность и слишком сильно делается ударение на felix culpa в качестве инструментальной причины, тогда можно понять сомнения реформаторов (супралапсизм): признавать ли свободу в Адаме даже до грехопадения? В этом случае не является ли Адам вселенским архетипом Иуды, механизмом, который неотвратимо включается и ускоряет действия Бога? Удавшаяся свобода представлялась бы тогда беднее по своим последствиям, чем свобода, потерпевшая неудачу, т. к. без culpa (вины) нет и воплощения. Таким образом, воплощение представляется сведенным к всего лишь техническому способу спасения.
На Востоке столь характерное свидетельство святого Исаака Сирина (VII в.) передает нам не просто концепцию, но опыт великого аскета, слова которого дышат суровостью пустыни и, главное, сохраняют живыми следы того “пламени вещей”, великим провидцем которого он был. В земном служении Христа он видит Его бесконечное сострадание к людям. И любовь Человеколюбца бесконечно превосходит для него сотериологический аспект и достигает столь потрясающей полноты воплощения, что оно имело бы место даже без грехопадения.
Глубинная причина воплощения исходит не от человека, а от Бога: она коренится в Его предвечном и несказанном желании стать человеком и сотворить из Своего человечества Богоявление, Свое местопребывание. По словам Мефодия Олимпийского, “Слово сошло в Адама прежде веков”, и святой Афанасий порывает с “домостроительной” христологией (Филон, апологеты, Ориген), утверждая: то, что Слово стало плотью, обусловлено не миром, а только Богом.
Великие обобщения святого Максима Исповедника подчеркивают эту точку зрения и продолжают линию святого Иринея и святого Афанасия: “Бог сотворил мир, чтобы стать в нем человеком и чтобы человек в нем стал богом по благодати и участвовал в условиях божественного существования... В Своем совете Бог решает соединиться с человеческим существом, чтобы совершить его обожение”, – то, что несоизмеримо по своему значению с одним прощением и спасением.
Понимание творения возможно лишь через Богочеловека: мир задуман и сотворен во всей грандиозной реальности воплощения. Взирая на человека поверх его возможного отклонения в грехопадении, Бог лепил человеческий лик, созерцая в Своей премудрости небесное и вечное человечество Христа.
Если бы воплощение определялось грехопадением, тогда бы Сатана, зло обуславливали его. Отец Сергий Булгаков обращает внимание на формулировку Никейского символа веры: Христос сходит с небес и воплощается “нас ради человек и нашего ради спасения”. Уплотненность слов текста Символа веры исключает всякую мысль о повторении без причины. “Нашего ради спасения” означает искупление, а “нас ради человек” – обожение, при этом и одно, и другое являются следствиями воплощения. Богословие Святого Духа, славы, святости обязывает выйти за пределы отрицательного аспекта одного лишь очищения от “существования в сатане”, чтобы сосредоточиться на положительной и неисчерпаемо творческой стороне “жизни во Христе”. “Царственное священство”, следуя за нашим Предтечей, Христом, отныне проникает за завесу, в святилище Троицы, чтобы участвовать в литургическом служении вечного Первосвященника (Евр.1:19–20). В евхаристии небесная реальность Христа становится нашей реальностью. “Остальное да будет почтено молчанием”, – говорит святой Григорий Назианзин и ставит нас перед очевидностью, которая не подчиняется никакому анализу, “т. к. дух толпы не способен постичь глубину слов... нельзя раскрывать неблагоразумным суждения о бездне милосердия”. Воплощение стремится “все небесное и земное соединить под главою Христом” (Еф.1:10), ввиду премудрости Божией, “тайной, сокровенной”, “которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей” (1Кор.1:7).
Домостроительство славы – за пределами как ангельского, так и человеческого выбора, Люцифера или Адама. Воплощение предполагает высшую степень сопричастности. Вочеловечивание Бога уже дано в догмате об обожении, который оно предполагает и источником и дополнением которого является. Грехопадению соответствуют искупление и суд. Сердцевине Воплощения соответствует только Царствие Божие, т. к. оно есть его исполнение. Это позволяет видеть в Церкви организм спасения, его путь и сакраментальные средства и, одновременно, само спасение, наступление Царствия Божия. Напротив, усеченная антропология, в ее крайних направлениях, начинает с первородного греха и приводит к суду с двойным предопределением, который в этом случае не является даже судом, т. к. в случае предрешенности не за что судить. С другой стороны, божественный Архетип, призванный стать главой всего, оказывается отстраненным от одной из своих частей.
Антропология, в ее эоническом измерении, берет свое начало из рая и вливается в полноту Царствия Божия, в тайну конечного апокатастасиса, завершения неба и земли. Таков божественный замысел, связанный с несомненным стремлением к воплощению, с универсализмом его измерения, охватывающим всех. Однако реальный срок его осуществления остается трансцендентной тайной, и его невозможно предугадать, есть лишь открытая надежда. Но открытая надежда может также означать, что апокатастасис зависит не только от Бога, но также и от нашего милосердия, от его чуда...
2. Библейские основы строения человеческого существа
Выражения, которые употребляет Библия, несут на себе отпечаток различных эпох и структур. Соответственно, в ее “техническом” словаре недостает точности, и иногда неизбежно возникает кажущееся смешение книг и даже одного Завета с другим.
Чтобы понять библейскую антропологию, нужно прежде всего полностью отбросить представления классического греческого дуализма о душе и теле, о борьбе двух субстанций: “тело есть могила” души, σω μα — ση μα. Библия помещает конфликт, который каждое человеческое существо носит в себе, в совсем иную перспективу: мысль Творца, Его желания противостоят желаниям твари, святость – греховному состоянию, норма – извращению, свобода – необходимости. Плоть, bâsâr, σάρξ, означает совокупность, или комплекс, – живую плоть. Человек выходит из рук Божиих “душою живой”, он не состоит из души, а есть душа и есть тело, он есть ψυχή, nephesch. Если душа исчезает, остается не тело, а прах мира, “прах, и в прах возвратится”.
То, что сотворено, – “добро зело”; совсем не в самом состоянии твари заключается зло, его источник чужд существу, которое изначально является добрым. И зло исходит не от дольнего, телесного, а от горнего, духовного. Его начало восходит к ангельскому миру и, затем, – к выбору человеческого духа. Только затем зло проникает и закрепляется в “трещинах” существа, разбитого в своей целостности и извращенного в своей иерархической структуре. Эти предпосылки являются существенными для основания библейского персонализма. Множественность человеческих ипостасей не является следствием так называемого духовного падения в материю (гностическая идея), и спасение – вовсе не в освобождении от материи и не в возвращении к “Единому” неоплатонизма. Нормативный порядок природы предполагает “достижение полноты” всех планов и всех составляющих элементов человеческого существа, объединенных в его духе. Именно эта черта целостности приводит к тому, что всякое познание, в библейском смысле, никогда не является независимым упражнением одной лишь способности человеческого духа, но участвует в их совокупности (евреи мыслили сердцем), и поэтому его часто сравнивают с бракосочетанием (взять женщину в жены – это, прежде всего, “познать” ее). Этот брачный термин подчеркивает также исходную взаимозависимость: через познание человека, “сочетаясь браком” с ним, Бог рождает человека к гнозису, и, познавая Бога и только в этом случае, человек познает себя.
Пневма, руах, дух, “божественное дуновение” становится органом приобщения к трансцендентному, что возможно лишь вследствие “приобщения по сущности”, в чем-то таинственном в нас, что позволяет говорить, что “мы Его и род” (Деян.13:28). “Человек, предназначенный к наслаждению божественными благами, должен был принять в самую свою природу родство с тем, в чем он должен был участвовать”; дух расцветает лишь в присущей ему божественной среде: “Созерцать Бога – в этом жизнь души”.
Основание мысли апостола Иоанна – вселение в себя Духа Божия – предполагает существование того, что принимает Его в человеческое существо и, соответственно, того, что Ему подобно, – человеческого духа, пневмы: “Сей Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии” (Рим.1:16). Этому понятию сыновства (божественная сторона) у апостола Павла соответствует у апостола Петра основополагающее утверждение о причастности (человеческая сторона того же действия): “дабы вы соделались причастниками Божеского естества” (2Пет.1:4). Можно, следовательно, утверждать, что пневма ставит на человеке печать его небесного происхождения и содержит в себе начало Царства. Человек “говорит о себе, что он странник и пришелец на земле” (Евр.13:13), стремящийся к небесному граду. Будучи homo viator (путешествующим человеком), он находится в “состоянии перехода” к Пасхе будущего века, более того, он есть эта Пасха (pesah означает “переход”).
Итак, дух является той высшей точкой человеческого существа, через которую человек общается с горним и участвует в нем соответственно своему устроению – “быть образом”. Святой Григорий Нисский выражает это весьма энергично, отрицая автономное в человеке, предваряющее соучастие, существующее “по своему собственному образу”. Будучи по своей сути “переходом”, человек осуществляет свое подобие с божественным или с демоническим, что влечет за собой космические последствия; человек меняет согласно с собой весь материальный план бытия. Таким образом, библейское противопоставление находится на совсем другом уровне глубины, чем простое соотношение между душой и телом; оно находится в “метафизическом”, между земным и небесным, между homo animalis и homo spiritualis, между их автономностью. Оно являет онтологическую бездну между крещеным, верующим и неверующим, и разграничивает два экзистенциальных “эона”.
Для нужд проповеди отцы Церкви должны были сопоставить еврейский гений с греческим, совершить вполне творческое приспособление одного к другому через обновление ума и его категорий, о чем говорит апостол Павел (Рим.13:2; Еф.1:23). Язык Священного Писания (вначале древнееврейский, затем греческий) предполагает уже некое истолкование через сам дух этого языка. Догматическое разъяснение, осуществленное соборами и святоотеческой мыслью, является прежде всего творческим переводом библейских понятий при попытке максимально приблизиться к Слову. Одной филологии никогда не достаточно для передачи всего смысла священных текстов. Нужно было гениальное святоотеческое проникновение в самую плоть библейской материи, определенное освоение и усвоение эпигнозиса (познания), который Хорн очень удачно переводит как “чувство Бога”. Это объясняет колебания в терминологии уже на библейском уровне. У апостола Павла онтологические термины часто получают этический смысл, так, например, человек новый и ветхий, внешний и внутренний, душевный и духовный; noûs сближается и с духом, и с умом, и с сознанием. Дихотомия (тело-душа) сосуществует с трихотомией (тело-душа-дух). Однако можно сказать, что в Библии душа животворит тело, делает его “душою живой”, а дух “одухотворяет” все человеческое существо. Дух как религиозная категория является принципом оценки. Он во всем выделяет и подчеркивает высшее, выражает себя сквозь душевное и материальное и окрашивает их своим присутствием. Будучи слишком широким по своему значению, дух не может служить для обозначения ипостасного центра. Он скорее является одухотворением в самом способе существования, восприимчивостью, открытостью к принятию в себя божественного. Душевное и телесное существуют одно в другом, но каждое управляется своими собственными законами; в то время как духовное ничуть не является третьей сферой, третьим этажом в человеческой структуре, но принципом, который выражается через душевное и телесное и делает их духовными; аскетизм есть именно одухотворение духа Святым Духом, и вслед за этим – одухотворяющее проникновение в весь состав человека, делающее его тело и душу прозрачными для духовного. На противоположном полюсе человек может “угашать Дух” (1Сол.1:19), иметь “плотские мысли” и свести себя к одной плоти, плоти всемирного потопа, материи “саркофагов”.
3. Библейское понятие сердца
Святой Иоанн Дамаскин называет человека микрокосмом, вселенной в миниатюре, т. к. он содержит в себе все ее уровни. Человеческое существо обобщает в себе процесс последовательного творения за пять дней, завершая его своим появлением на шестой, но, кроме того, оно обладает собственным принципом, который делает его уникальным: человек создан по образу Божию, и как таковой он есть микротеос (малый бог). Чтобы описать его как можно лучше, в самой его глубине, нужно ввести библейский термин сердце, leb, καρδία.
Оно никоим образом не совпадает с эмоциональным центром из учебников по психологии. Для евреев человек мыслит сердцем, т. к. оно собирает в себе все способности человеческого духа; и психологи хорошо знают, что разум и интуиция никогда не бывают чужды предварительным и иррациональным предпочтениям и симпатиям сердца.
Человек есть обитаемое существо. Дух истины обитает в нем и вдохновляет его изнутри, из самого источника его существа. Его связь с содержимым его сердца, местом божественного обитания, образует его нравственное сознание, через которое говорит истина. Человек может сделать свое сердце “медлительным”, “чтобы веровать” (Лк.13:25), закрытым, жестоким вплоть до раздвоения под действием сомнения (Иак.1:8) и даже до дьявольского распада на “легион” (Мк.1:9). Если трансцендентный корень отсечен (по прекрасному определению Платона: “дух подвешен своим корнем к бесконечному”), то это безумие в библейском смысле: “Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога"”, и тогда остается лишь скопление “маленьких сердец” с “маленькой вечностью наслаждения” (Кьеркегор). Согласно аскетическому учению, любовь к себе, φιλαυτία, удаляет Бога из сердца, овладевает существом без Бога и, следовательно, против Бога, и тогда чувственное пожирает дух и питает смерть. Этому патологическому состоянию сердца отвечает молитва, обращенная к Пресвятой Деве, олицетворенному целомудрию и цельности: “любовию Твоей душу мою свяжи”; из совокупности психических состояний исторгни душу; именно в этом же смысле апостол Павел просит “простоты сердца” (Кол.1:22), а псалмопевец: “Господи, утверди сердце мое” (Пс.13:11).
Сердце является центром, который озаряет и наполняет всего человека; но оно остается скрытым в своей таинственной глубине. Слова “познай самого себя” обращены прежде всего к этой глубине: “Войди внутрь себя, и там найди Бога, ангелов и Царствие Небесное”, – говорят духовные учителя. Его недра недоступны. Действительно, я обладаю самосознанием; оно мне принадлежит, но не может ни охватить, ни познать мое “я”, “я” трансцендентно своим собственным проявлениям. Сознание ограничено своим собственным измерением, которое оно никогда не сможет преодолеть. Мои чувства, мысли, действия, сознание принадлежат мне, являются “моими”, и именно вследствие этого у меня есть сознание, – но “я” находится за пределами “моего”.
Только мистическая интуиция открывает его, т. к. она исходит От Бога и постигает Его “образ” в человеке; сердце как символ указывает на него. “Сердце человеческое... кто узнает его?” – спрашивает Иеремия и тут же отвечает: “Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности” (Иер.13:9–10). Святой Григорий Нисский хорошо выражает эту тайну: “Наша “духовная” природа существует по образу Творца, она подобна тому, что свыше ее, в непостижимости самого себя она являет печать Неприступного”. Апостол Петр говорит о homo cordis absconditus, ὁ κρυπτὀς τη ς καρδί ας ἄνθρπος – о сокровенном сердца человеке, это должно означать, что именно в скрытой глубине сердца находится человеческое “я”. Deus absconditus (сокровенному Богу) отвечает homo absconditus (человек сокровенный), апофатическому богословию соответствует апофатическая антропология.
“Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”. Человек определен содержимым своего сердца, предметом его любви. Святой Серафим Саровский называл сердце “алтарем Божиим”, местом Его присутствия и органом Его восприятия. Для святого Максима мир есть космический Храм, священником которого является человек, который “приносит себя в жертву Богу в своем сердце и на алтаре” и проникает в великое божественное безмолвие.
Возражая Декарту, поэт Баратынский говорил: ато ergo sum (люблю, следовательно существую); эту мысль хорошо передают слова святого Григория Нисского: “Наш Творец дал нам любовь как выражение нашего человеческого лика”. Сердце имеет иерархическое первенство в структуре человеческого существа, именно в нем переживается жизнь, оно обладает первоначальной притягательной интенциональностью, как стрелка компаса: “Для Себя Ты создал нас, Господи, и лишь в Тебе одном наше сердце обретет мир” (святой Августин). “Бог вложил в человеческое сердце желание обрести Его”, отсюда такие замечательные слова, с которыми святой Григорий Нисский обращается к Богу: “Ты, Кого любит душа моя”.
4. Человеческая личность
Сердце указывает на невыразимую глубину homo absconditus, сокровенного человека, и именно на этом уровне расположен центр личностного излучения – личность. Эта глубина объясняет, почему даже самому смелому философскому персонализму никак не удается дать удовлетворительное определение личности. Оно может исходить лишь из тринитарного догмата как откровения о человеческой природе. Каждая божественная Личность есть живой дар во встрече “лицом к лицу” и во “взаимопроникновении” Трех. Это есть co-esse (событие): Личность существует для общения. Она, по существу, существует через него. Строго говоря, Личность существует только в Боге. Человек тоскует по возможности стать “личностью”, и он ее осуществляет в общении с божественной Личностью.
Ренувье говорил: “Творить, и, творя, творить себя”; но лишь Габриэль Марсель находит верную перспективу: существовать для личности означает самосозидать, преодолевая себя: “его девиз – не sum (быть), a sursum (быть горé)”. Метафизика соприкасается с мистикой, и сам Габриэль Марсель сомневается, существует ли между ними граница, которую можно было бы определить.
Греческая философия хорошо знала понятие индивидуальности, но не знала понятия личности в современном и, особенно, в психологическом смысле. У отцов Церкви мы видим подвижность этого понятия. Оно определяется вначале в тринитарном плане и лишь после Халкидонского собора переходит в христологию и в антропологию. Святые отцы говорят о божественных Лицах, но отказываются от философской манеры формулировать понятия. Их утверждения сверхпонятийны, и, как всякая догматическая формула, они являются зашифрованными знаками божественной трансцендентности. Так, например, три Ипостаси являются не тремя Богами, но тремя началами, тремя сознательными центрами единого существования и единого тринитарного сознания, для которого нужно утверждать одновременно различие и единство, несводимость одного к другому и единосущность.
У отцов-каппадокийцев после Никейского собора термин “ипостась”, или “лицо”, определяется в его различии с усия, природой, или сущностью. Но это различие совсем не имеет отношения к различию между индивидом и видом, между частным и общим. Ипостась определяется через ее отношения: Отец, Сын, Святой Дух; она также есть уникальный для каждой из них образ обладания единой природы и таким образом участия в единой божественной жизни; но она также есть все то, что превосходит в ней эти отношения – Единое в самом себе.
Это понятие ни к чему не сводимой и ни с чем не сравнимой единичности, которое делает из всякого индивида уникальное бытие, приходит к нам от догмата. Оно не поддается никакому рациональному определению и может быть осознано только через интуитивное постижение или мистическое откровение. Премудрость Божия “ограничила каждое существо его собственными пределами, задавая ему его собственный ритм в точном согласии со вселенной”; выступая за эти пределы, “оно гибнет”.
Личность есть способ существования, который наполняет и делает личным все, принадлежащее существу, делая его единственным, который думает, размышляет и определяет сам себя. Она является субъектом и носителем, которому принадлежит и в котором живет данное существо. Всякое существующее бытие должно быть воипостазировано в личности (так, человеческая природа Христа воипостазирована в ипостаси Слова). Личность есть принцип объединения, создающий единство всех планов с общением свойств, “взаимопроникновение”, или перихоресис (так, дух воплощается, тело одухотворяется, а душа переживает телесное и одушевляет его).
Халкидонская формула, εἰς έν πρόσωπος καὶ μίαν ὑποστασιν (“в едином лице и единой ипостаси”) использует два греческих термина: ипостась и просопон, и это различение в высшей степени важно. Оба эти термина обозначают лицо, но каждый вносит различные особенности. Просопон – это психологический аспект существа, обращенного к своему собственному внутреннему миру, к самосознанию, и как таковой он следует эволюции, проходит через этапы своего собственного знания и степени усвоения природы, носителем которой он является. Ипостась отражает аспект существа, открытого и устремленного за свои пределы – к Богу. Именно этот, второй, аспект является решающим для понимания богочеловеческого измерения личности. При этом нельзя забывать, что Личность в абсолютном смысле существует только в Боге и что любая человеческая личность является только Его образом.
Личность несводима к индивиду, и, с другой стороны, она не есть нечто, добавляющееся к системе тело-душа-дух, но именно эта система, как оказывается, имеет центром свой субъект, свой носитель, свой жизненный принцип, и здесь аспект, выраженный термином “ипостась”, является фундаментальным для человеческого существа. Ипостась есть выход за пределы самого себя, за пределы только человеческого, и в этом смысле личность создается в преодолении себя. Тайна личности как ипостаси – в акте ее собственного трансцендирования к Богу: “Ибо мы Им живем и движемся и существуем” (Деян.13:28). Человек раскрывает самого себя и созидает личность через размышление о другом человеческом существе, но он постигает всю истину о себе лишь тогда, когда восходит к сознанию, которое Бог имеет о нем, когда он оказывается внутри отношений, соответствующих личностному образу действий божественного “Ты”. На этой глубине чисто человеческое превзойдено, и самое интимное, ипостасное “я” собственно нам не принадлежит, мы получаем его в порядке благодати, которая довершает его (“тождественность по благодати”, или ипостась по благодати, согласно святому Максиму Исповеднику).
Каждое человеческое существо обладает определенным началом личности, психологическим центром объединения, который заставляет все вращаться вокруг метафизического “я” и формирует самосознание; это просопон как всеобщая данность, принадлежащая субстанции. На более глубоком уровне, напротив, если все “званы”, то “мало избранных”, достигающих полноты в ипостаси. Ипостась осуществляет и сознательно берет на себя роль этой передовой точки imago Dei (образа Божьего), органа и места соединения с Богом, который являет богочеловеческую структуру по образу Христа: в будущем веке, как говорит апостол Иоанн, мы “будем подобны Ему” (1Ин.1:2).
Это богочеловечество уже в потенции содержится в imago Dei (образе Божьем). От степени его осуществления зависит зарождение и расцвет просопон в ипостаси, переход от природного бытия к бытию во Христе, совершающийся в великом посвящении через таинства, при котором человеческая структура полностью перестраивается, словно скульптура, согласно со своим Архетипом, Христом. Однако во Христе именно Бог соединяет человеческое и божественное, и это соединение является полнейшим и единственным, т. к. местом соединения является Слово, и именно в Его божественной ипостаси утверждается (становится воипостазированной) вся человеческая природа со своим личностным человеческим, просопонным, сознанием. В каждом человеке, “сотворенном по образу Божьему”, его человеческая личность является местом причастия и получает en Christo (во Христе) свое богочеловеческое устроение, и через это причастие становится ипостасью. Именно внутри самосознания человека утверждается божественное сознание и осуществляется богочеловечество: “Мы придем к нему и обитель у него сотворим” (Ин.13:23), “не я живу, но живет во мне Христос” (Гал.1:20); пастырские заботы апостола Павла направлены к тому состоянию, когда “изобразится в вас Христос” (Гал.1:19).
“Человек, – говорил святой Василий, – это тварь, получившая заповедь стать Богом”, стать обоженной ипостасью. Это понятие с большей ясностью уточнил святой Максим Исповедник: личность (просопон) призвана “соединить посредством любви тварную природу с нетварной... через принятие благодати” (стать ипостасью). Мы отчетливо видим, что Бог по Своему человеколюбию становится человеком; человек, по благодати, соединяет в своей тварной ипостаси божественное и человеческое, по образу Христа, и, таким образом, делается тварным богом, богом по благодати. Понятие ипостаси уточняется: это личность обоженного существа. Во Христе человеческая обоженная природа воипостазирована в божественной Личности. В обоженном человеке тварная личность в самом этом обожении являет свою природу соединенной с божественной энергией, творящей обожение, она воипостазирована в человеческой личности. Таким образом, ипостась есть личностный, единственный, бесподобный образ богочеловеческого существования каждого христианина. И здесь надо отметить основное мистическое, “наисущественное” разграничение между ветхим человеком и новой тварью. Но здесь всякий феноменологический анализ переходит в “трансфеноменологию”, постигая то, что превосходит непосредственно данное – святость. Индивид есть социологическая и биологическая категория, которая целиком принадлежит природе. Он является частью природного целого и выделяется через противостояние, разграничение и изоляцию. В природном состоянии просопон (лицо) смешивается с индивидуумом, оно является лишь возможностью личности; если эта возможность осуществлена, личность требует своего перехода в ипостась. Ипостась есть духовная категория, и она не является частью, но содержит в себе целое, что и объясняет ее способность воипостазировать.
Индивид, о котором говорят, что он является сильной личностью, представляет собой лишь особую смесь природных элементов с некоторыми выраженными чертами и, несмотря на них, производит впечатление “типичного” и “уже виденного”. Мистик поражает своим единственным во всем мире лицом, своим всегда очень личным, в абсолютном смысле, светом. Подобного ему никогда ранее не видели.
5. Свобода
Представление о богочеловечестве включает в себя также другие следствия, прежде всего, касающиеся воли и свободы. Христологический догмат видит в воле функцию природы. Вот почему аскетизм стремится, прежде всего, к отречению от своей воли, к избавлению от всякой необходимости, связанной с миром и природой. Но как раз именно в этом отречении от воли природы осуществляется свобода, которая исходит от личности; она ее освобождает от всякого индивидуального и природного ограничения и делает ее “кафолической” (соборной), бесконечно широкой, “всевмещающей”. В пределе, действительно свободная личность стремится вместить всю человеческую природу, наподобие божественной Личности, вмещающей всю троичную жизнь, т. к. христианство, по словам святого Григория Нисского, есть “подражание Божественной природе”, и высшей целью святых является не только “соединиться со Святой Троицей, но и выразить Ее и подражать Ей в себе”.
“Бог почтил человека тем, что даровал ему свободу, – говорит святой Григорий Назианзин, – чтобы добро принадлежало тому, кто его выбирает, не меньше, чем Тому, Кто вложил семена оного в природу”. Человек свободен, т. к. он есть образ божественной свободы, поэтому он наделен способностью выбирать.
Однако святой Максим видит несовершенство именно в необходимости выбирать; свободный выбор есть скорее нужда, чем независимость, она является неизбежным следствием грехопадения; из интуитивной воля становится дискурсивной, совершенный же, напротив, следует добру немедленно, он вне выбора. Интересно отметить то же представление в современной философской мысли у Л. Лавеля (L. Lavelle). Для него существование, прежде всего, “состоит в упражнении акта свободы, который, если не осуществляется, сводит наше существо к состоянию вещи”. Наш распознающий разум выбирает между многими возможностями, чтобы осуществить истинную. Но “почти всегда свобода определяется через выбор”, однако в своей наивысшей форме она есть “активность, которая творит свои собственные доводы, вместо того, чтобы следовать им”. Таким образом, свобода возвышается до уровня, на котором “самые свободные акты, которые являются в то же время самыми совершенными, – это те, в которых нет выбора”.
Личность реализует себя в свободе, и свободно открывается благодати, которая тайно запечатлевает каждую душу, никогда не понуждая ее. “Дух не порождает никакой воли, которая бы Ему сопротивлялась. Он преображает через обожение лишь ту, которая этого хочет”. Страх, который она может ощутить, исходит от всегда возможного выбора, который подстерегает ее, т. к. она может отказаться от жизни, сказать “нет” существованию. Каждое мгновение человек подвешен между бытием в реализации себя и возвратом в небытие, из которого он взят, между “опустошением” и “наполнением” – это великий благородный риск всякого существования и высшее напряжение надежды. “Божественное могущество, способное породить надежду там, где нет больше никакой надежды, и путь в невозможное”. Невозможным является это напряжение между нормативной и падшей реальностью.
Не свобода создает ценности, но они получают жизнь, воплощаются через наше личное открытие этих ценностей. Субъективно это всегда творческое открытие, т. к. оно есть созидание моей связи с ценностями, уникальной связи, которая никогда не существовала раньше. И именно в этом смысле можно сказать, что человек есть то, что он делает из себя.
Премудрость Божия предшествует существованию человека, и каждый человек несет в себе “ведущий образ”, свою собственную софию (премудрость), живой замысел Божий. Он должен разгадать его сам и свободно овладеть своим собственным смыслом, построить свою судьбу. Таким образом, существование есть стремление к своей собственной истине, которую нужно открыть и по которой нужно жить: “Я знаю истину лишь тогда, когда она становится жизнью во мне”, – говорил Кьеркегор. Не существует никакой статической законченности, никакого возможного повторения в жизни; строго говоря, никогда не бывает прецедентов, но имеется вечное начало всегда уникальных действий, “не повторяющихся дважды”, т. к. они являются моими. Каждое утро человеческой жизни начинается как утро первого дня творения мира, как чистый божественный план, и верность, которую я проявляю по отношению к нему, каждое мгновение приводит меня к новой весне, к абсолютно желанному и абсолютно девственному.
Связь с трансцендентным вовсе не выражается в терминах “гетерономии” Канта, потому что как раз не существует никакого гетеро (иного) в “теономии” (богозаконии). Зависеть от Бога, – это значит получать откровение о Его внутреннем состоянии, осознать, что ты принял в себя Слово: “Я уже не называю вас рабами, но Я назвал вас друзьями” (Ин.13:15). Напротив, всякая автономия наглухо закрывает человека в самом себе. В аскезе святой Антоний выделяет три воли, которые сталкиваются в человеке. Во-первых, это воля Божья, спасительная и действующая изнутри, – и это теономия, с которой человек свободно соединяется в совершенной синергии, делая ее своей. Далее, это человеческая воля, которая хотя и не является неизбежно порочной, однако непостоянна и сомнительна, и здесь налицо автономия. И, наконец, это демоническая воля, чуждая человеку, которая собственно и являет гетерономию.
Если свобода есть только чистое подчинение, если она замирает внутри божественного акта и сводится к воспроизведению, к копированию, – в этом случае быть освобожденным по образу божественной свободы более ничего не значит. Однако, как говорит святой Максим, “человек был порожден согласно своей свободе Святым Духом и мог двигаться сам”, исходя из себя самого. Превыше этики рабов и наемников Евангелие ставит этику друзей Божиих.
Христологический догмат о единстве двух природ во Христе уточняется в догмате о единстве двух воль и подразумевает, как следствие, единство двух свобод. Следует избегать всякой путаницы между психологическим понятием “воли” и метафизическим понятием “свободы”. Свобода есть метафизическое основание воли. Воля еще связана с природой, она подчинена различным нуждам и непосредственным целям. Свобода исходит от духа, от личности. Когда она достигает своей вершины, она свободно желает только истины и добра. В будущей полноте, по образу божественной свободы, истина и любовь будут соответствовать тому, чего пожелает свобода. В этом высший смысл того, что имеет в виду Кьеркегор, парадоксально отождествляя субъективность и истину и указывая на то, что истина есть акт свободы.
Действительно, когда наша свобода помещается внутри opus Dei (дела Божьего), она никогда не перестает быть истинной свободой. Слово fiat (да будет), произнесенное Богородицей, исходит не только из подчинения ее воли: эта воля выражает высшую свободу ее существа. Согласно преданию, именно к этому действию она стремилась всю свою предшествующую жизнь в храме, “осененная Святым Духом”, под сенью пламенного ожидания, так хорошо выраженного на иконах Благовещения, которые являют не образ, пораженный неожиданностью, но образ, находящийся в высшей степени трепета перед тайной, на вершине момента, который, наконец, наступает. Возвещающий Ангел и внимающая Богородица образуют единое целое одной и той же симфонической тональности. Это краткая история мира, богословие в одном слове: судьба и мира, и Самого Бога оказываются связанными с этим свободным порывом. Богородица всегда желает и делает содержанием своей свободы лишь то, что будет вызвано через ее “да будет”, – рождение Бога, – и в этом она полностью освящена, свята и чиста. Сам Бог не изобретает истину, но вечно мыслит ее и затем “говорит – и происходит это” (“Той рече и быша”). Свобода человека по образу Божию есть воспроизведение самого этого появления истины, которая существует до человека.
Христос, воплотившись, дал возможность нам не подражать, а жить Его жизнью, стать подобными Его сущности – именно этому нас учат таинства и богослужебный круг. “Бог – это не идея, которую доказывают, это Существо, через отношение к которому живут... Поиск доказательств является богохульством, а делать христианство правдоподобным... значит разрушать христианство” (Кьеркегор). Нужно выбирать между жизнью и существованием в самом сильном значении второго понятия и нужно поместить свою судьбу в диалектику “Второй Личности”, божественного “Ты”. Вера никогда не является простым интеллектуальным согласием или чистым и простым подчинением, но верностью личности по отношению к Личности. Это отношения брака и брачной песни: Библия ссылается на них каждый раз, когда речь идет об отношениях Бога и человека.
Говоря да будет, я отождествляю себя с любимым существом. Божественная воля является из моей собственной воли, становится моей: “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал.1:20). Бог требует от человека исполнения воли Отца, как если бы это была его воля. Таков смысл слов “будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный” (Мф.1:48).
Как Сын рожден и вечно рождается, так и человек, избравший истину, рождается от нее, вечно ее избирает и каждый раз переживает ее заново. И единственной целью, к которой свобода может действительно стремиться и которой она может желать, является вместить невместимое, нечто абсолютно “немыслимое”, не имеющее основания здесь, в этом мире, и через это абсолютно осмысленное. Точно так же, “без причины”, “Бог первый возлюбил нас” и, таким образом, дал нам уже возможность предчувствовать Его божественную свободу. В Своей любви Бог нас любит бескорыстно не за какие-то заслуги; и соответственно Его любовь есть уже дар, который вдохновляет свободу нашего собственного ответа.
Премудрость Божия в ее головокружительных представлениях, в ее радостях “божественного веселия” (Притч.1:31) с сынами человеческими может вообразить лишь существа “ее рода”, богов: “Бог соединяется лишь с богами”, – говорит святой Симеон. Они принимают в себя всего Бога и даже больше: они принимают в реальности своих личностей в дар нечто свое, нечто, исходящее лишь из свободного движения их сердца – свободу, которая лишь одна облекает человека в праздничную одежду, одежду божественного брачного пира. Святой Григорий Назианзин восклицает: “Человек есть веселие Божие”.
Вместо того, чтобы подчиняться причинам, свобода творит их сама. Она провозглашает: “Да будет воля Твоя”. И это потому, что мы можем также сказать: “Да не будет воли Твоей”, – так же как и сказать “да”. Обе свободы согласуются друг с другом: “Ибо все обетования Божии в Нем “да”, по словам апостола Павла (2Кор.1:20), что замечательно объясняет евангельский текст: “Если двое из вас согласятся просить...” (Мф.13:19), и реально можно объединиться лишь в воле Божией, трансцендентности всех ограничений и источника совершенно новой, евхаристической, реальности Тела, непосредственным выражением которой является молитва. Но надо, чтобы это да было бы рождено в тайне и у источника нашего бытия, и вот почему тот, кто его произносит за всех – это Богородица, мать всех живущих, животворящий источник.
Можно теперь понять, почему Бог не отдает приказаний, но взывает и призывает: “Слушай, Израиль!” Указам тиранов отвечает глухое сопротивление; приглашению Хозяина пира – радостное принятие со стороны тех, “кто имеет уши”. Избранный – это тот, кто принимает приглашение, кто сжимает в руке принятый дар. “И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся... к пшенице и вину и елею... и душа их будет как напоенный водою сад” (Иер.13:12).
В “скудельные сосуды” Бог вложил Свою свободу, Свой образ Творца и приходит всмотреться в него. Человек живет во времени, и время было создано вместе с ним, т. к. в действительности он не является оконченным существом, его сотворение предусматривает простор, в котором он призван создать, сотворить себя, изобрести себя по образу Сущего. “Мы συνεργοί (соработники) у Бога” (1Кор.1:9), сослужащие в той же литургии, в той же теургии. И если возможно падение, и если допустимость обратного хода заложена в божественном акте творения, то это потому, что свобода “богов”, их свободная любовь составляет сущность человеческой личности: “Я восстановлю союз Мой с тобой, и узнаешь, что Я Господь” (Иез.13:62); “Любовью вечною Я возлюбил тебя... дева Израилева (Иер.13:3–4); “Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю”. Нужно услышать призыв и распознать в нем самый широкий смысл – призыв к рождению новой твари, источников святости.
Человеческая личность в своем горизонтальном измерении способна вместить в себя все человеческое; и именно в этом открытии она действительно является личностью, просопон. Но ее ипостасное основание – в вертикальном измерении, в богочеловеческой структуре, “доколе не изобразится в вас Христос”, и именно в этой новой реальности самого себя человек “возрастает до возраста Христова”. Субъектом свободы и всякой формы познания является не просто человек, но человек – часть Тела, единого во Христе, что ясно показывает, что природа человеческого сознания никогда не является индивидуальной, схизматически изолированной, но коллегиальной и “богочеловеческой”. Это последнее выражение принадлежит Псевдо-Дионисию: “богочеловеческая энергия” во Христе есть такое единство двух воль и двух свобод в едином действии, μοναδικω ς, акцент в котором переносится на единство, никоим образом при этом не ослабляя независимость каждого.
Латинское слово persona, так же как и греческое просопон, первоначально означало “маска”. Это выражение само по себе содержит глубокую философию человеческой личности. Оно учит о несуществовании самостоятельного человеческого порядка, т. к. существовать – это значит участвовать в бытии или небытии. В участии человек осуществляет или икону Божию, или дьявольскую гримасу обезьяны Бога. Человек не обладает просто лицом, просто человеческим лицом. В воплощении Бог уже не только Бог – Он есть Бого-Человек. Но это действует в двух направлениях: человек – это тоже теперь не только человек, но существо богочеловеческое или демоническое. Святой Григорий Нисский ясно говорит об этом: “Человечество состоит из людей с ликом ангела и людей, носящих маску зверя”. Духовный человек “до конца своей жизни не прекращает добавлять огонь к огню”; человек может раздуть огонь любви или огонь геенский; он может обратить свое “да” в бесконечность единства; он может также своим “нет” разложить свое существо в адскую разделенность.
Сердце, несущее “богословскую загадку”, отношение между личностью и природой, ипостасная свобода, коротко, – сложный состав “человека” ведет к центральному для антропологии понятию: “по образу и подобию Божию”.
6. Образ Божий
Начиная с XV в. идея образа Божьего не играет более никакой роли в философии. Моральное сознание еще смутно сохраняет воспоминание о далеком голосе, но “чистая воля» Канта отделит его от трансцендентного. Большинство богословских словарей говорят сегодня не об образе, а о его потере, и только в статьях о первородном грехе. Это равносильно тому, что если бы вместо Царствия Божия, которое направляет ход истории, говорили бы о потерянном рае. Проповедь теряет свою жизненную силу, т. к. она нейтрализована скрытым пессимизмом, эрозией истории. С другой стороны, современный персонализм испытывает очень большие трудности при решении основной проблемы: как сочетать единство сознания, одинакового для всех, то есть метафизическое единство, с множественностью его личностных центров, людей? Иначе говоря, единственное и всеобщее сознание проходит сквозь людей, и в нем каждый имеет свое собственное сознание. Без инстанции, которая соединяет двоих, если мы принимаем первое, то разрушаем второе. Однако все антропологи охотно соглашаются с одним и тем же определением человека: “существо, которое стремится преодолеть себя”, существо, устремленное к тому, что больше его, или устремленное к “совсем иному”, отличному от него самого; дитя богатства и нищеты, будучи “бедным” в себе, оно устремлено к “богатому”. Следовало бы, чтобы новый апостол Павел побеседовал с антропологами и помог разгадать смысл нового “алтаря неведомому богу” и назвал своим именем то фундаментальное стремление, в котором человек приходит к выражению наибольшей глубины самого себя: imago Dei (образ Божий). Антропологическая керигма (проповедь) отцов Церкви говорит о том, что образ – это вовсе не регулирующая или инструментальная идея, но определяющий принцип человеческого существа.
Чистота апостольской сокровищницы веры всегда была предметом самой живой заботы Церкви. Как якорь спасения, кристалл Слова Божьего, догмат имеет ярко выраженное сотериологическое ударение – в нем ставится вопрос о жизни и смерти. Для примера, единственное слово – ὁμοούσιος (“единосущный”) – искусно выпрямляет кривую еретических построений: только единосущность Сына с Отцом обосновывает божественность Христа. Наше спасение связано с ней нашей собственной единосущностью с человеческой природой Христа. Святой Афанасий развивает утверждение святого Иринея: “Бог стал человеком, чтобы человек стал богом”. Это золотое правило восточной патристики полностью определяет ее антропологию. По четкому определению апостола Иоанна (1Ин.1:4–6), грех есть беззаконие – ἀνομία – “переход” за определяющий, нормативный для человеческого существа предел. Грех открывается “законом”; функция последнего заключается в проведении четкой границы между тем, что есть κατὰ τάξιν, соответствующее порядку, и тем, что есть беспорядок, хаос, глубокое смешение онтологических слоев в человеческом существе. Патология подразумевает и призывает врачующее действие, способное спуститься до самых корней искажения и совершить исцеление природы через восстановление адамовой структуры. Этический катарсис, очищение от страстей и желаний, завершается в онтологическом катарсисе, в метаное, в перестройке всего домостроительства человеческого существа. По существу, речь идет о восстановлении первичной формы, возрождении архетипического образа, imago Dei (образа Божия). В абсолютной чистоте примера этот образ явлен во Христе, которого святые отцы называют Архетипом. В момент воплощения Христос, “образ Бога невидимого” (Кол.1:15), не ищет какой-либо ангельской или астральной формы, и Он не только принимает человеческий вид, но, по словам святых отцов, Бог, творя человека, уже устремлял взор Своей мысли на “Христа-прототипа”. Христос – “печать Отца” и Христос – “се Человек” объединяет в себе образ Бога и образ человека. Утверждению “человек подобен Богу” отвечает его “небесное” оправдание: “Бог подобен человеку”. Таким образом, Бог воплощается в Своей живой иконе; Бог не попадает в чуждый Ему мир, т. к. человек есть человеческий лик Бога.
Imago (образ) есть то третье выражение сходства, согласованности и соответствия, которое помогает увидеть человека в Боге, “лик Божий, выраженный в человеческих чертах”, и божественное в человеке, обоженного человека –настолько, что мы можем перевернуть обычное высказывание “воплощение обусловлено грехопадением” и сказать: первоначально, “в начале”, в самом принципе сотворение человека “по образу” имело целью воплощение-обожение и, следовательно, было по “вдохновению” (in-spirare, во-духновение) по существу теандрическим.
Imago со стороны человека не ограничен формальной функцией одной только связи между образцом и его воспроизведением. Во времена Ветхого Завета он становится инструментом, который подготавливает человека к пришествию полноты, о которой он свидетельствует; у него пророческая функция предтечи, который ожидает и призывает воплощение. Он призывает то, для чего он существует и к чему он стремится, и, следовательно, в определенном смысле, он влечет за собой событие. С божественной стороны, он являет желание Бога стать человеком. “Божественный эрос, – говорит святой Макарий, – заставил Бога сойти на землю” и вынудил Его “покинуть вершину безмолвия”. Желания – божественное и человеческое – достигают высшей степени в историческом Христе, в котором Бог и человек смотрят друг в друга, как в зеркало, и узнают себя, “так как любовь Божия и любовь человеческая являются двумя сторонами одной всеобщей любви”.
Мы не находим совершенного согласия у отцов Церкви по поводу представления об образе. Богатство его содержания позволяет связать его с различными способностями нашего духа, не исчерпывающими его. Святой Афанасий настаивает на онтологическом характере причастия божеству. Образ является определяющим до такой степени, что “творение” означает “причастие”. Как раз потому, что κατ῏εἰκόνα, по образу, является не просто моральным воспроизведением, его действие выражается в озарении человеческого ума, noûs, сообщая ему способность к богопознанию. Святой Василий обращает особое внимание на свет разума: “как в микрокосме, именно в себе ты увидишь отпечаток божественной премудрости”. Однако это не является интеллектуальным подходом, т. к. разум не берется сам в себе, но в его исходной направленности к Богу. Мы встречаемся здесь с классическим представлением восточного богословия как опытного пути познания-приобщения. Стремление к нему является врожденным: “От самой природы мы обладаем горячим желанием прекрасного... Все стремится к Богу”.
Святой Григорий Назианзин развивает другой аспект этой темы: “Как земля, я привязан к здешней жизни, но будучи также божественной частицей, я ношу в своей груди желание будущей жизни”. Итак, “быть по образу” означает первоначальную харизматичность, образ несет в себе нерушимое присутствие благодати, присущей человеческой природе, предполагаемой самим актом творения. “Поток невидимой божественности”, посланный душе, предрасполагает ее к причастию божественному Бытию. Человек не только получает нравственные предписания, не только регулируется указаниями относительно божественного, но он – из γένος, из божественного рода, как об этом говорят апостол Павел (“Мы, будучи родом Божиим...” (Деян.13:29) и святой Григорий Нисский (“Человек породнен с Богом”); образ предопределяет человека к обожению.
Для святого Григория Нисского сотворение “по образу” возвышает человека до достоинства друга Божьего, живущего по условиям божественной жизни. Его ум, его мудрость, его слово, его любовь существуют по образу тех же сил Бога. Но образ идет еще глубже в воспроизведении несказанной троичной тайны, вплоть до того уровня глубины, где человек является загадкой для самого себя: “Легче познать небо, чем самого себя”. Выражая непознаваемое в тварном, человек открывает то, что является absconditus (скрытым) в самом этом выражении. Святой Григорий останавливает внимание на головокружительной способности свободно определять себя, делать любой выбор и принимать любое решение, исходя из себя самого: αὐτεξουσία. Но это как раз и означает принимать решение, определяясь именно своим устроением “по образу”. Аксиологическая функция оценки и распознавания делает из человека хозяина, властвующего над своей собственной природой и над всей тварью, а также показывает его в его достоинстве космического слова. Между Богом и обоженным человеком Царства Божия разница состоит в следующем: “Божественное нетварно, в то время как человек существует вследствие творения”. В свете представления об imago христианство определяет себя как “Подражание Божией природе” и как обращенную Троицу, отраженную во множестве человеческих ипостасей, объединенных в одной и той же человеческой природе.
Трансцендентный характер этого достоинства позволяет сказать святому Феофилу Антиохийскому: “Покажи мне твоего человека и я покажу тебе моего Бога”. Именно божественной Личности по природе свойственно быть свободной, то есть в высшей степени таинственной. Человек, по Ее подобию, также является личностью и свободой. “Единый... обитает в неприступном свете” (1Тим.1:16), и imago покрывает человека тем же облаком. Следуя святому Иоанну Дамаскину и затем святому Григорию Паламе, можно определить человека через сознание того, что он существует по образу “Того, Кто есть”, то есть Сущего, и коснуться таким образом Его невыразимой тайны.
Глубокая культура духовного внимания создает настоящее искусство видения каждого человеческого существа как образа Божия. “Совершенный монах, – говорит святой Нил Синайский, – будет почитать вслед за Богом всех людей, как Самого Бога”. Это объясняет кажущийся парадокс, заключающийся в несогласии с любым антропологическим минимализмом; традиция великих аскетов поражает своей радостной тональностью и своим максимальным принятием человека. Действительно, в то время как монашество является эсхатологическим максимализмом (с последним человеком, монахом, земная жизнь останавливается и переходит в Царство Божие), оно также является духовидческим максимализмом тройного достоинства человека, тройной функции образа: пророческой, царственной и священнической.
Великое наследие преподобного Макария Египетского, преподобного Исаака Сирина и еще многих других передает нам не учение, а науку, основанную на опыте. Те, кто в качестве врачевателей-практиков узрели глубины человеческой души, не имеют нужды узнавать что-либо о степени разложения (святой Андрей Критский определяет ее в своем знаменитом каноне: человек делается идолом сам для себя), и то же проникновение в глубины дает им совсем иное непосредственное знание, и они видят новую тварь, всю облеченную в божественную форму. “Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений”. “Между Богом и человеком существует самое большое родство”. Таким образом, в пустыне, в этой антропологической лаборатории, осуществляется удивительное формирование человеческого призвания: подобно неверному управителю из притчи, человек широко пользуется сокровищем божественной любви, чтобы “копить добро” и созидать “Царствие Божие”. Художник работает над материалом этого мира, аскет создает свой собственный лик и ткет все свое существо с помощью божественного света.
Положение человека в этом мире уникально. Он находится в точности между духовным миром ангелов и материальным миром природы; в своем составе он объемлет оба мира, именно это привлекло особое внимание святого Григория Паламы. Человека от ангелов отличает то, что он существует по образу воплощения; его чисто “духовное” воплощается и пронизывает всю природу своими “животворными” энергиями. Ангел есть “второй” свет, чистое отражение, он вестник и служитель духовных ценностей. Человеку, образу Творца, дано извлечь эти ценности из материи этого мира, создавать святость и быть ее источником. Человек не отражает свет, но становится светом, становится духовной ценностью, и поэтому ангелы служат ему. Первоначальная заповедь “возделывать” Эдем открывается в грандиозных перспективах “культуры”. Эта последняя в своих анагогических различениях выходит за пределы самой себя и завершается культом, космической литургией – непрекращающейся песнью “всякого дыхания”: “Буду петь Богу моему, доколе есмь” (Пс.134:33) – песнью, исходящей из полноты всего человеческого, предварением уже здесь, на земле, небесной литургии. Как об этом прекрасно сказал святой Григорий Нисский, человек есть “музыкальная композиция, чудесно сложенный гимн всемогущей силы”. Возвышаясь над кривой греха, первоначальное предназначение воздействует на историческую судьбу человека и определяет ее в терминах святого Василия: “Человек – это творение, которое получило приказ стать Богом”.
Когда мы обозреваем грандиозное поле святоотеческой мысли, бесконечно богатой и полной оттенков, складывается впечатление, что эта мысль избегает всякой систематизации, чтобы сохранить всю свою удивительную гибкость. Однако можно сделать несколько основных заключений. Прежде всего, нужно отвергнуть какое бы то ни было субстанциалистское понимание образа. Он не вложен в нас, как часть нашего существа, но вся совокупность человеческого существа сотворена, вылеплена “по образу”. Основное выражение образа состоит в иерархической структуре “человека” с его духовной жизнью в центре. Именно эта сосредоточенность на центре, этот приоритет жизни духа обусловливает врожденное стремление к духовному, к абсолюту. Это динамичный порыв всего нашего существа к своему божественному Архетипу (Ориген), непреодолимое стремление нашего духа к Богу (святой Василий), это человеческий эрос, стремящийся к божественному Эросу (святой Григорий Палама). Короче, это неутолимая жажда и напряженность желания Бога, как это замечательно выражает святой Григорий Назианзин: “Для Тебя я живу, говорю и пою”.
В заключение нужно сказать, что каждая способность человеческого духа отражает образ, но им по существу является вся совокупность человека, сосредоточенная на духовном, которой свойственно преодолевать самое себя, дабы окунуться в безбрежный океан божественного, чтобы там найти утоление своей тоски. Это устремление иконы к своему подлиннику, образа к своему “архе” (началу). “С помощью образа, – говорит преподобный Макарий Египетский, – Истина посылает человека на Ее поиски”. Именно в нашем желании Бога мы уже открываем Его присутствие, т. к. “божественная жизнь есть всегда действенная любовь” и “найти Бога значит беспрестанно искать Его”.
7. Различие между образом и подобием
Человек сотворен betsalmenu kidemoutenu, “по образу и подобию”. Для древнееврейского гения, всегда очень конкретного, tselem, образ, обладает более сильным смыслом. Запрет Закона создавать рукотворные образы объясняется динамическим и весьма реалистическим значением образа: он вызывает реальное присутствие того, кого он представляет. Понятие demouth, сходства, или подобия, заставляет рассматривать себя как нечто иное. Образ есть целое, состоящее как бы из одного куска, и он не может испытывать никаких изменений, никаких искажений. Но можно обречь его на молчание, подавить его и сделать его бездейственным через изменение онтологических условий.
Нужно еще упомянуть древнееврейский термин tsemach, что значит “семя”, “росток”. Творение, динамизм и течение жизни, так же как положительный смысл библейского времени, – это цемах, росток, который изменяется, развивается, проходит через стадию плодовитости и превращает время изнурения и старения во время созидания, во время деторождения. Повторения космического, циклического времени становятся развитием, ростом, благим стремлением к осуществлению. В этом порыве и в этом развивающемся движении нет воссоздания, но над всем преобладает зародыш – то, что было в начале, по первоначальному предназначению, и отцы Церкви усиленно подчеркивают, что Христос восстанавливает то, что было искажено и прервано грехопадением. Царствие Божие есть расцвет райского ростка, остановленного в своем росте патологией грехопадения, которую Христос пришел исцелить. Образ исцеления – наиболее часто встречающийся в Евангелии, и он задает определенную норму: воскресение есть исцеление от смерти.
Творение в библейском смысле подобно зерну, дающему сто на одно и не перестающее развиваться дальше: “Отец Мой доныне делает, и Я делаю”. Оно есть альфа, которая движется к омеге и уже содержит ее, что делает каждое мгновение времени определенно эсхатологическим, приводит его к своему последнему завершению и тем самым судит его. Мессия называется цемах, и само понятие мессия вытекает из плеромы: творение требует воплощения, и оно завершается во втором пришествии Царствия. Мир сотворен вместе со временем, что означает, что он “не закончен”, он “в зародыше”, – и это для того, чтобы способствовать развитию и направлять синергию божественного и человеческого действий до Дня Господня, когда зародыш достигнет окончательной зрелости.
“Цель была бы достигнута лишь в том случае, когда в конце было бы то, что теоретически должно было бы находиться в начале, а именно, божественное человечество”. Эта мысль Бергсона, в согласии с Библией, правильно предполагает отсутствие какого бы то ни было онтологического разрыва: “Вот, Я делаю последнего, как первого”. Аксиома библейского откровения говорит о конечном совпадении ἐν ἀρχῇ, in principio, начального плана, с его телосом, его осуществлением. Началу, первоначальному выражению “сыны Всевышнего”, соответствует окончательное определение: “вы – боги” (Пс.13:6). От райского “древа жизни” через евхаристию мы движемся к “престолу без покрова” Царствия Божия (Откр.13:1–2). От начального бессознательного совершенства мы продвигаемся к совершенству сознательному, к образу совершенства Отца Небесного. Онтология существ, построенных “по образу”, и тот факт, что они сотворены сообразно божественному роду, приводит к задаче, подлежащей осуществлению, – стать действительно святым, совершенным, богом по благодати, разделяющим условия божественной жизни: бессмертие, цельность и “целомудрие”. Образ как объективное основание ввиду своей динамичной структуры нуждается в субъективном, личностном подобии. Зародыш – “быть сотворенным по образу” – ведет к расцвету – “существовать по образу”.
У всех отцов мы находим четко отмеченное различие, которое обобщает святой Иоанн Дамаскин: по подобию “означает по подобию в добродетели”, в действии. Святоотеческое предание выражается очень ясно и очень четко: после грехопадения образ в своей сути остается без изменения, но в своем действии он ограничен онтологическим молчанием. Следовательно, образ стал бездействующим из-за разрушения всякой способности “подобия” и стал принципиально недоступным природным силам человека. Образ как объективное основание может проявляться и действовать только через субъективное подобие. И святой Григорий Палама уточняет: “В своем существе по образу человек превыше ангелов, но именно в подобии он ниже, т. к. он неустойчив... и после грехопадения мы отвергли подобие, но не потеряли бытие по образу”.
Христос дал человеку силу действовать; божественное озарение восстанавливает подобие, которое немедленно освобождает образ, и его сияние становится ощутимым у святых и детей. И святой Григорий Нисский завещает нам свою антропологическую керигму (проповедь): тварь является человеком, если только она движима Святым Духом, если она – “образ с подобием”. Образ является определяющим и нормативным, он никогда не может быть ни потерян, ни разрушен; и, по словам святого Иринея, то, что сохраняется, не является в действительности человеком. В своей функции соответствия и богоподобия он сообщает реальность словам “будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный”. Когда “Бог будет все во всех”, Его храмы-люди будут соответствовать присутствию, которое будет их наполнять и оживлять. Библейское “сыновство” отвергает любую идею юридического усыновления; христология хорошо показывает, что во Христе “сыновья в Сыне” реально подобны Отцу. Если Бог ни с кем не сравним, то человеческое сердце, которое лишь Бог до конца может исследовать, содержит нечто уникальное и сравнимое, как хорошо об этом говорит святой Григорий Нисский: “Что-либо сопричастное Богу, ибо, чтобы приобщаться к Богу, необходимо обладать в своем существе чем-то, что соответствует тому, к чему оно приобщается”. Словам “Бог есть любовь” со стороны человека отвечают слова Amo, ergo sum (“Люблю, следовательно существую”). Самое важное, что происходит в отношениях между Богом и человеческой душой, – это возможность любить и быть любимым.
Глава III. НАЧАЛА И КОНЦЫ
1. ТворениеПроисхождение всего тварного превышает возможности любого естественного знания, и только Бог может нам открыть, почему и как Он создал мир. Творением ex nihilo (из ничего) Бог ставит рядом с собой совершенно иное существо, отличающееся от Него “не местом, а природой”. “Бог творит мыслию, и мысль становится делом”, “Он сказал – и сделалось” (Пс.13:9).
Бог созерцал все вещи до их возникновения, воображая их в Своей мысли, и каждое существо получает свое существование в определенный момент согласно вечной мысли, воле Божией, которая является образом и моделью. Эти определяющие модели находятся не в вещах, и только созерцание может обнаружить их в виде призыва, который каждое существо может принять или отвергнуть в силу своей свободы. Подобная направленность чисто динамических норм исключает всякий статический детерминизм. С другой стороны, “мысли” не скованы более внутри божественной сущности (августинианство), но входят в творящие волеизъявления Бога, что позволяет живым существам участвовать в них в творческой синергии и, таким образом, свободно реализовывать мир реального подобия.
В первую очередь, Бог создает идеальную сферу мира, “тварную вечность зона”, единство идеальных принципов, которое можно назвать тварной Софией и которое обусловливает и определяет все конкретное единство мира. Глубже подвижного и меняющегося феноменального аспекта бытия находится его идеальное основание, София, которая связывает множественное в космос, в единое живое целое под его многообразными видами: космическим, логическим, этическим, эстетическим и антропологическим. Любое истинное знание возводит эмпирические вещи к их идеальной структуре; сквозь покровы мира оно созерцает икону Премудрости Божией. Подобное “софиологическое” видение утверждает органическую связь между идеальной и эмпирической стороной мира и свидетельствует об извращениях, проистекающих из-за свободы творения преступать свои собственные нормы. Глубокое смешение отношений производит и объясняет то, что софиологи называют затемненным ликом тварной Софии.
Она сотворена “по образу” небесной Софии, Премудрости Божией, которая заключает в себе идеи Бога о мире. Земная София как идеальная тварная основа мира должна прийти к подобию с небесной Софией, но свобода человеческого духа потрясла ее иерархию, извратила отношения бытия с “софийными” принципами. Зло проникло в “разломы” бытия. Оно стало питательной средой культуры паразитического мира для наростов, образующих пародию на Софию, “ночную сторону творения”, его демоническую маску.
Софиология, сияние современного православного богословия, единственная ставит глобальную космическую проблему. Она противостоит любому агностическому акосмизму и, с другой стороны, любому замкнутому эволюционистскому натурализму и смотрит на космос литургически. Присущий литургии космизм истолковывает творение Божие. Он заставляет увидеть предустановленное соответствие между элементами мира и их идеальной нормой – божественной мыслью. Именно красоту мира познает человек в меру своего причастия Святому Духу. Так, святой Григорий Нисский говорит о “врожденном движении души, которое ведет ее к духовной красоте”, а святой Василий говорит о “горячем, врожденном желании прекрасного”. Вследствие этого святой обладает непосредственной интуицией и постигает мир даже в его современном состоянии как духоносный, как “небо и землю, полные славой”. Внутренний мир природы открывается в своей способности содержать бесконечное и стремиться к единству, части которого, по словам святого Василия, связаны “сочувствием”. Подобным образом святой Максим в своих “Сотницах” поэтически описывает божественный Эрос, рождающий космос из хаоса.
Мир как космическая литургия обращается к Богу, и Бог обращается к миру. Но царственная свобода этой встречи подразумевает в начальном состоянии неустойчивое совершенство.
2. Природа до грехопадения
С точки зрения православного богословия, тварная природа именно в своем истоке видит благодать, содержащуюся в самом акте творения. Отсутствие благодати невозможно даже помыслить, т. к. это было бы извращением, уничтожающим природу, равным второй смерти, по Апокалипсису. Истина природы состоит в том, что она из сверхприродного бытия, где “сверх” означает богоподобие и богоносность с самого ее начала. В своей сущности человек запечатлен образом Божиим, и это онтологическое богоподобие объясняет то, что благодать “соприродна” природе, так же как и природа соответствует благодати. Они дополняют друг друга и взаимно проникают друг в друга: в участии одно существует в другом, “один в другом, в совершенной Голубке”. Однако райское блаженство было только зародышем, стремящимся к своему завершению, к состоянию обожения. Свободный разрыв согласия вызывает иссякновение благодати. Воплощение восстанавливает порядок и являет нормативный принцип единства божественного и человеческого “нераздельно и неслиянно”. Это позволяет святому Максиму определить цель жизни: “Соединить любовью тварную природу с нетварной природой, явив их в единстве и тождественности через стяжание благодати”.
Человек сотворен причастным Божьей природе (spiraculum vitœ, отдушина жизни), а Бог в воплощении приобщается к человеческой природе. Богоподобию человека отвечает человечность Бога. Образ Божий в человеке и образ человеческий в Боге есть тот третий член отношения, который объективно обусловливает воплощение, онтологическую возможность согласия двух миров. Христос является perfectus homo (совершенным Человеком) только потому, что Его природа “естественно” находится в согласии с божественной природой, с perfectus Deus (совершенным Богом). Само собой разумеется, что “естественно” не означает “натуралистично”; божественное ничуть не естественно человеческому, между ними двумя существует разрыв, непреодолимая бездна, перейти которую можно только через участие в божественном как в даре. Оно харизматично, и харизматичность присуща человеческой природе: “Если ты чист, то небо в тебе; тогда внутри себя ты узришь ангелов и Господа ангелов”. В глубине самого себя человек обнаруживает присутствие Бога в Его образе, более близком человеку, чем сам человек. Божественное парадоксальным образом более человечно, чем чисто человеческое, т. к. это последнее – только абстракция. Богоподобная структура делает невозможным всякое самостоятельное решение человеческой судьбы. Душа является местом присутствия и встреч, обладая супружеской природой: бракосочетание или прелюбодеяние – это соединение со своим “иным”. Выбор происходит не между ангельским и животным состоянием, а между Богом и демонизмом.
“Всегда и во всех Бог желает совершить тайну Своего воплощения”, т. к. воплощение есть божественный ответ на Его собственные ожидания от человека, на Его образ в человеке. Этим объясняется, почему в деле искупления в связи с человеческой природой речь идет не столько об исправлении ее ошибки, сколько об исправлении ее самой. Слово покидает “мирную тишину” для осуществления союза, творящего обожение, “заранее задуманного и предшествующего всем зонам синтеза”. Оно воплощается в первичной, первоначальной природе (чудесное рождение), принимает нашу неполноту и определенно совершенствует ее: в Нем уже рай исполняется в Царствии (“приблизилось Царствие Божие”). Следуя за Ним, каждое существо, заключенное во Христе, восстанавливается и направляется к status naturae integrae (состоянию целостной природы). Вот почему в самых характерных для Востока течениях искупление будет выражаться скорее в физико-онтологических терминах, чем в этико-юридических. Целью здесь является совсем не “выкуп” и даже не “спасение” (в “общественном” или индивидуальном смысле), а апокатастасис, всеобщее восстановление и исцеление. Воплощение и теосис дополняют друг друга, что заставляет видеть в первоначальной праведности не незаслуженную привилегию, а саму основу бытия, которая отвечает желанию Бога найти себя в человеке. И в связи с этой целью божественный образ отпечатан в человеческой сущности.
3. Грехопадение и домостроительство спасения
Грехопадение глубоко подавляет образ Божий, не искажая его. Именно сходство, возможность подобия серьезно затронуто. В западном учении homo animalis (человек животный) сохраняет после грехопадения основы человеческого существа, хотя этот животный человек и лишен благодати. Греки же считают, что хотя образ не потускнел, извращение изначальных отношений между человеком и благодатью настолько глубоко, что только чудо искупления возвращает человека к его “естественной” сущности. В своем грехопадении человек представляется лишенным не своего избытка, а своей истинной природы, что помогает понять утверждение святых отцов о том, что христианская душа по самому своему существу является “возвращением в рай”, стремлением к подлинному состоянию ее природы.
В западном осмыслении человеческая природа включает разумную и животную жизнь, и именно духовная жизнь (сверхприродное) добавляется и, в некоторой мере, накладывается на чисто человеческое домостроительство. Особенно в реакции на баянизм (согласно которому благодать есть составляющая часть природы) и в тридентском богословии Запад понимает благодать как внешнюю для твари. Наложенный сверхприродный порядок показывает природу в самом ее принципе как чуждую ему. Реформация возвращается к этому видению, и из сверхприродной благодати схоластиков создает антиприродный принцип. Для западной аскезы следовать природе всегда означает идти против благодати. Для Востока же человек “по образу Божиему” определяет в точности то, чем он является по своей природе. Существо, сотворенное по образу Божиему, имеет в себе благодать этого образа, и поэтому для восточной аскезы следовать своей истинной природе – это значит действовать в направлении благодати. Благодать соприродна, сверхприродно естественна. Природа несет в себе врожденную потребность в благодати, и такой дар делает ее изначально харизматичной. Представление о “сверхъестественном”, или “сверхприродном”, в восточной мистике оставлено для высшей степени обожения. Таким образом, природный порядок соответствует порядку благодати, исполняется в нем и достигает высшей точки в благодати обожения. Святой Иоанн Дамаскин определяет аскезу как “возвращение того, что противоречит природе, к тому, что ей присуще”. Белые крещальные ризы заставляют должное облечься в природное. Образ включает жизнь интеллектуальную и духовную, он объединяет νου ς и πνευ μα, а животная жизнь добавляется. Эта животная жизнь до грехопадения была внешней для человека, но будучи открытой и обращенной к нему, она находилась в ожидании своего собственного одухотворения-очеловечивания. Грехопадение, охватывая чувства, ускоряет события и добавляет животную жизнь к человеческому бытию. “Страсти не относятся к сущности души, но они образуют нечто добавочное”. Библейский рассказ о запретном плоде указывает на евхаристическое значение плодов обоих деревьев, т. к. речь идет о вкушении. В “бесовской евхаристии” вкушения запретного плода космический (плод) и бесовский (нарушение запрета) элементы проникают в человеческую природу – это ясно показывает чин запрещения дьявола при совершении таинства крещения. “Совлекши с себя мертвую и безобразную одежду, сделанную из кожи животных, в которую мы были одеты (я воспринимаю этими кожами форму животной природы, которой мы были окружены в результате нашей связи с чувственной жизнью), мы отвергаем с ней все, что было к нам добавлено в связи с этой кожей животного”. Белые одежды, получаемые при крещении, означают возвращение к “телу духовному”. Биологически-животная жизнь, символизируемая кожаными одеждами, оказывается чуждым истинной природе человека, поскольку входит в его жизнь раньше его одухотворения, до того как человек (призванный возделывать космическую природу) смог прийти к власти и к господству духовного над материальным. Это экзистенциальная ошибка через преждевременное, раннее отождествление. Благая сама по себе, животная природа из-за извращения иерархии ценностей становится теперь извращением для человека. “Не желание вообще, но определенное желание (похоть) является дурным”. Поражена аксиологическая способность оценивать, дух различения: “Вне Бога разум становится похожим на зверя и на демонов, и, отстраненный от своей природы, он желает того, что ему чуждо”.
Аскеза достигает всего своего величия в стремлении к истинной природе; ее борьба направлена вовсе не против плоти, а против ее искажений и, прежде всего, против их духовной основы. Отныне речь идет не столько о прощении и восстановлении благодати, сколько о перемене при полном исцелении. Аскетическое состояние “бесстрастной страсти” предвосхищает будущий век, и покорность диких зверей перед святыми недвусмысленно говорит об ином зоне.
Отравлен сам источник, т. к. онтологическая норма была нарушена в духе. Для святого Григория Паламы страсти, исходящие от природы, не так серьезны, т. к. они выражают только тяжесть материи, возникшую из-за неудачи ее одухотворения. Источник зла содержится в раздвоении сердца, где зло и добро удивительным образом находятся рядом, в “лаборатории праведности и беззакония”. В соответствии с “образом” человек ищет всегда абсолютного, но “подобие” вне Христа остается недейственным, т. к. грех извратил направленность души, и она будет искать абсолют в идолах, захочет утолить свою жажду в миражах, не имея силы подняться к Богу. Благодать, сведенная к потенциальному состоянию, может отныне повлиять на человека только сверхъестественным путем – сверхъестественным по отношению не к природе, а к ее греховному состоянию. Истина человека предшествует его раздвоению, и она вновь становится преобладающей, как только человек оказывается во Христе. Видение “от дольнего” должно быть дополнено видением “от горнего”, которое доказывает, что грех вторичен, как и всякое отрицание. Никакое зло не сможет никогда стереть изначальную тайну человека, т. к. не существует ничего, что могло бы уничтожить в нем неизгладимую печать Бога.
По мысли апостола Павла, это закон делает грех действительным, именно потому, что он в то же время являет во Христе внутренне присущую человеку норму – святость. Также и утверждение “вы будете, как боги” не является чистой иллюзией, т. к. оно берет за основу истину: “Вы все – боги”. И это первоначальная истина, которая хотя и утрачена, но не разрушена, и она обусловливает угрызения совести и утверждает покаяние. Чин погребения ясно говорит об этом: мы не можем в полной мере понять беду человека, низведенного до состояния трупа, иначе, чем восходя до славы первоначального предназначения. Карикатура является дьявольской, только находясь в онтологическом контрасте с ее противоположным полюсом – иконой.
Исходя из этого, можно лучше понять роль первоначального предназначения человека в греческой патристике: “Цельность нашей природы восстановлена во Христе”, т. к. Он “представляет в Своем лице (архетипе) то, чем мы являемся”, и наоборот, во Христе мы становимся подобными Ему. Таинства восстанавливают первоначальную природу человека, т. к. Святой Дух, который был дан первому человеку “вместе с жизнью”, возвращается нам в таинстве крещения и через миропомазание. Покаяние по существу является терапевтическим лечением; и евхаристия вносит закваску нетления, φάρμακον ἀδανασίας. Святость и чудеса знаменуют для человека возврат к его первоначальному могуществу, к харизме как норме. Христос-Архетип заново создает человека, как скульптуру, по Своему образу. Opus Dei (Дело Божие), сосредоточенное на пасхальной тайне, не только предвосхищает, но уже вводит в status naturae integrae (состояние целостной природы).
Глава IV. АНТРОПОЛОГИЯ ОБОЖЕНИЯ
Для западного богословия сущность и существование Бога тождественны. Бог есть то, чем Он является, что логически вытекает из абсолютной простоты принципа и, тем самым, запрещает разделять сущность и энергии. В рамках этих представлений целью христианской жизни может быть лишь visio Dei per essentiam (видение Бога в сущности). При этом взаимопроникновение божественной и человеческой сущностей в любом виде исключается: tertium non datur (третьего не дано), – т. е. обожение оказывается невозможным. Человек был предназначен к блаженству, и все в нем стремится к благодати блаженного видения (visio beata). Западная антропология является по существу моральной. Направленная на высшее Благо, она стремится его достигнуть достойными поступками в рамках действий воинствующей Церкви с целью покорения мира.На Востоке же, хотя положительное богословие и преломляет невыразимую тайну сквозь призму мысли, сущность Бога остается трансцендентной. Даже ангелы, которые купаются в “трисолнечном” свете, не имеют доступа к ней. Рука Яхве скрывает лицо, которое “никто не может увидеть и не умереть”. И, следовательно, любая попытка “определить” Бога наказуема смертью. Вот почему Бог допускает Свое видение в отказе от него, как об этом говорит святой Григорий Нисский. “Увидеть Бога сзади” (Исх.13:23) означает созерцать Его действия, Его энергии, но никогда – Его сущность. Различие в Боге между сущностью и энергией основополагающе уже для святого Василия, затем для святого Дионисия, святого Иоанна Дамаскина и святого Григория Паламы. Оно никоим образом не затрагивает божественную простоту. Только для восточных мыслителей эта простота не является понятием, подчиняющимся законам логики. Бог в Себе превыше всякого понятия о существе, и атрибуты, которые Ему присущи с точки зрения логики, не выражают Его должным образом и ничуть не могут Его объективизировать. Именно это различие обосновывает теосис, обоженное состояние человеческого существа, его одухотворение божественными энергиями. Оно соответствует предназначению этих энергий проявляться в месте, соответствующем их присутствию, и назначению человека преобразиться в их свете.
Следовательно, православная антропология не моральна, а онтологична, она является онтологией обожения. Она сосредоточена не на покорении этого мира, а на “стяжании Царствия Божия”, внутреннем преобразовании мира в Царствие Божие, на его постепенном просветлении божественными энергиями.
И тогда Церковь предстает этим местом преображения, осуществляемом через таинства и богослужение, и открывает себя по существу евхаристической, божественной жизнью в человеке, явлением и иконой небесной реальности. С этой точки зрения, как Ecclesia orans (Церковь молящаяся), Церковь больше освящает и благословляет, чем учит.
Отцы Церкви углубляют идею апостола Павла о “сыновстве” в интерпретации апостола Иоанна: сын – это тот, в ком Бог сотворил Свою обитель, это “местопребывание” божественного. Святой Дух ведет нас к Отцу в Иисусе Христе, делая нас “составляющими одно тело” (Еф.1:6), – образ, явно вытекающий из евхаристии. Так, святой Кирилл Иерусалимский делает очень сильный акцент на том факте, что участники Трапезы, “закваски и хлеба бессмертия”, становятся единотелесными и единокровными Христу. Молитва святого Симеона Метафраста, читаемая после причащения, подчеркивает это:
Давый пищу мне Плоть Твоею волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу... Вразуми и просвети мя. Человек соединяется со Христом, “охристовляется”, “прах получает царственное достоинство... превращается в царственную субстанцию”.
Имеется близкое соответствие между ступенчатым путем таинств и жизнью души во Христе. Посвящение через крещение и миропомазание завершается в евхаристии и совпадает с вершиной мистического восхождения, теосисом. И то, и другое взаимно раскрывают друг друга, являют одно и то же мистически тождественное событие. Именно здесь подтверждается золотое правило всей святоотеческой мысли: “Бог сделался человеком, чтобы человек стал богом”, и мы соприкасаемся к самой сутью православной духовности: “Человек становится по благодати тем, чем Бог является по природе”.
Аскетическая жизнь ведет к теосису посредством постепенного восхождения по ступеням “райской лествицы”. Напротив, сакраментальная жизнь немедленно дарует благодать. Проповедь святого Иоанна Златоуста, читаемая во время Пасхальной заутрени, хорошо выражает это безмерное изобилие:
Войдите все в радость Господа своего; одни и другие принимайте награду. Богатые и убогие, ликуйте друг с другом. Воздержанные и ленивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся – возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, все наслаждайтесь. По словам того же автора, в евхаристии Христос “растворяет в нас небесную реальность Своей Плоти”, вливает ее в нас; и все духовные авторы настаивают на “огне”, который мы потребляем в святом причащении. Слова “огонь пришел Я низвести на землю” (Лк.13:49) говорят именно об этом евхаристическом пламени.
По образу хлеба и вина, человек становится частицей природы, обоженной Христом. Закваска бессмертия, сама сила воскресения соединяется с нашей природой, и божественные энергии проникают в нее. Можно сказать, что аскетическая и мистическая жизнь является все более и более глубоким осознанием сакраментальной жизни. Их описание с помощью того же самого образа мистического брака указывает на одинаковую природу обоих.
Литургическая, или доксологическая, антропология
Православное учение не знает разрыва: существует множественность планов и эонов, но всегда с таинственной непрерывностью и тесным взаимодействием. Даже во всемирной истории оно видит религиозное явление; так, например, язычество называется в богослужении “языческой неплодящей Церковью”, но все-таки Церковью. Образ, очень близкий отцам Церкви, когда они говорят о грехопадении, – это целостность, “разбитая грехом на мелкие куски”. В Своем бесконечном долготерпении Бог все время начинает заново, “склеивая” разрозненные частицы чтобы восстановить первоначальное единство. Это дало отцам Церкви мысль, богатую последствиями для истории религий и миссиологии: они говорят о “посещениях” Словом до воплощения религиозных миров, чуждых Откровению. Так Слово является в еще более кенотическом, более скрытом виде в языческой внебиблейской, или “невидимой”, Церкви.Непрерывность планов сближает ангельский мир с человеческим, и эта очень тесная близость небесных сил помогает перейти от первоначальной попытки к завершению, от пустоты к харизматической полноте, gratia plena (исполненной благодати) и обуславливает агиофаническую антропологию в ее литургическом и доксологическом аспектах.
“Малый” и “Великий вход” во время Божественной литургии сопровождается входом ангельской иерархии. Человек присоединяется к их песне, в начале в Трисвятом – “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный”: Отец – Источник святости, Святый; Сын – Крепкий, Тот, кто попрал смерть; Дух Святой, Животворящий – дыхание жизни. Следующая, Ангельская песнь, подытоживает тему анафоры, евхаристического троичного поклонения; человеческое служение и ангельское служение вновь объединяются в одном и том же порыве поклонения: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея”. Слова “будьте святы”, “будьте совершенны” указывают на одну и ту же плерому (полноту), положительное содержание будущего века, исполненного славой и начинающегося уже здесь, на земле. Святой – это не сверхчеловек, а тот, кто открывает и переживает истину человека как существа литургического. Антропологическое определение находит свое самое точное и самое полное выражение в литургическом поклонении: человеческое существо – это человек Трисвятого и Ангельской песни: “Буду петь Богу моему, доколе есмь” (Пс.134:33). “Авва Антоний, который жил в затворе, узнал однажды в видении, что человек, равный ему по святости, исполнял в миру ремесло врача. Он отдавал бедным всю свою прибыль и пел каждый день Трисвятое, присоединяясь к хору ангелов”. Именно для такого “действия” человек “выделен”, сделан святым. Петь своему Богу – это его единственное занятие, его единственная “работа”. “И все Ангелы... и старцы и четыре животных... пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его” (Откр.1:11, 13:4). Наиболее часто встречающееся в катакомбах изображение – это фигура молящейся женщины, “оранта”, она представляет единственное правильное положение человеческой души. Недостаточно иметь в себе молитву: нужно стать, быть молитвой; устроить себя наподобие молитвы, превратить мир в храм поклонения, в космическую литургию, предлагать не то, что имеешь, а то, чем являешься. Это весьма излюбленный сюжет в иконописи, он обобщает евангельскую весть в одном слове: χαι ρε, “возрадуйтесь и поклонитесь... всякое дыхание да хвалит Господа”. Это чудесное облегчение тяжести всего мира и самого человека: “Царь царствующих, Христос приходит”, – и это есть единое на потребу.
Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подъимем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Как и в “аминь, аминь, аминь” эпиклезы, это троичная печать, и мы ее вновь встречаем в словах “Царство и сила и слава” в славословии молитвы Господней. Это Царство не только грядет (литургическое воспоминание поминает то, что грядет), литургическое время есть уже приход, пришествие. И именно для того, чтобы ответить на свое призвание быть литургическим, человек становится харизматическим и духоносным: “Вы запечатлены обетованным Святым Духом... в похвалу славы Его” (Еф.1:14). Невозможно более точно выразить литургическое предназначение человека.
Святоотеческое размышление направлено всегда к opus Dei, к вечному славословию. “Я приближаюсь, воспевая Тебя”, – говорит святой Иоанн Лествичник и великолепно являет ту же радость, которой проникнуты крылатые слова святого Григория Назианзина: “Твоя слава, о Христе, – человек, которого Ты сделал словно ангела и певца Твоего сияния... Для Тебя я живу, говорю и пою... Вот единственное приношение, которое мне остается из того, чем я владею”. Святой Григорий Палама: “Просветленный человек достигает вечных вершин... и уже здесь, на земле, становится всецело чудом. И даже не будучи на небесах, он соревнуется с небесными силами в непрерывной песне; находясь на земле словно ангел, он ведет к Богу всю тварь”. Церковь глубоко тайноводственна: она “благодатно” вводит в измерения литургического времени и пространства, единство которых обусловливает богослужение, воспроизводящее все моменты жизни Господа, и позволяет верным участвовать в ней. Ее чудо заключается в том, что ее опыт предлагается всем: “Собравшись в храме Твоем, зрим себя в свете славы Твоей небесной”, – поет Церковь.
Глава V. АСКЕТИЗМ
“Эсхатологический максимализм” монашеской аскезы являет в бегстве в пустыню выход навстречу Второму пришествию всех тех, кто пламенно жаждет Царства. Зов пустыни, неодолимая сила ее притягательности, объясняется тремя главными причинами: освобождением от всякой власти, исходящей от мира; непосредственной борьбой, с открытым забралом, с дьявольскими силами; поисками адамова отечества.Евангелие учит нас, что пустыня – это преимущественное жилище бесов (Лк.13:24, 1:23). Когда святой Антоний удалился в безлюдье пустыни, он вызвал возмущение бесов против нарушения их прав: “Выйди из наших владений!” Видя его учеников, они жалуются: “Нам нет больше места... сама пустыня наполняется монахами”. Кассиан раскрывает тайное стремление отцов-пустынников: “В своем желании открыто и непосредственно сразиться с бесами, они не боятся проникать в бескрайние безлюдные области пустыни”. “Богатыри” аскезы (ἄσκησις означает упражнение, усилие, борьбу (1Кор.1:24–27; Мф.13:12) могли помериться силами с бесами, т. к. они одни были способны видеть их лицом к лицу и могли переносить это ужасное зрелище (аскеты говорят о невыносимом зловонии бесов и о “духовной тошноте”, которую они вызывают).
Несмотря на авторитетность правил святого Василия, рекомендующих монахам общинную жизнь, отшельническая жизнь в православии обладала всегда преимуществом над монастырской. На это существует серьезная причина. Монашеская духовность – это неотъемлемая составляющая духовности Церкви, обладающая нормативной ценностью для каждого в качестве внутреннего расположения души. Оно выражает основное стремление, скрытое под различными формами, к евангельскому “единому на потребу”. Согласно 133-й Новелле Юстиниана, “жизнь монашеская является священной”. Следовательно, аскеза имеет харизматический характер, на чем настаивает святой Кирилл Иерусалимский. А святой Василий в своих Правилах объясняет причину этого, сравнивая монахов с “употребляющими усилие” из Евангелия, которые “восхищают Царство Небесное”. Великая схима (так называемая последняя ступень “великого образа”) – это состояние благодати, которая приобщает к безмолвию и к высшей сосредоточенности исихазма. Святой Афанасий, описывая святого Антония, отца монашества, как того, кто достигает совершенства, не вкусив мученичества, отмечает самый важный поворот в истории христианства. “Крещение кровью” мучеников превращается в “эсхатологическое крещение” аскезы. Настоящий монах достигает не просто состояния души, но цельности “ангела на земле”, он – “исангелос” (равноангельный) с лицом “распятой любви”: будучи свидетелем последних времен, он уже переживает “малое воскресение”. В словах “если хочешь быть совершенным, пойди, продай, что ты имеешь он слышит: “продай то, что ты есть”. Это полная жертва; от этического отречения осуществляется переход к онтологическому отречению, и это есть отвержение себя. После того, как отдано все, что имеется (бедность), предлагается все, чем являемся (богатство в Боге), что проливает свет на древние каноны, разрешавшие самоубийство лишь в одном случае, когда девственнице грозит изнасилование. Свободно предложенная девственность прославляет внутреннюю ценность мученичества:
Агница Твоя, Иисусе, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе. Это последний завет апостола Павла: “Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою” (2Кор.13:2). Более того, целомудрие души и чистота сердца рассматриваются отцами пустыни как выражение апостольства: “апостольский муж” означает харизматика, который осуществляет последние заветы Евангелия от Марка (Мк.13:17–18). У него апостольская душа, т. к. она, наполненная дыханием Духа, становится сама непосредственным и удивительным свидетелем Божьей любви. Человек пал ниже своего существа – аскеза возвращает ему его человеческое достоинство, возвышая его над самим собой. Через аскезу апостольство свидетельствует о состоянии новой твари.
Чудо на браке в Кане Галилейской, превращение воды в вино, дает классический образ преображения человеческой природы, к которой направлены все усилия аскезы. Это метаноя, переворот во всем домостроительстве человеческого существа, или второе рождение в мире Духа. Чин запрещения дьявола перед крещением порывает с властью князя мира сего, а обряд пострижения показывает, что весь человек стал иным, отличным по самой своей природе. Итак, это самый радикальный разрыв с прошлым, самая реальная смерть и не менее реальное возникновение новой твари: “Се, творю все новое”. Николай Кавасила говорит об этом, описывая обряд снятия одежд:
Мы идем к истинному свету, ничего не унося в себе... Мы покидаем кожаные ризы, чтобы вернуться назад, к царской мантии... Крещальная вода уничтожает одну жизнь и создает другую”. Путь аскезы непосредственно вытекает из того, что происходит в таинствах. Каждая остановка на этом пути знаменует отступление: “озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия”, т. к. всеобщность этой новой жизни и ее динамизм определяют стремление к последнему, к невозможному, к “безумию”, с точки зрения здравого смысла мира сего. В противоположность какому бы то ни было квиетизму, аскетический эпектаз (исхождение) не ослабляет своего напряжения даже в будущем веке и определяет, таким образом, бесконечное развитие.
Существует разница в природе аскетизма и морализма. Морализм регулирует этическое поведение, подчиняя его моральным императивам. Но всякое построение, основанное только на природных силах, непрочно. Под его видимостью вполне может скрываться фарисейство “смирения паче гордости”. Однако “добродетель”, по словам аскетов, это человеческий динамизм, пробужденный присутствием Божиим.
1. Синергия
Непобедимый оптимизм православной духовности и присущая ей тональность происходят из понятия образа Божия в человеке, от веры в человека как в дитя Божие. Он противостоит гностическому фатализму, навязчивому страху предопределения, мрачному представлению о massa damnata (осужденной массе). Восток никогда не был затронут пелагианским уклоном. Падшая, глубоко уязвленная природа может побороть саму себя, только будучи поддержана божественным действием. По поводу потерянной драхмы Николай Кавасила замечает: “Это Господь склонился над землей и нашел Свой образ”. Ведь именно грехопадение поколебало творческую способность действий, разрушило подобие, но оно не затронуло образ, и поэтому Учитель его находит. Благодаря образу человек сохраняет первоначальную свободу выбора, определенную исходную независимость суждений. Даже в ветхозаветные времена желание добра существует, – по крайней мере, демонстрирует полноту свободной воли в самом этом желании, – хотя человек и не может его реализовать в своей жизни. В своем богословии благодати отцы Церкви, следуя за Оригеном, предупреждают об опасности, состоящей в смешении свободной воли намерения и свободной воли действий. Перед non posse non pessare (не мочь не грешить) блаженного Августина Восток утверждает полную свободу первого движения воли вне всякого принуждения или причинности, ее способность выразить fiat (да будет так): желание спасения и исцеления. В некоторой мере, это желание уже действенно, ибо отвечает на желание Бога и таким образом готовит и привлекает приход благодати. Однако даже эта способность никогда не является чисто человеческой. В предвосхищении Христа она богочеловечна еще до Христа, т. к. благодать усыновления врожденна; и, будучи частью человека с момента его творения, она скрыто присутствует в каждом чисто человеческом действии.
После “оживления” образа при крещении, именно после согласия воли (чин запрещения дьявола, отречения от сатаны и исповедания веры) благодать восстанавливает подобие-участие для того, чтобы реализовать возможное богоподобие. Психическое тело достигает вершины в теле духовном, эгоцентрическая и демоническая индивидуальность – в теоцентрической личности. Внутри благодатного порядка человек не может более не быть свободным, т. к. в соответствии с образом его свобода согласуется со свободой божественной. Восток не мог следовать блаженному Августину, не отрекаясь от себя и не изменяя себе.
В представлении греков Бог отказался от Своей исключительной власти с того момента, когда Он наделил человеческое существо даром свободы. Святой Максим и Николай Кавасила выделяют главное: человек не есть “вторичная деятельность”, т. к. благодать никогда не подменяет свободу. Импульс желания принадлежит человеку, что отчетливо показывает его отличие от только лишь раскаяния и не-отказа от благодати (“должная заслуга” схоластов).
Диалектика избранных и частичного искупления только этих избранных никогда не возникала в писаниях святых отцов. Спасение потенциально всеобще, т. к. Христос умер за всех. Вопрос предопределения сознательно остается без внимания, и как проблема он не имеет решения и остается апофатическим. Восток следует Духу, который “обращается к прошлому, чтобы возвестить наперед”, и видит во Втором пришествии скорее явление Божественной Славы и космическое преображение, чем Суд.
Слова “Верую, Господи, помоги моему неверию”(Мк.1:24) находят такое толкование у святого Максима: “У человека есть два крыла, чтобы достигнуть неба – свобода и с нею благодать”. Каждому усилию воли, чтобы его осуществить, помогает благодать. Это – “взаимодействие”, диалог, “общение свойств” и никогда – не действие двух причин или просто осуществление связи творения с Богом. В самом ее принципе благодать является печатью двух инициатив, но при этом она соединима только с нашей полной жертвой.
“Труд и пот” аскетических усилий полностью принадлежат нам и ничуть не уменьшают предвосхищаемой безвозмездности благодати. “Дела” для восточной духовности не означают моральных действий (в смысле протестантского противопоставления веры и дел), но скорее богочеловеческую энергию, человеческое действие внутри божественного действия. “Бог творит все в нас: и добродетель, и знание, и успех, и мудрость, и добро, и истину, мы же не приносим абсолютно ничего другого, кроме доброго расположения воли”, – замечательным образом конкретизирует святой Максим Исповедник.
2. Аскетическая жизнь
В отрицательном смысле и с земной точки зрения, аскетизм есть “невидимая брань”, ведомая непрерывно, без передышки. В положительном смысле и с небесной точки зрения, он есть просветление, приобретение даров и харизматизм. Согласно соответствующему толкованию преподобного Серафима Саровского, неразумные девы из евангельской притчи (Мф.13:1–13) были полны добродетелей, т. к., хотя и “неразумные”, они оставались однако “девами”. Но они были лишены даров Святого Духа. Вот почему молитва, обращенная ко Святому Духу, просит: “очисти ны от всякия скверны” и “прииди и вселися в ны”.
Аскет начинает с лицезрения своей собственной человеческой реальности. “Познай самого себя”, т. к. “никто не может знать Бога, если он не познал сначала самого себя”. “Тот, кто узрел свой грех, более велик, чем тот, кто воскрешает мертвых”, и “тот, кто узрел самого себя, более велик, чем тот, кто узрел ангелов”. Можно понять глубину подобного видения, т. к. самый большой парадокс зла, согласно святому Григорию Нисскому, состоит в том, что погружает существование в несуществование. Этот призрачный небытийственный характер зла самого в себе резко выделен в мысли святого Григория, который упоминает также его паразитический аспект: страсти растут словно “бородавки” – μυρμηκίαι, чудовищные наросты на благом существе. Атеистический экзистенциализм делает из этого философию абсурда: “У бытия нет смысла, нет причины, нет необходимости”; “Все существующее рождается беспричинно, продолжается по слабости, умирает случайно”.
Мы узнаем здесь три барьера греха, о которых говорит Николай Кавасила и которые устранил Христос: природное несовершенство, извращенную волю и, наконец, смерть. Вне Христа остается неэкзистенциальный бунт (Камю, Батай) против абсурда, – бунт неэффективный, т. к. в конце его ждет уничтожение. Ужас оборачивается в бред “мучительной радости”, проявляющейся в “диком и нечеловеческом смехе”. Последняя степень падения состоит в одиночестве сознательного отказа от благодати – таково соборное определение смертного греха.
Канон святого Андрея Критского (читаемый во время Великого поста) и канон святого Иоанна Дамаскина (из заупокойной службы) вводят в совершенную науку о человеческой душе и представляют собой нечто вроде аскетического скафандра для спуска и исследования ее пучин, населенных чудовищами.
После такого “мгновенного снимка” своей собственной бездны, душа действительно стремится к божественному милосердию (“В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну”). Восхождение является постепенным, “лествица райская” святого Иоанна Лествичника развертывает свое мистическое движение по ступеням, из которых лишь последняя изображает милосердие. Таким образом, аскетическая мудрость предупреждает об опасной легкости всякой игры в любовь. Истинная любовь приходит как плод духовной зрелости и, как венец, завершает ее.
Атмосфера смирения, которая все более и более углубляется и поддерживается, окружает жизнь аскета на всем ее протяжении. Святой Антоний в момент своей смерти, уже весь сияющий от света, сказал: “Я даже не начинал покаяния”. Покаяние – это единственная сила, которая в корне разрушает всякий дух злобы, претензии и эгоизма, т. к. оно перемещает ось человеческой жизни в Бога; теперь человек более не заставляет вселенную вращаться вокруг своего ego, но сам находится в Боге и оказывается таким образом точно на своем месте.
В “невидимой брани” аскезы внимание направлено к духовному источнику зла. Видна большая разница между ней и латинским утверждением “infirmitas carnis” (“немощь плоти”) и еще более радикальным протестантским утверждением “creatura ex sese deficit” (“тварь, ущербная сама по себе”). Однако грех не идет снизу, от природы, – он совершается в духе и только затем выражается через психическое и телесное. Аскеза, таким образом, демонстрирует иерархическую структуру природы и стремится к господству духовного над материальным. Она содержит в себе аскетическую реабилитацию материи. Материя, также как и страсти, является доброй в руках учителей духовной жизни. У святого Максима Исповедника даже ἐπιθυμία, похоть, будучи очищенной, может превратиться в пламенное желание божественного.
3. Страсти
Очищение прежде всего борется со страстным состоянием – πάθος, неумеренным желанием чувственного. С помощью досконально изученной культуры “хранения духа” и духовного внимания аскетическая метаноя проникает до самых корней страстей. Климент Александрийский видит в страстях “движение души против природы”. Это александрийское учение об извращении порядка, искаженного чувственными желаниями (страстями), разделяется всеми византийскими духовными учителями. Грехопадение погружает существо в мир чувств, приковывает душу, местопребывание чувственности, к материи и нарушает таким образом согласие с божественным. Бог становится внешним в той мере, в какой страсти становятся внутренними для человека и отождествляются с “мрачными духами, обитающими где-то рядом с сердцем”. Вот почему аскеза, будучи прежде всего направленной на конкретную цель, изгоняет прочь богопротивные устремления, освобождает человека от мира (в смысле страстей) и делает его extra mundum factus (сделанным над-мирным). “Ошибка суждения с поврежденной способностью различения ценностей находит “противоестественный” объект, угождает ему и вводит беспорядок в разумную часть, в дух. Память слабеет, внимание рассеивается (как и внутренняя беседа, синдиасмос) и собирает нечистые помыслы. Желание приобретает “похотливую” и “гневливую” окраску и склоняется к согласию на грех. От потенциальной способности воля переходит к действию, и зло укореняется в душе, наступает грозное αἰχμαλωσία (букв.: пленение), рабство души. Поэтому совершенная наука о борьбе со злом побуждает к неослабному воспитанию аскетического внимания, бдения, непсиса, и в этом радикально противостоит сектам “чистых”, для которых все позволено в силу того, что они объявляют себя по ту сторону добра и зла (квиетизм Молиноса и Ла Комба). Отрицание или незнание аскезы ведет к серьезному непониманию законов духовной жизни, и упрощенческий фидеизм неизбежно смешивает психическое с духовным. Если “никто не может знать сам по себе то, что ему подходит”, то послушание аскетическому правилу ведет к совершенному равновесию, которое предохраняет от квиетистской недостаточности и от пелагианского излишества.
Действительно, “апатейа, или бесстрастие, состоит не в том, чтобы совсем не испытывать страстей, а в том, чтобы совсем не принимать их” и, таким образом, видеть и распознавать зло даже перед возникновением искушения совершить его. Дурное употребление желаний против природы отвлекает от единственного желания в соответствии с природой – желания Бога, “Единого на потребу”. Аскетическая культура является вовсе не разрушением страстей, но превращением их в “бесстрастную страсть” и их обращением к молчаливому ожиданию момента, когда Бог облечет душу в божественный образ. Это врожденный предисихазм восточной духовности, который обретет позднее свою определенную форму в исихазме. Аскетическое очищение творит из этого страсть веры, для которой “мрак” – “пропасть” является единственно возможным критерием близости Бога. Очищенный эрос проходит через полный отказ от всякого духа эгоцентрического обладания и становится любовью в самом сильном смысле – силой милосердия. Подобная жажда Бога, насыщенность желания Его, может даже помочь сформулировать определение святости. “Видеть реально Бога – это и означает никогда не насытиться в этом желании”. Непрерывное развитие, порыв, простирающийся до бесконечности, и этот постоянный выход за пределы самого желания, с его “неисчерпаемым изменением”, – все это обусловливает антиномичный опыт близости Бога. Чем более он велик, тем более глубоким является очевидность его трансцендентности. Когда душа отвлечена от самой себя в полном отречении, смирении, “знание превращается в любовь-союз”.
4. Аскетические средства
Аскетическая память о смерти противостоит acedia, ужасу, подавленности, и становится мощным напоминанием о вечности, радостной ностальгией по ней. Покаяние, со своей стороны, углубляет образ крещения, его нисхождения в ад и его победы над смертью. Оно вызывает сокрушение, страдание оттого, что мы оскорбили святость Бога, отказались от Его распятой любви до такой степени, что пролили Его кровь. Donum lacrymarum, харизма слез, характерна для одухотворения чувств. В противоположность сентиментальному умилению, слезы покаяния мешаются со слезами радости и являются продолжением очистительных вод крещения. Аскеза, по существу практическая и конкретная, изгоняет зло, оживляя тем самым добро. Передаются энергии духа: “Совершенная душа-это та, у которой даже сила страстей, παθητική δύναμις, обращена к Богу”, – и здесь покой, мир, исихия.
Когда непрерывная молитва становится постоянным состоянием, человек чувствует себя легким, освободившимся от земного притяжения, отбросившим свое ego. Мир, в котором живет аскет, есть мир Божий, поразительно живой, поскольку это мир тех, кто был распят и затем воскрес. При свете пламени, которое пылает в глубине его души, мы видим в “бедняке” то, что Евангелие называет “богатством в Боге”. От всего, что есть “обладание”, человек переходит к бытию. Человек становится воплощенной молитвой.
Бог прост, и лоно Отца есть единство. Зло сложно и поэтому рассеивает. Аскетизм собирает и объединяет “по образу” божественной простоты. Аскет, в единстве своего внутреннего мира, созерцает “истины вещей”, мысли Божии, и с помощью силы своего собственного единства направляет материальный план бытия к его конечному предназначению – быть хвалой Богу, или литургией.
Православие, мистически наиболее невосприимчивое к любому воображению, любому образному представлению, зрительному или слуховому, в то же время создало почитание иконы, окружило себя образами, соорудив из них видимую сторону Церкви. Так, икона “освящает очи созерцающих и возносит их ум к богопознанию”. Посредством богословия символов она возвышает ум к присутствию без формы и без образа. Икона исходит от воплощения и восходит к невещественному Богу. Природа проявляет себя, и в этом состоит иконософское учение о ней, дематериализованной, “невещественной”, но ничуть не лишенной реальности.
Восточная мистика является антивизионерской и объявляет всякое созерцание, связанное с воображением (волюнтаристский и воображающий метод созерцания), когда ум искажен иллюзией, будто можно “описать божественное в образах и формах”, “дьявольской ловушкой”. Правильное созерцание умозрительно и сверхумозрительно. Над речью и видением помещается озарение, divino modo, – невидимое, неслышимое и невыразимое. Знание через незнание отдается во власть света близости, не имеющего формы. “Кругообразное созерцание” возвращает душу к сердцу, и энстаз (вступление) совпадает с экстазом (исступлением). Видение мира как иконы небесного ведет к апофатическому познанию Пресвятой Троицы, к богословию в смысле отцов Церкви.
Глава VI. МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Великие духовные учителя единодушны в своем классическом учении о трех составных элементах духовной жизни – божественном, бесовском и человеческом.Божественный элемент проявляется как безвозмездный дар: “не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах” (Мф.13:17). Божественное присутствие и чистая благодать радикально трансцендентны: “Сие не от вас, Божий дар”, – говорит апостол Павел (Еф.1:8). На втором месте – демонический элемент, “человекоубийца от начала, отец лжи”, тот, кто чинит препятствия и в каждое мгновение вызывает ожесточенную борьбу: “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” (1Пет.1:8). Здесь человек является активным началом, а техника “невидимой брани” составляет аскезу. И, наконец, мистический элемент – это восприимчивость человека: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною” (Откр.1:20). Этот текст чисто евхаристического характера хорошо прилагается к тому, что можно назвать в мистической жизни литургией или даже внутренней евхаристией. Так, Николай Кавасила пишет труд о таинствах и называет его “Семь слов о жизни во Христе”; отец Иоанн Кронштадтский рассказывает о своем евхаристическом опыте в книге “Моя жизнь во Христе”. Постепенное озарение через причастие-участие составляет сущность мистического опыта. Впрочем, слово “мистика” больше употребляется на Западе; православие говорит об участии, об одухотворении и о теосисе. Но если каждый мистик непременно является аскетом, то из этого не следует, что каждый аскет является мистиком. Теосис – это никогда не награда. “Бог – наш Творец и Спаситель, Он не тот, кто измеряет и взвешивает, чтобы назначить цену делам”. Человек приносит жертву от своего сердца со всем своим аскетическим напряжением. То, что исходит от Бога, есть безусловный дар. “Если бы Бог смотрел на заслуги, то никто бы не вошел в Царствие Божие”. “Бог все творит в нас”, – говорит святой Максим, но это диалектическая и антиномическая истина: труд Бога сопровождается “потом” человека. Так что душа устремлена не столько ко спасению (в смысле “общественного” индивидуального спасения), сколько к ответу, которого Бог ожидает от человека. В центре грандиозной драмы библейского Бога стоит не взаимодействие благодати и греха, а воплощение – взаимодействие двух fiat (да будет) и встреча нисходящей любви Бога – κατάβασις – и восходящей любви человека – ἀνάβασις. Если и нужно что спасать в этом мире, то на первом месте в этом ряду находится не человек, а любовь Божия, т. к. Он возлюбил первым. Литургия настойчиво учит теоцентризму, божественному действию и смещает центр человека с него самого; ее взгляд направлен не на то, что происходит с человеком, но на то, что происходит, если взглянуть с божественной стороны. Во время Рождества литургический акцент делается не на человеческом, которое содержит несодержимое; а на несодержимом, которое вселяется в человеческое. Однако мистицизм не отождествляется лишь с созерцанием – оно является только одной из его форм. Мистическая жизнь есть по существу жизнь в божественном, и божественное на Востоке является прежде всего не силой, а источником, дающим начало новой твари и новой жизни.
Классическое учение различает три возраста духовной жизни: “Явление Бога дано было вначале Моисею в свете (διὰ φωτός); затем Он говорил с ним в облаке (διὰ νεφέλης); наконец, став более совершенным, Моисей созерцает Бога во мраке (ἐν γνόφῳ τὸν Θεὸν βλέπει)”.
Первая ступень-это πρᾶξις, или катарсис-очищение, вершина которого есть аскетическая ἀπάθεια. Вторая ступень названа облаком – это созерцание Бога в Его делах и в Его свойствах или Его именах (Премудрость, Могущество, Благость). Она переходит границы чувственного и возвышается до познания умопостигаемых вещей и божественной силы (γνω σις τη ς δυνάμεως). Третья ступень, обозначенная словом “мрак”, представляет чисто мистический опыт, восприятие чувством присутствия Бога в душе. Вернуться в себя – это значит обратиться к Богу и созерцать Его отражения в зеркале души. Это есть сведение умопостигаемого “я”, воспринятого как образ Божий, в себя, что позволяет видеть себя “местом Бога”. Видение является опосредованным, отраженным в душе. Θεωρία (созерцание) в очищенном состоянии имеет свойство быть объединяющей, неизреченной и “сверх-рассудочной”, а в своей высшей стадии – она источник единства (ἐνωτική).
Иконософия замечательно иллюстрирует сам принцип созерцания. Икона “возвышает ум к богопознанию”, она является переходом от символического богословия к богопознанию, т. к. она полностью устраняется перед “присутствием”, открывающим знаком которого она является. Она ведет и вводит в это присутствие. Икона является парадоксальным представлением, которое отрицает всякое представление; посредством видимой красоты она заставляет исчезнуть любой образ – от невидимого в видимом она ведет к чистому невидимому.
Ступени созерцания вынуждают последовательно проходить через все уровни сознания и все планы, которые им соответствуют в мире. Можно даже сказать, что в мистическом опыте очень корректно применяется феноменологическая редукция: первое обновление или отстраненность чувств ведет к чистой умопостигаемости, к обнаженности ума. Рецептивность переходит к воссозданию первоначального адамова богоподобного состояния. Став “способным к восприятию Бога”, дух ориентируется на теосис, порождающий единое. Это одухотворение исключает любого рода φαντασία, видения, зрительные и слуховые явления. Восхождение в своем мистическом движении сопровождается постепенным очищением и обнажением. Его принцип “подобное познается подобным” становится “подобное участвует в подобном” и, таким образом, постулирует постепенное соединение с Богом: “Вся душа целиком становится светом”. Происходит переход от незнания к гнозису, от φιλαυτία к ἀγάπη), от образа к подобию. “Слово Божие стало Человеком, – говорит Климент Александрийский, – для того, чтобы ты научился от Человека, как человек может стать богом” по благодати.
Т. к. конечной целью является Θεωρία τη ς ἀγίας Τριάδος, мистика света завершается мистикой мрака, гнозис – гипергнозисом. Но наиболее возвышенные мистические состояния совершенно исключают любое непосредственное видение Бога. “Тот, кто воображает, что видел Бога, видел самого себя и свое воображение”, – иронизирует святой Ефрем. По словам святого Исаака Сирина, “видение Бога” никогда не упраздняет веру, видение – это “вторая вера”, а никогда не непосредственное знание.
Апофатизм вполне определяет под одним и тем же названием два типа мистики. Если мистика света совпадает с порогом апофазы, то мистика мрака продолжает опыт, в котором апофаза становится методом познания через незнание. Так, святой Григорий Назианзин говорит о совершенно реальном познании и связывает его с воплощенным Словом, с совершенным объединением с Его человеческой природой; но в качестве общего правила, по словам святого Максима, “он (святой Григорий) предпочитал (до такой степени) отрицательные положения о Боге, что абсолютно не поддерживал никакого (положительного) положения или утверждения”. Так, приобщаясь к природе Бога, человеческий ум приобщается к Его непостижимости. Именно это откровение “великой очевидности” через Святого Духа носит название Великой благодати. Устремленная к ἔσχατον ὀρεκτόν, последней цели желаемого, “она выводит noûs (ум) за его собственные пределы” и вводит его во мрак – γνόφος. Он указывает не на бессилие или естественную слабость, обусловленную состоянием твари, а на бездонную глубину Бога. Мрак знаменует собой границу, доступную для созерцания, предел видения, и поэтому он “светоносен”. Душа оказывается вознесенной в даре смирения-послушания и более ничем не владеет. Так в своей полной немощи, признанной и пережитой как высшая свободная и ликующая жертва, условие восприимчивости, она узнает Бога. Таким образом, мрак символизирует мрак веры и опыт близости Бога.
Чем более Бог присутствует, тем более Он покрыт мраком. Интенсивность этого присутствия удерживает внимание духа и показывает, что инициатива полностью исходит от Бога. И эрос, по словам святого Григория Нисского, не содержит более никакого элемента эгоцентрического обладания, он является “интенсивностью агапэ” ἡ ἐπιτεταμένη ἀγάπη. Это непреодолимое притяжение души Богом: Бог как бы является магнитом. Душа находит Бога скорее через желание, чем через обладание, скорее через мрак, чем через свет, скорее через ученое незнание, чем через познание. И в постижении Его абсолютной трансцендентности реализуется наиболее внутренний опыт близости Бога. Итак, мистическое созерцание располагается за пределом дискурсивного мышления, оно является чистым невещественным зрением, откуда исключены чувства и рациональное знание. Экстаз в “уходе в самого себя” соединяется с энстазом (самоуглублением) и освобождая мистику от нее самой, передает ее Богу. Прекращение всякой познавательной деятельности находит свое высшее выражение в этом всеобъемлющем исихазме, в котором “мир превосходит любой мир”. Таким образом, мистическое познание принадлежит к “сверхумному” типу, оно помещается в продолжении отрицательного богословия, составляя его конечную цель или “переход к его собственному пределу”. При этом noûs (ум) отрицает самого себя в своей умопостигаемой деятельности и переходит свои границы, стремясь к сверх-знанию, к ὑπὲρ νου ς. Трансцендентность Бога затмевает любой природный свет, но Его имманентность делает мрак более чем светоносным и более чем очевидным, т. к. он рождает совершенное единство, ἕνωσις или обожение (теосис).
1. Обожение и Святой Дух
Творение мира оказывается в конце нисходящего движения действий Бога: от Отца через Сына во Святом Духе; восхождение человека, домостроительство спасения, напротив, следуют обратному порядку: от Святого Духа (который, по знаменитому святоотеческому изречению, для нас ближе, глубже нас самих) через Сына к Отцу, от духоносной глубины через устроение во Христе (как членов богочеловеческого Тела) к бездне Отца. В этом восхождении Святой Дух, не будучи ни “пассивным исхождением”, ни “выдыханием любви”, является как Дух Жизни, само излучение которого и есть агапэ (любовь). Святой Василий Великий в своей книге о Святом Духе ясно определяет Его посредническую роль: “Творение не обладает ни одним даром, который не исходил бы от Святого Духа; Он является тем Освящающим, который нас соединяет в Боге”. Пневматология, развитая главным образом на Востоке, называя Святого Духа “Сокровищем благих и жизни Подателем”, определяет Его как активный принцип любого божественного действия. Никоим образом не следует здесь видеть “пневматологическое” или “мистическое монофизитство”, которое растворяло бы человеческую природу Христа в нетварном свете Святого Духа. Домостроительство Отца и домостроительство Святого Духа сходятся к Отцу, источнику троичного единства и духовной жизни людей. Святые полностью существуют в реальности воплощения, и “их сердца воспламеняются любовью ко всему творению”. “Молитва Иисусова” призывает человеческое имя Спасителя и внутренне связана с евхаристической тайной, которая содержит в себе эпиклезу, предваряющую ее. На самом деле, Восток не установил четких разграничений между дарами, харизмами, моральными и богословскими добродетелями, не установил различия между благодатью постоянной и действующей в данный момент, но он сразу настоял на огненной, динамической природе благодати во всех формах участия с целью обожения (теосиса). Душа, ставшая по благодати духоносной, охристовлена, и это есть мистический γάμος (мрак) и обоживающее усыновление Отцом.
Символ веры называет Христа “Свет от Света”, а крещение в церковной традиции именуется “просвещением”. Преподобный Симеон восклицает: “Твоя душа, приняв благодать, вся засияет подобно Самому Богу”. В этом – все богословие святого Григория Нисского: душа принимает в себя солнечный диск, приемлет вселение, воспринимаемое очами веры. Солнцеподобное око видит то, что ему однородно, соприродно, и свет является его элементом. Глаз не только захватывает, но также и является излучателем света, и для этого он должен совпасть с оком Голубя, оком Святого Духа. “Слава очей – это быть очами Голубя”, тогда человек видит посредством Святого Духа. Так свет Фавора, созерцаемый исихастами, являет нетварную божественную славу. Два пути – озарения и единения – сходятся и восхищают дух к Богу. Это “малое воскресение”, вхождение в “бесформенный свет”. “По мере того, как дух приближается к видению Бога, он видит невидимость божественной природы”. Именно Жизнь является Истиной, и она никоим образом не может быть преобразована в знание. Однако при этом мы видим самую упорную настойчивость на двух аспектах, которые образуют структуру мистического единства: наиболее реальную близость Бога в обоженной душе и абсолютную трансцендентность того же Бога, который остается in se (в себе) вечно неприступным и бесконечно удаленным. Бог свободен в Своем замысле о мире и посредством Своей благодати входит с ним в отношения взаимности; не поглощая человеческую личность, Он ее одухотворяет Своими энергиями. И, более того, “кто хочет душу свою спасти, тот потеряет ее” (Мк.1:35). Душа достигает полноты своей реальности, только выходя беспрестанно к Другому и не принадлежа больше себе. Синтез в целости сохраняет эту неустранимую антиномию.
Святой Дух возвращает человеческий дух к его онтологическому центру, Он являет ему образ Божий, открытый божественной трансцендентности, и, с другой стороны, в своем церковном измерении открытый межличностной и взаимной глубине всех. Космическое милосердие “воспламеняет сердце любовью ко всей твари”. Это зрение сущностей, или логосов, сотворенных существ, мыслей Бога о мире. И по словам святого Василия, смирение-послушание помещает нас в “перспективу Христа распятого и смиренного”, что является радикальным отказом от всякого присвоения благодати Духа Святого.
Антисозерцательная тенденция противопоставляет эрос и агапэ и смешивает внутреннее самоуглубление с эгоцентризмом. Однако для святого Григория Нисского эрос расцветает в агапэ и в любви к ближнему. “Бог есть источник агапэ и эроса”, – говорит святой Максим. Они хорошо дополняют друг друга: эрос, движимый Святым Духом, идет навстречу божественной агапэ. Эпиклеза мистического союза является фундаментальной: именно потому, что человек стал духоносным, он становится христоносным. Царствие Божие, по Евангелию, есть “дар Святого Духа”. В западной мистике типа Таулера или Экхарта нет ничего промежуточного между душой и Христом. Для Востока же только Бог дает возможность познать Бога, и именно Дух Святой соединяет с Сыном и через Него с Отцом.
В глубине духовной жизни решается вопрос: отдать предпочтение деятельности или созерцанию? Так, святой Максим устанавливает равноценность монашеской и мирской жизни: созерцателям – видение Бога, деятельным – чувство божественного присутствия. Преподобный Серафим Саровский так же отвечает на этот вопрос: “Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся”. Все определяется присутствием Бога и продвижением в обоживающем причастии. Но Бог царственно свободен в преизобилии Своей благодати, и поэтому мистическая жизнь не располагает никакой техникой, она лишь находится в области аскезы. Бог таинственно избирает для Себя избранные сосуды и наполняет их Своим светом, как Он избирает Петра, Иакова и Иоанна в качестве свидетелей преображения.
Мистическая любовь наименее “организована”; сердце раскрывается во всю меру своей восприимчивости; однако существо мистика в самой его восприимчивости организуется догматом. Вне Церкви нет мистики. Мистическая жизнь достигает вершины свободы, но она внутренне поддерживается догматом, пережитым в таинствах, что предохраняет ее от какой-либо беспорядочной сектантской душевности. Цель мистической любви – “да двое едины будут” – является прежде всего важным выражением христологического догмата. Начиная с воплощения, полное выражение веры есть христология. Формирование Христа в человеке, его охристовление, не является ни невозможным подражанием, ни приложением к человеку заслуг воплощения, а является отображением в человеке самого воплощения, совершающегося и вечно продолжающегося в евхаристической тайне. Преподобный Симеон Новый Богослов показывает вершину мистической жизни в личной встрече со Христом, который говорит в наших сердцах посредством Святого Духа.
2. Непрестанная молитва
Устная молитва в своей классической форме есть чтение псалмов, “псалмопение души”; “слово Священного Писания укрепляет душу и изгоняет бесов”. Всякая восторженность сурово отсекается, чтобы достичь строгости и трезвения: следовать неприкрытым за неприкрытым Христом. Отделенная от всего и объединенная со всеми, душа восходит к единству с Богом. Устная молитва переходит в умную молитву, восторг духа, восхищение до небес, по апостолу Павлу. И такая молитва уже является Царствием Божиим.
Объединив свое внутреннее существо подвигом аскезы бдения и трезвения, мистик делает центром своей жизни горячую молитву, молитву по типу святогорского исихазма; это внутренняя и непрестанная молитва, так называемая “молитва Иисусова”: “Порази противника своего именем Иисусовым, т. к. нет оружия более могущественного на земле и на небесах”. Традиция синайского и исихастского мистицизма строится вокруг поклонения Имени: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго”. В этой молитве заключена вся Библия, вся ее весть, сведенная к ее самому простому исповеданию, что Христос есть Господь, исповеданию Его божественного сыновства, и следовательно, Троицы. Затем – признание бездны грехопадения и, наконец, призывание бездны божественного милосердия. Начало и конец собраны в одном слове, заряженном всей квазисакраментальной силой присутствия Христа в Его имени. Эта молитва непрестанно звучит в глубине души и обретает ритм дыхания; имя Иисусово в некотором смысле “прилеплено” к дыханию. Имя отпечатывается в человеке; он превращается в имя Божие, во Христа; и человек приобщается самым непосредственным образом к опыту апостола Павла: “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал.1:20). Встречаться лицом к лицу с искушениями в непосредственной борьбе прилично лишь для “сильных в Боге, подобных архангелу Михаилу; нам же, немощным, остается лишь прибегнуть к имени Иисусову”.
Частое призывание имени Иисусова вводит в присутствие Бога, это внутренняя литургия: “Сотвори из моей молитвы таинство”, – непрестанно взывает каждый верующий, и именно эта цель объясняет то, что идеальная молитва изгоняет рассудочные элементы, λογισμοί, и становится единым словом, μονολογία, и это слово – имя Иисусово. Бог присутствует во всех, но через сердечную молитву человек вновь приближается к божественному присутствию (святой Дионисий).
В этой традиции имя рассматривается как место богоявления; призывание имени Иисуса продолжает воплощение, сердце принимает Господа, сила божественного присутствия являет величие в себе: “Вот, Я посылаю пред тобою Ангела Моего... блюди себя пред лицем Его... ибо имя Мое в Нем” (Исх.13:20). Имя перенесено в ангела, с этого момента он является грозным носителем присутствия Божия. Мы ясно видим в Библии, что когда божественное имя произнесено в связи со страной или человеком, эти последние входят в близкие отношения с Богом. Окруженное священным трепетом, имя Божие могло произноситься только первосвященником в Иом Киппур (День очищения) в святая святых Иерусалимского храма.
“Иисус” (“Иешуа”) означает “Спаситель”. Nomen est Omen, имя есть предзнаменование, предсказание, оно содержит в потенции в скрытом виде уникальную личность и ее судьбу. Ерм говорит: “Имя Сына Божия... держит целый мир”, т. к. Он в этом имени присутствует, и мы Ему поклоняемся в Его имени.
3. Трезвение и мистическое состояние
Напоенная из литургического источника, направляемая догматом, мистическая жизнь поражает своей идеальной уравновешенностью. В противоположность всякой романтической сентиментальности, всякой “внутренней музыке”, всякому психологизму, она является по своей сути трезвой, строгой и в очень малой степени эмоциональной. Ее “страсть бесстрастная” безжалостно отвергает любое видимое или чувственное явление, исключает всякое любопытство. Даже экстаз, рассматриваемый обычно как признак мистического состояния, “есть дело не совершенных, а новичков”, как говорит преподобный Симеон. “Если вы видите юношу, взбирающегося по своей воле на небо, схватите его за ноги и сбросьте его на землю, потому что это совсем не на пользу ему”. Чудотворство, fama miraculorum, есть действие не духовное, а душевное, по словам Иоанна Ликопольского. Посвященные обычно советуют новичкам: “Если тебе предстанет ангел, отвергни видение, смири себя и скажи: я недостоин видеть”. А сатане, принявшему облик Христа, монах заявляет: “Я ничуть не хочу видеть Христа здесь, но в ином месте, в будущем веке”. “Не пытайся распознать во время молитвы какое-нибудь лицо или образ, даже невещественный, в присутствии Невещественного”, – советует Нил Синайский.
Видения редки, они приходят всегда как благодать и преодолевают инстинктивное сопротивление мистиков. Зрение нетварного света, сияние тела и его легкость вплоть до воспарения, но никаких кровоточащих ран, никакого чувственного благочестия. Икона в своей трезвости, которая доходит до определенной сухости исполнения и подавляет чувственное в схематизме удлиненных тел и намеренно темных ликов, благодаря этому очень проникновенному поучению делает невозможным всякий, даже легкий, намек на мистическую эротику.
Характерно, что православное благочестие совершенно не знает стигматов. Всякая имитация страстей, всякая драматизация страдающей человеческой природы Христа, всякое страдальчество (долоризм) остаются всегда чуждыми восточной духовности. В человечестве Христа она созерцает свой архетип, и в мистическом восхождении речь идет не о том, чтобы подражать Христу, а о том, чтобы стать христоносным, явить Его славу: “Твое лицо сияет в Твоих святых”. Точно так же Восток почитает в Кресте не дерево казни, но эдемское древо жизни, вновь зеленеющее посреди этого мира. Победоносный крест как знамение победы, заключающий в свои объятия все содержимое мира, сокрушает врата ада, и сам непосредственный опыт Преобразившегося и Воскресшего неизмеримо сильнее, чем ожидание или надежда, дарует пасхальную радость.
Восток не знает исповедей, мемуаров, автобиографий, столь любимых на Западе. Налицо четкое различие тональностей. Взгляд никогда не останавливается на страдающей человеческой природе Христа, но проникает за завесу кенозиса (уничижения). Западной мистике Креста и культу святого Сердца соответствует на Востоке мистика запечатанного гроба, из которого внезапно является вечная жизнь. Поэтому трагический аспект мистической ночи, или ночи чувств, очень мало развивается на Востоке; здесь можно найти только радикальный отказ от чисто человеческого, и это составляет начало аскетической науки. Это аскетическая, а не мистическая ночь, которая лишена всякого эмоционального элемента боли. Все, что связано с приятностью и томлением в союзе обожения, совершенно приглушено.
Богопознание главенствует над эросом, но это богопознание является невыразимым, т. к. сама любовь является познающей: познание и любовь совпадают, а разум и сердце становятся анонимными. Но язык мистиков в тех немногих писаниях, которые они оставили, отличен от языка богословов. Мистики говорят в терминах опыта и причастности. Перевести их на язык логической системы невозможно. Так, с одной стороны, утверждается: “Бог есть Творец, а душа есть тварь, и между ними двумя нет ничего общего”; а с другой: “Тот, кто приобщается божественной энергии, сам становится в некотором роде светом”. Святой Григорий Палама таким образом устанавливает принцип: “Следует утверждать две вещи одновременно и сохранять их антиномию как критерий благочестия”.
Хорошо видно, что мистическое состояние является выходом за пределы собственно тварного состояния. Бог ближе к человеку, чем человек к самому себе, и жизнь в божественном состоянии более сверхъестественно естественна, чем жизнь в человеческом состоянии. В крещеном человеке Христос является внутренним фактом. Это антиномичный опыт небытия и абсолютного бытия; не уничтожая зияния онтологической бездны, высшее Существо заполняет ее своим присутствием: “Я – человек по природе и бог по благодати”; тварь выходит из небытия и переживает условия божественной жизни. Бог выходит за пределы собственной трансцендентности: “Он приходит неожиданно, и без слияния Он сливается со мной... Мои руки – это руки несчастного, я кладу свою руку, и моя рука есть весь Христос”. Это схождение, пришествие Христа в душу, формирует ее по Его образу: “Если ты чист, то небо заключено в тебе, и так внутри себя ты увидишь свет, ангелов и самого Господа”. Это то, что святой Иоанн Дамаскин называет “возвращением оттого, что противно природе, к тому, что ей свойственно”.
4. Мистическое восхождение
Если смотреть свыше, то святой уже весь соткан из света. Не пытаясь каким-либо образом подражать, он следует за Христом, внутренне воссоздавая Его образ: “Чистота сердца – это любовь к слабым, которые падают”. Его душа расширяется и расцветает в космическом милосердии, она видит вселенское зло, проходит через агонию Гефсимании и возвышается до такого иного видения, которое избавляет ее от всякой возможности осуждения: “Тот, кто очищен, видит душу своего ближнего”; подобный видит подобного: “Когда кто-нибудь видит, что все люди добры, и никто не представляется ему нечистым, тогда можно сказать, что он подлинно чист сердцем... Если ты видишь, что твой брат склонен ко греху, набрось на его плечи плащ твоей любви”. Подобная любовь действенна, т. к. она “меняет саму суть вещей”.
Это уже более не переход от страстей к воздержанию, от греха к благодати, но переход от страха к любви:
Совершенный отбрасывает страх, гнушается наградой и любит от всего своего сердца... Что такое милосердное сердце? Это сердце, которое воспламеняется милосердием ко всей твари, к людям, к птицам, к зверям, к бесам, ко всем созданиям... Он молится даже за гадов, движимый бесконечным состраданием, которое пробуждается в сердцах тех, кто соединяется с Богом... Определенный знак, благодаря которому можно узнать тех, кто достиг этого совершенства, заключается в следующем: если бы по десять раз в день они предавались бы пламени милосердия к ближнему, это не показалось бы им достаточным. Душа становится выше всякого определенного знака, выходит за пределы всякого представления и всякого образа. Множественное уступает место “единому” и простому. Жизнь души, образа, зеркала Божия, становится жизнью души как обители Бога. Мистическое восхождение направляет душу к Царствию Божиему: “Если суть мудрости есть знание существующих вещей, то никого не будут звать мудрым, если он не объемлет также и грядущих вещей”. “Духовный человек последних времен, – говорит преподобный Исаак, – приемлет благодать, которая соответствует этим временам”. Вот иконописное видение “Божественной литургии”... Небесный хор ангелов, в котором “заблудшая овца”, человечество, занимает свое место, предстоит перед мистическим Агнцем Апокалипсиса, окруженным тройным кольцом сфер. На белизне небесного мира выделяется царственный пурпур страстей, переходящий в сияние незаходящего дня, имеющий иконописный цвет божественной любви, облекающей человечество. Это возвращение человека к своему небесному достоинству. Христос в момент вознесения уже вызвал восклицание ангелов: “Кто есть сей Царь славы?” И теперь ангелы в глубоком изумлении перед “последней тайной”: овца становится одним целым с Пастырем. Песнь Песней воспевает брак Слова и Голубицы. Любовь и любящий, душа, навсегда привлеченная, еще сильнее бросается в сияющий мрак Бога. И чувствуется бессилие слов: сияющий мрак, трезвое опьянение, колодец воды живой, неподвижное движение.
“Ты стала прекрасной, приблизившись к моему свету, твое приближение привлекло тебя к соучастию в моей красоте... Приблизившись к свету, душа становится светом”. На этом уровне речь идет не о том, чтобы научиться знанию о Боге, а о том, чтобы принять Его и превратиться в Него. “Наука, ставшая любовью”, определенно имеет евхаристическую природу: “Вино, которое веселит сердце, называется после страстей кровью винограда” и “мистический виноград вызывает трезвое опьянение”.
Душа, преобразившись в голубя света, все время взлетает. Каждое приобретение становится новой точкой отправления. Благодать – на благодать.
“Любовь – это Бог, пускающий стрелу, Своего Единородного Сына, омочив три грани острия животворящим Духом; острие – это вера, которая вводит не только стрелу, но вместе с нею и Стрелка”.
“После того, как ты поставил ногу на лестницу, которую поддерживает Бог, не переставай подниматься... т. к. каждая ступень все время ведет в горнее”. Это лестница Иакова, по которой спускаются “не только ангелы, но и Господь ангелов”... “Но что скажу я о том, что невыразимо, что око не видело, что ухо не слышало, что не приходило на сердце человеку, как можно это выразить словами?”
Всякое движение прекращается, сама молитва меняет свою природу. “Душа молится вне молитвы”. Это исихия, безмолвие духа, его покой, который превыше всякой молитвы, мир, который превосходит всякий мир. Это встреча лицом к лицу, простирающаяся в вечность, когда “Бог приходит в душу, и душа переселяется к Богу”.
В XVII в. мы видим православных западников: латинствующего митрополита Петра Могилу и патриарха Кирилла Лукариса, близкого к кальвинистам. Мы говорим “восточный” или даже “греческий”, имея в виду великую святоотеческую линию – святого Иринея, Климента Александрийского, обоих Кириллов, святого Афанасия, каппадокийцев, корпус Ареопагитики, Леонтия Византийского, святого Максима, святого Иоанна Дамаскина, святого Симеона Нового Богослова, Николая Кавасилу, святого Григория Паламу; монашеские произведения святого Макария Египетского, Евагрия, святого Нила Синайского, Марка Пустынника, Диадоха Фотикийского (Сотницы о духовном совершенстве), святого Иоанна Лествичника (Лествица Райская), письма Варсонофия и Иоанна, монахов Серидского монастыря. Иоанна Мосха (Луг духовный), Сотницы Фалласия, аввы Ливийского, Поучения огласительные Исаака Ниневийского, гимны преподобного Ефрема Сирина. Феодора Студита, Нила Сорского, Паисия (Величковского), преподобного Серафима Саровского и, наконец, труды Соборов, литургическую и иконографическую традиции.
Святой Григорий Нисский, Беседа на Песнь Песней 2, P.G. 44, 801 А.
Святой Григорий Нисский. Слово на Блаженства 6, P.G. 44. 1269 ВС. Это познание Бога всегда харизматично. Ориген очень категоричен в этом; благодать теории поднимает каждого человека над самим собой. См.: Против Цельса (Contra Celsum), P.G. 11, 1481 С; 1484 С.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 952 А.
По словам апостола Павла, духовный человек обладает “умом Христовым” – мудростью, которой учит Святой Дух (1Кор.1:10–16).
Святой Максим, Ambigua, P.G. 91, 1308 В.
Евагрий, Сотницы изречений о гностических вопросах, См. К. Rahner, “Die geistliche Lehre des Evagrius Pontikus”, in: ZAM, t. 8, 1933
Утреня Великой среды, 8 стихира, 4 глас, творение Кассиана
Восток противостоит любому дроблению сознания на независимые, изолированные измерения – любовь, знание, веру, надежду. Любовь, если она духовна. – то и разумна; разум, помещенный в сердце, – сердечен; вера, по словам апостола Павла, есть “уверенность в невидимом, следовательно, она есть до-понятийная и сверхрациональная интуиция небесных тайн. Святой Дух зовется святыми отцами “умным светом”. Он осуществляет единство во множественности через причастие неизреченному архетипу Святой Троицы. Святой Дух есть божественный Богослов, т. к., по словам святого Кирилла Александрийского, “через Тебя прославлена Пресвятая Троица” (Проповеди, 4, P.G. 77, 992). Именно в этом качестве Святой Дух не является ипостазированной любовью, а “Подателем любви”, высшего совершенства Пресвятой Троицы. С точки зрения этой полноты, вера без любви иллюзорна (Святой Макарий, Духовные беседы, XV, 1, P.G. 34, 761), а вера без знания не имеет ценности (Святой Дорофей, Наставления, XIV, 3, P.G. 88, 1776).
Главы богословские, гностические и деятельные, 1–36, 3–47, 3–58.
P.G. 44, 1001 С.
На Псалмы, P.G. 44, 780 С; 1001 В.
Сотницы глав гностических, 2, 74, P.G. 90, 1160 А.
Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, 60, P.G. 90, 624 А.
P.G. 44, 376 А; 44, 372 D.; Для преподобного Симеона Нового Богослова богословствовать также означает рассказывать о том, что было увидено с помощью божественного света.
Святой Григорий Назианзин, Слова, 15; Евагрий, Сотницы. 7.52; О жизни деятельной, 1.3; P.G. 40, 1221 D.
Святой Григорий Назианзин, Беседа на шестое блаженство.
Евагрий, дьякон Понтийский († ок. 399 г.). V Вселенский собор осудил его оригенистические заблуждения в учении, но его духовность является совершенно православной. См.: Viller, “Aux sources de la spiritualité de saint Maximë les œuvres d’Evagre le Pontique”, in: Revue d’Ascét. et de Myst., IX, 1930; I. Hausherr, в Orientalia Christiana, XXII, 2, 1931; “Le traité de l’oraison d’Evagre le Pontique”, in: RAM, t. XV, 1934 (Слово о молитве Евагрия Понтийского).
Сотницы, 5, 26.
Слово о молитве, 114.
О жизни деятельной, 1, 71.
Сотницы, 7, 21.
Гностик, 151.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 740 А.
Большое огласительное слово, 37, 12.
Слово о молитве, 60.
Святой Дионисий Ареопагит, О божественных именах, 701 b.
Святой Дорофей, Поучения, I, 1.
Евагрий, Слово о молитве, 87.
Святой Григорий Назианзин, Слова, XXXIII, 12, P.G. 36, 188.
Добротолюбие, английский перевод Кадлубовского, London 1951, р. 113.
Святой Григорий Нисский, На Песнь Песней, 44, 740 А.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 96 С.
Авва Исаия, Изречения, 22, N 8.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 1177 А.
P.G. 31, 581 А.
Письма, 20; P.G. 91, 601 С.
Евагрий, Сотницы, 4, 40.
Святой Григорий Нисский, VI беседа на Блаженства, P.G. 44, 1272 С.
Преподобный Симеон, “Гимны Божественной Любви”, в: Vie Spiriluelle 28, 1931, p. 202.
Святой Григорий Нисский, На псалмы, 14; P.G. 44, 577 D.
“Один из самых сильных поэтических характеров христианского Востока”, по словам Р. Мааса (R. Maas, EOR, 1928, р. 97).
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 740 А.
Евагрий, Сотницы, доп. 29.
Кроме того, бытие здесь не то же, что бытие твари.
Святой Максим. P.G. 91. 1229 С; 91, 1224 ВС.
См.: Tixeron, Histoire des Dogmes, t. 2., p. 201: также Святой Максим. Толкование на “Небесную иерархию” Дионисия, 4, P.G. 4, 56 ВС.
Изд. Bedjan, р. 320.
О жизни Моисея, P.G. 44, 377 В; На Псалмы, P.G. 44, 1028 D.
Святой Дионисий, Мистическое богословие, P.G. 3, 1000.
Святой Дионисий, Мистическое богословие, P.G. 3, 1001.
Святой Григорий Нисский, О жизни Моисея, P.G. 44, 1001 В.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 1057 А.
P.G. 45, 945 D.
Фома Аквинский, Quoestiones disputatoe, qu. VII, а, 5.
Святой Григорий Нисский, P.G. 46, 97 А; 44, 404 D.
Святой Максим Исповедник, Ambiqua, P.G. 91, 1048 D; 1049 А.
См.: Архим. Киприан (Керн), Антропология святого Григория Паламы, YMCA-Press, 1950; Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV–VII вв., Париж, 1990, в 2-х тт.; Карсавин Л., Святые отцы и учители Церкви, Париж 1926; Лосский В., Очерк мистического богословия Восточной Церкви, М., 1991; P. de Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne, Paris 1929; A. Puech, Histoire de la littérature grecque chrétienne, Paris 1930; F. Cayré, Précis de Patrologie et d’Histoire de la Théologie, Paris 1930; B. Altaner, Patrologie, Herder, 1938.
Амфилохия, вопрос CCLII.
Для святых отцов “богословие” означает прежде всего тринитарное богословие. Соответственно, и в дисциплинарном плане, именно тринитарные ереси осуждаются особенно сурово.
“Знание о себе и знание о Боге так тесно связаны между собой, что душа познает Бога одновременно в себе и через себя” (Е. von Ivanca, “La connaissance immédiate de Dieu chez saint Augustin”, Scholastik, 1938, p. 522).
Это то, что называют психологической теорией исхождений, или тонким анализом человеческой души с целью увидеть в ней образ Пресвятой Троицы. Ср.: Бл. Августин, О Троице, P.L. 42, 931–982.
Об устроении человека; О житии Макрины; По образу Божьему.
Человек может быть определен лишь свыше, по своему божественному Архетипу. Поэтому православное богословие не принимает идеи “чистой природы”.
Принимать избрание благодатью и отвергать избрание смертью “по-детски”, “это слишком большая глупость”, – говорит Кальвин...
Однако текст Рождественской службы, истолковывающий слова Ин.1гласит, что ангел с огненным мечом отступает от древа жизни – евхаристии.
P.G. 49, 401; также святой Григорий Нисский, О девстве, P.G. 46, 374 CD.
Annus est Christus (Год есть Христос): в литургическом смысле весь год и все его дни являются днем спасения. Templum est Christus (Храм есть Христос): все точки пространства являются частями Templum mundi (мирового Храма), они священны в той мере, в которой они причастны ко вселенскому присутствию Христа.
Святой Исаак, Wensinck, с. 310.
Марк Пустынник, “О тех, кто думает оправдаться делами”, в: Добротолюбие, т. I.
См.: A. Blum, “Contemplation et ascèse”, in: Etudes Carmélitaines, 1949, p. 51.
Дионисий Ареопагит применяет к воплощению слово филантропия, человеколюбие, любовь к людям, которое стало самым употребительным литургическим термином.
Мар Исаак Ниневийский, О религиозном совершенстве. См. Irénée Hausherr, “Un précurseur de la théorie scotiste sur la fin de l’lncarnation”, in: Revue des Sciences Religieuses, 1932. Можно также предположить влияние святого Максима на сходное учение в богословии Дунса Скота. По поводу различия в акценте, мистическом у восточных авторов и моральном у латинских, в учении о воплощении см. статью F. Vernet в Dictionnaire de Théologie Catholique, t. VII, coll. 2469. Cp. P. Beuzart, Essai sur la théologie d’Irénée.
Пир десяти дев. III, 4.
См.: Схолии к Фалассию, Главы богословские.
См.: Против ересей и Epideixis.
См.: О явлении во плоти Бога Слова, против ариан.
“Рожденный прежде всякой твари” (Кол.1:15); “Второй человек – Господь с неба” (1Кор.13:47); “Сошедший с небес Сын Человеческий” (Ин.1:13).
Агнец Божий, Париж, YMCA-Press, 1933.
Евр.1:19–20; см. Mgr. Cassien, “Jésus lе Précurseur”, in: Théologie, v. 27, Афины, 1956.
P.G. t. 36, col. 653.
Святой Максим Исповедник, Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, 43, P.G. 90, 412 А; Сотницы глав гностических, 26 99, P.G. 90, 1172 D.
Святой Григорий Нисский, Слово на Воскресение Христово, 1, P.G. 46,609 CD; Святой Григорий Назианзин, Слова, 40, 36, P.G. 36,412 Редакция «Азбуки Веры»
Святой Григорий Нисский, Поучения огласительные, 5; P.G. 45, 21 CD.
Святой Григорий Нисский, О младенцах, преждевременно похищенных смертью, P.G. 46, 176 А.
Именно по этой причине общину аскетов обозначали словом synodia, что значит: “караван, идущий по обратному пути к истинной родине, к раю”.
О невозможности рассматривать человека как только человеческое существо, но как переход “между двумя” см.: М. Scheler, Vom Umsturz der Werte, 1919, vol. I. p. 296.
Можно даже сказать, что греческий текст Септуагинты есть перевод, вдохновленный свыше. Например, в Ис.1:14. – алма, на древнееврейском “молодая женщина», уточняется во вдохновенном толковании в греческом переводе как парфенос, “дева», и закрепляется так в тексте Евангелия (Мф.1:23).
R.P. Horn, “La Vie dans le Christ”, in Revue d’Ascétique et de Mystique, 1928.
См.: V. Zenkovsky, “La structure hiérarchique de l’âme”, in Travaux scientifiques de l’Université Populaire de Prague, II, 1929; Das Bild des Menschen in der Ostkirche.
Святой Григорий Нисский, Об устроении человека, гл. 16, Р.G. 44, 180 Редакция «Азбуки Веры»
См.: Б.П. Вышеславцев, Сердце в христианской и индийской мистике, Париж: YMCA-Press, 1929; Мах Scheler, Formalismus in der Ethik, H. de В., La Prière du Cœur, Paris 1953; La Prière de Jesus, par un moine de l’Eglise d’Orient, Ed. de Chevetogne (collection Irénikon); “Le Cœur”, Etudes Carmélitaines, 1950.
Здесь речь идет не об эмпирическом, познаваемом “я”, а о духовном “я”, трансцендентном всякому методу исследования, еще более – всякому любопытству. Предельное понятие, центр целостности, называемый Юнгом Selbst, Самость: “Самость – это словно чаша, готовая принять в себя божественную благодать”.
“Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может”(1Кор.1:5).
Об устроении человека, P.G. 44, 155.
См.: Б. Вышеславцев. “Образ Божий”, в: Путь, № 49.
Мистагогия, P.G. 91, 672 С.
Об устроении человека, гл. 5, P.G. 44, 137 С.
“Любовь есть дитя великого знания”, – говорил Леонардо да Винчи, но следует сказать как раз наоборот: знание есть дитя большой любви.
Святой Максим Исповедник, Ambigua, P.G. 91, 1213 АВ; Блаженный Августин, Исповедь, I, 1.
Беседа на псалмы, 2; P.G. 44, 801 А.
См. космологическую концепцию Ренувье: Renouvier, Le Personnalisme, моральную и социальную концепцию Е. Мунье: Е. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, P.T. Флюэлинга: R.T. Flewelling, Creative Personality, H. Бердяева, О назначении человека, Paris 1931.
В этом – все значение понятия эпектазиса у святого Григория Нисского. Бесконечность предмета любви усиливает и обновляет для вечности напряженный порыв (эпектазис), постоянное превосхождение себя по отношению к цели, которая никогда не может быть достигнута (О жизни Моисея; P.G. 44, 401 АВ). Бог остается на том же расстоянии, усиливается лишь желание по мере возрастания близости. Никакой опасности пресыщения, т. к. каждое начало порождает новое начало (Толкование на Песнь Песней, 8, P.G. 44, 941 С).
Homo viator, p. 32.
De refus a l’invocation, p. 190.
У стоиков личность означает роль, которую человек играет здесь, на земле (Руководство Эпиктета, 17; Беседы I, 29). Юридический смысл этого слова по-латыни (persona) восходит к этому понятию. Ср. Trendelenburg, Zur Geschichte des Wortes Person, Kant Studien, 1908.
Святой Василий, святой Григорий Назианзин, святой Григорий Нисский.
Невозможность четко различить индивидуальность и личность в философской мысли хорошо продемонстрирована А. Лаландом в соответствующих статьях в A. Lalande, Vocabulaire de la philosophie.
Святой Григорий Нисский, Против Евномия, P.G. 45, 365 В.
Святой Григорий видит его в “способности распознавать и созерцать”: Диалог о душе и воскресении, P. G. 46, 57 В.
Термин принадлежит Леонтию Византийскому. Любая природа реализуется только в своем ипостасном центре, она там ипостазирована (Против несториан и евтихиан).
Христологическое определение IV Вселенского собора (451 г.).
Слова, процитированные святым Григорием Назианзиным в его похвальном слове святому Василию, P.G. 36, 560 А.
Ambigua, P.G. 91, 1308 В.
Об исполнении христианства (Что значит имя и название христианина), P.G. 46, 244 С.
Святой Максим Исповедник, Толкования к трудным местам (Ambigua), P.G. 91, 1196 В.
P.G. 36, 632 С.
Труды богословские и полемические, P.G. 91, 16 В; Ambigua, 91, 1156 CD.
Traite des valeurs, I325.
Там же, I428.
Les puissances du moi, 155–156.
Святой Максим, Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, P.G. 90, 281 В. “Благодать Святого Духа не передает никакого дара без учета способностей и силы, соразмерных каждому человеку” (Ambigua, P.G. 91, 1121 С).
Святой Григорий Нисский, Об устроении человека, P.G. 44, 128 В.
Добротолюбие, т. I.
Толкования к трудным местам (Ambigua), P.G. 91, 1345 D.
Ср.: Н. Бердяев, О назначении человека, Париж, 1931.
См.: Кьеркегор, Повторение; Понятие страха; Дневник; Постскриптум.
P.G. 37. 776.
Для святого Максима это вершина свободы, именно здесь она чиста, т. к. является простой и всеобщей.
Выражение принадлежит о. Иву Конгару, который таким образом переводит русское слово соборность.
Выражение воспроизведено святым Максимом Исповедником, Ambigua, P.G. 91, 1056 ВС.
Там же, 91, 1044 D.
P.G. 44, 192 CD.
Святой Иоанн Лествичник, Лествица, P.G. 88, 644 А.
См.: Архим. Киприан (Керн), Антропология святого Григория Паламы, Париж: YMCA-Press, 1950.
Сотериология: учение о спасении.
Слово о воплощении Бога-Слова, P.G. 25, 192.
Против ересей, P.G. 7, 873.
Аскетический термин, означающий усилие очищения.
Евангельский термин, означающий радикальную перемену, обращение, покаяние.
Ср. В. Brinkmann, Geschaffen nach dem Bilde Gottes, P. Bratsiotis, “Genesis 1.26 in der Orthodoxen Theologie”, in Evangelische Theologie, IIe année, cahier 78, Munich 1952; Paul Zacharias, “Signification de la Psychologie de Jung pour la Théologie Chrétienne”, in Synthèses, № 115.
Климент Александрийский, P.G. 9, 293 В. Он говорит также, что евреи получают закон, язычники – философию, христиане – Истину в ее полноте (Строматы, VI, 9).
Основание иконографии по канонам VII Вселенского (Никейского) собора 787 г.
Святой Григорий Нисский, На псалмы. Беседа 4, P.G. 44, 446 ВС.
Теандрический – богочеловеческий.
Беседы (Hom.), XXVI, 1.
Святой Максим, Письма, 3, P.G. 91, 409 В.
Разумное начало: разум, ум, дух. См.: Régis Bernard, L’image de Dieu d’après saint Athanase, Paris 1952.
P.G. 31, 213 D.
P.G. 31, 909 BC; 912 A.
Поэмы богословские, VIII, P.G. 37, 452.
Слова огласительные, 5, P.G. 45, 21 CD.
Об устроении человека, P.G. 44, 257 С.
Ср. Святой Макарий, Беседы, XXIII, P.G. 34, 591.
Об устроении человека, P.G. 44, 184 АС.
Святой Григорий Нисский, P.G. 46, 244 С.
Послание к Автолику, P.G. 6, 1025 В.
P.G. 79, 1193 С.
“Наша природа по существу добра”, – говорит святой Антоний в житии, написанном святым Афанасием. Сотворенная по образу Божиему, природа может быть лишь доброй. Искупление возвращает природу не к сверхприроде, а к ее первоначальному состоянию, к ее “природной” истине. См.: V. Resch, La nature ascétique des premiers maîtres égyptiens, p. 9.
Три достоинства царственного священства верующих.
Со всеми оговорками по поводу подлинности и происхождения проповедей, приписываемых святому Макарию Египетскому. Эти писания оказали значительное влияние на формирование восточной мистики.
Тропарь заупокойной службы.
Преподобный Макарий, Беседы, XLV.
“Бог, Свет-архетип, переходит в людей” (Святой Григорий Назианзин, Слово на святое крещение, беседа XV). Святой Григорий Нисский и святой Григорий Палама настаивают на превращении человека в свет.
Восходящих.
P.G. 44, 441 В.
Святой Григорий Назианзин, Похвальное слово Василию Великому, 43, 48, P.G. 36, 560 А.
P.G. 37, 1327.
Всякий предел содержит в своей сущности запредельный мир, свою собственную трансцендентность, и вот почему душа может успокоиться только в бесконечном (См.: Святой Григорий Нисский, О жизни Моисея, P.G. 44, 401 В).
Духовные беседы.
Святой Григорий Нисский. Диалог о душе и воскресении, 13, P.G. 46, 96 С.
P.G. 46, 97 А.
Bergson, Deux Sources, p. 253.
Послание Варнавы, VI, 13.
"Точное изложение православной веры", II, 12.
Поэтому, потеряв подобие, человек исказил образ (Святой Иоанн Дамаскин, P.G. 96, 576–7).
P.G. 150, 1148 В.
Главное действие таинства миропомазания состоит в восстановлении подобия, в то время как крещение восстанавливает образ.
Против ересей, 5, 6, P.G. 7, 1138 Редакция «Азбуки Веры»
P.G. 45,21 С.
Каллист, P.G. 147, 860 Редакция «Азбуки Веры»
Святой Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры, I13.
Там же, II2, P.G. 94, 865 А.
Там же, 19.
Ambigua, P.G. 91, 1377 D; 1164 ВС.
Тварная София соответствует natura naturans, которая обусловливает natura naturata; эти выражения появляются в XII в. в латинских переводах Аверроэса. Они стали известны благодаря Спинозе (Этика, I29). Natura naturans – это жизненный принцип каждого действия; natura naturata – это совокупность существ и законов. См. также у святого Фомы Аквинского, Сумма богословия, I–II, 85; De divin. nomin. (О божественных именах), IV, 21.
Софиологи различают ясный и темный, дневной и ночной, лики Софии, соответствующие “вечернему знанию” и “утреннему знанию” у блаженного Августина. Ср. Мейстер Экхарт. О благородном человеке (Maitre Eckart, De l’homme noble. trad. Aubier Molitor, Paris 1942, p. 109 el 110).
См.: Прот. Василий Зеньковский. Проблема космоса в христианстве. Основные принципы христианской космологии; Вопросы образования в свете христианской антропологии.
Е. Трубецкой, Смысл жизни, Гл. III, Москва, 1918.
Среди различных софиологических концепций можно отметить взгляды В. Соловьева, о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова, князя Е. Трубецкого, о. Василия Зеньковского.
P.G. 44, 161 С.
P.G. 31, 909 ВС.
De Ambiguis, P.G. 91, 1260
Святой Григорий Нисский, Беседы на Псалмы, Проповедь 15.
Толкования к трудным местам, P.G. 91, 1308 В.
Святой Исаак Сирин (перевод Московской духовной академии, 1854).
Святой Максим Исповедник, Толкования к трудным местам (Amb.), P.G. 91, 1308 С.
Святой Максим, Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании (Qu. а. Т.), 60; P.G. 90, 612 Редакция «Азбуки Веры»
P. de Bachelet (Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 2, col. 688) отмечает, что мысль святых отцов “почти не задерживается на индивидуумах, но останавливается на человечестве, пришедшем к цели своего земного домостроительства”. Ориген в своей Беседе на книгу Левит показывает Христа неспособным наслаждаться совершенным блаженством, пока хотя бы один член Его Тела остается погрязшим во зле (Levit., hom. 7 n. 2) – “так как только единое тело ожидает своего искупления”. Святой Ипполит пишет: “Желая спасения всех. Бог призывает всех нас образовать единого совершенного человека” (О Христе и Антихристе, гл. 3 и 4). Климент Александрийский: “Всецелый Христос не разделяется... Он есть новый Человек, целиком преображенный Духом” (Протрептик, гл. 11). Святой Максим: “Облечь нового человека всего целиком, того кто сотворен Святым Духом по образу Божиему» (Сотницы глав богословских и домостроительных, Сотница 2, гл. 27).
Ср. Н. de Lubac, Surnaturel, Paris 1946. См. также: P. Pecon, Introduction aux “Centuries sur la Charité” de saint Maxime.
Точное изложение православной веры, I30; P.G. 94, 976 А. Сверхприродное было как раз истинной природой человека в Раю. Его задачей было, по словам святого Иринея, “поглощение плоти духом”, при согласии с божественным. Принцип остается неизменным. По прекрасным словам блаженного Августина, “Тот, кто не является духовным до глубины своей плоти, становится плотским до глубины своего духа”.
Жан Даниелу пишет: “В нем (западном богословии) нам показывают “природного” человека, к которому добавляется благодать... С точки зрения Григория Нисского, верно обратное: сначала – образ Божий, и к нему добавляется “природный” человек” (Jean Daniélou, Platonisme et théologie mystique, Paris 1944, p. 63). См. также статью Y. Congar, “La doctrine de la déification”, in: Vie Spirituelle, 1938; H. de Lubac, Surnaturel, Paris 1946.
Святой Исаак Сирин, Изречения (Hom.), 3.
P.G. 46, 148 D.
Климент Александрийский видит первородный грех в том факте, что “наши предки преждевременно предались размножению” (Строматы, III, 18).
“Нет никакого зла в вещах, кроме их дурного употребления, происходящего от бесчинства духа” (Святой Максим, Сотницы глав о любви (Cent. Car.), 3, 4, P.G. 90, 1017 CD).
Дидим Слепец, Книга толкований на Притчи (Fragmenta in Proverbia), XI, 7, P.G. 39, 1633 В.
Святой Василий, На Псалмы, 61, P.G. 29, 480 А.
Беседы (Homil), 51. Цит. о. Киприаном (Керном), Антропология святого Григория Паламы, с. 408.
Животный мир признает “благоухание святости”, царственное достоинство святого в качестве космического слова. О благоухании святости см. Е. Lohmayer, Vom gœttlichen Wohlgeruch, Heidelberg.
Гомилии (Hom. Spirit.), XV, 32.
“Человек остановил в себе излияние божественной благодати” (Свт. Филарет Московский, Слова и речи, I, 5.
Святой Григорий Назианзин, P.G. 37, 2.
После блаженного Августина и святого Амвросия латинское богословие, начиная с XII века, заменяет богословие теосиса на богословие сыновства и благодати. См.: Lot-Borodine, “La doctrine de la “déification” dans l’Eglise grecque jusqu’au XIе siècle”, in Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1933, 1935. W. Lossky, “La notion des Analogies chez Denys”, in Arch. d’hist. doct. du M. A., 1930. J. Gross, La divinisation du chrétien d’après les Peres grecs, Paris 1938. M. Cappuyns, Jean Scot Erigène, Louvain-Paris 1933. Y. Congar, “La déification”, in Vie Spirituelle, Mai 1935; J. Daniélou, Platonisme et Théologie mystique, Paris 1944.
О жизни Моисея, P.G. 44, 404 А.
P.G. 32, 869 Редакция «Азбуки Веры»
P.G. 3, 640.
P.G. 94, 800 ВС.
P.G. 150, 1176 ВС.
Николай Кавасила, О жизни во Христе, с. 97.
Николай Кавасила озаглавил свой труд о таинствах “О жизни во Христе”.
В учении отцов Церкви об обожении используется библейское обоснование, состоящее из трех элементов: 1) сотворение человека по образу Божиему; 2) усыновление; 3) подражание Богу и Христу. Кроме того, “причастие Божеского естества” (2Пет.1:4) как цель и тот факт, что “мы Его и род» (Деян.13:26) как начало, обусловливающее сверхчеловеческий, богочеловеческий образ существования. Климент Александрийский ссылается на слова “вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы” (P.G. 8, 281 А). Святой Ириней подготавливает богословие святого Афанасия, св. Кирилл говорит о Духе, который творит наше обожение – θεοποιου ν (P.G. 75, 1089 CD), и, наконец, Дионисий Ареопагит заменяет термин θέωσις на θεοποίησις. Бог очеловечивается, а человек делается обоженным. Эта идея вновь появляется у святого Максима (P.G. 91, 1113 ВС). Для него воплощение и обожение суть два лица одной и той же тайны. Святой Григорий Назианзин дает прекрасную формулировку: “бог по положению” – θεὸς θετός μεν – (P.G. 37, 690). Святой Григорий Нисский, в согласии с преданием, настойчиво подчеркивает непреодолимое расстояние – διάστημα – между образом и божественным Архетипом, из чего следует принципиальная невозможность какого-либо смешения.
Беседа на 1 Кор. Святой Григорий Нисский и, особенно, святой Кирилл Александрийский настаивают на обожении через обоженную плоть Слова (P.G. 73, 577–580). Об онтологическом характере теосиса в евхаристии см.: Преподобный Симеон, P.G. 120, 321–327. Фаворский свет, по словам святого Григория Паламы, являет благодать энергий, творящих обожение (P.G. 154, 860–861).
Для святого Макария “дух” в человеке – это прежде всего его восприимчивость к проникновению энергий Святого Духа во все его существо.
Доксология (славословие) – литургическая формула прославления.
Святой Максим, Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, P.G. 90, 25 В. У блаженного Августина это образ Адама: упав и разбившись, он наполнил своими осколками всю вселенную. Бог собирает осколки, плавит их на огне Своего милосердия и восстанавливает разбитое единство (На Псалмы, 95, N. 15).
“Агиофания” происходит от ἅγιος (святой) и означает всякое проявление святости.
Р.G. 65, 68. См.: Dom Stolz, L’Ascuse crétienne, Ed. Chevetogne 1948, p. 71.
Космическая литургия – название книги фон Бальтазара. Он прилагает его к богословию святого Максима Исповедника.
Молитва освящения евхаристических даров, призывание Святого Духа.
P.G. 37, 1327.
P.G. 150, 1081 Редакция «Азбуки Веры»
См.: L. Bouyer, La vie de saint Antoine. Essai sur la spiritualité du monachisme primitif, 1950.
A. Stolz, L’Ascèse chrétienne, Ed. de Chevetogne, 1948, p. 35.
Coll. 18. 6; также 7. 23.
См.: К. Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Moenchtum, Leipzig 1898, p. 145.
См.: F. Heiler, Urkirche und Ostkirche, 1937, p. 367.
Поучения тайноводственные (Catech. Myst.), 16, 12.
P.G. 31, 632.
См.: D. Leclerq, “Monachisme”, in DAL, XI, col. 1802.
Афонская икона представляет монашеское состояние в виде распятого монаха. Так, согласно Кассиану, каждый монах есть “казненный на своем кресте” (P.L. 49, 160).
Тропарь святым мученицам.
См.: I. Hausherr, “Syméon le Nouveau Théologien”, in Orientalia Christiana, XII, 1928, p. 30.
О жизни во Христе, фр. перевод S. Broussaleux, pp. 51–52.
Возможно, Антиохийская школа в лице Феодора Мопсуэстийского несет в себе некоторые его черты.
О жизни во Христе, фр. перевод S. Broussaleux, pp. 27–28.
Богословие образа, почти отсутствующее на Западе, заменяется богословием тварной благодати. Тварный посредник, тварный “медиум» необходим для того, чтобы избежать пантеизма и обусловить согласие между Богом и человеком (Альберт Великий, Изречения, II, 26). Habitus intus (внутреннее одеяние) обеспечивает сверхприродное состояние души и отдает человека в распоряжение Богу, формируя его ввиду похвальных дел. По словам святого Фомы, тварная благодать приобщает нас непосредственно к самой божественной природе (На Евангелие от Иоанна, 17, Лекция 5.9. См.: J. Backes, Die Christologie des heiligen Thomas und die griechischen Kirchenfäter, Paderborn 1931). Для Экхарта престол обожения – пассивность человека; новое бытие вливается извне и не принадлежит творению, оно, в определенном смысле, нетварно. Здесь возникает опасность автоматизма даже по отношению к святости. Тварь в действительности не преображена, и обожение добавляется совсем как благодать. Это почти вменение праведности... Однако нельзя сказать, что учение о теосисе совершенно отсутствует (Ср.: Блаженный Августин, Слова, 166,4, P.L. 38, 909; 36, 565; Тертуллиан, P.L 2, 316, 317; Амвросий, P.L. 16, 401–403).
Тридентский собор отметил разницу, противопоставляя августино-томистское учение греческому “синергизму». В противоположность этому лейпцигский профессор Иоганн Пфеффингер в конце XVI в. совершенно корректно излагал учение о синергии, но он не оставил следов в протестантской мысли.
О жизни во Христе (La Vie en Christ), фр. перевод S. Broussaleux, с. 95; Авва Исайя, Logos, 22, N. 8, ed. Augustinus, p. 141.
Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании (Ad Thal.), вопрос 54, P.G. 90, 512 В. По поводу “труда и пота” можно парадоксальным образом сказать, что Бог “работает”, а человек “потеет”.
См.: Unseen Warefare, англ. перевод Kadloubovsky and Palmer. Faber and Faber, London. Cp. Combatimento Spirituale, Lorenzo Scupoli, Venise 1589.
О цели христианской жизни. Беседы преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. Част. перевод в Semeur, 1927 (см. также: Беседа преподобного Серафима Саровского, Сергиев Посад, 1914, с. 182).
Добротолюбие, т. 1: Наставления о жизни во Христе.
См.: A.J. Wensinck, Isaac of Nineveh, Mystic Treatises, Amsterdam 1923; Святой Исаак Сирин, Слова подвижнические, Сл. 41, Сергиев Посад, 1911, с. 175.
Диалог о душ и воскресении (De an. et res.), P.G. 46, 56, С; О воскресении из мертвых (De mortuis), P.G. 46, 529 А.
J.-P. Sartre, L’être et le néant, p. 713.
J.-P. Sartre, La nausée, p. 170.
О жизни во Христе, La Vie en Christ, фр. перевод S. Broussaleux, pp. 89–90.
G.Bataille, L’expérience intérieure, p. 59. Это в точности опыт Кириллова из “Бесов” Достоевского: тот, кто делает себя богом, заканчивает жизнь существом, убивающим себя, и в последний момент разражается смехом.
Прекрасная поэма, состоящая из 250 строф (P.G. 97, 1306–1444).
Метаноя, изменение и перерождение; это не действие, но состояние души и поэтому не имеет предела. Противоположное состояние – это акедия, “бесчувствие окаменелого сердца”.
“Антоний говорил, стеная: Кто же спасется? И голос ответил ему: смирение” (P.G. 65, 77 В). Смирение – это совсем не торжество небытия в человеке, но очень верное чувство расстояния между Богом и человеком, ставящее последнего в точности на его место.
Характерное состояние для всякой формы истерии.
Святой Иоанн Дамаскин, P.G. 94, 1553 Редакция «Азбуки Веры»
φιλαυτ ία, себялюбие, является источником грехопадения и всякого греха (Святой Иоанн Лествичник, P.G. 88, 1226).
Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании (Qu. а. Т.), P.G. 90, 269 В.
Строматы, II, 13.
Святой Василий. На Псалмы, P.G. 29, 480 А.
Так, например, для святого Григория Нисского появление призраков на кладбищах демонстрирует материализацию душ вследствие чрезмерной любви к земным вещам (Диалог о душе и воскресении, P.G. 46, 88 ВС).
Марк Пустынник, P.G. 66.
Святой Василий, Монашеские правила.
Добротолюбие, Сотницы Каллиста и Игнатия.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 772 А.
См.: Святой Афанасий, Житие Антония Великого, P.G. 26, 835–976; Святой Максим, Сотницы глав о любви.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 1048 С.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 404 AD.
Святой Григорий Нисский, P.G. 46, 96 С.
По замечательному выражению из проповеди Нарсайи, “смерть Иисуса сделала из смерти сон”.
“Слезы покаяния являются продолжением вод крещения”, – поучает святой Иоанн Лествичник. См.: Lot-Borodine, “Le mystère du don des larmes dans l’Orient chrétien”, in: La Vie Spirituelle, 1936. Также I. Hausherr, Penthos, la Doctrine de la Componction dans l’Orient chrétien, Rome 1944.
См.: I. Hausherr, La vie de Syméon, p. 124.
Святой Максим, Сотницы глав о любви, III, 93.
Из службы в Неделю Торжества православия.
Преподобный Серафим упоминает три воли, действующие в человеке: божественную, человеческую и дьявольскую (Ср. A. d’Ales, “La doctrine de la récapitulation en saint Irénée”, in: Revue des Sciences religieuses, 1916); Святой Иоанн Лествичник в Лествице (26-я ступень) указывает на тройное происхождение наших действий: от Бога, дьявола и нашей природы.
Об оправдании делами, Добротолюбие, т. 1, P.G. 65, 929–965.
В своем “Толковании Божественной Литургии” Николай Кавасила говорит: “Мы отдаем одну жизнь в обмен на другую. Однако отдать нашу жизнь означает умереть. Господь, призывая нас участвовать в Его воскресении, требует, чтобы мы принесли Ему нечто от этого великого дара. Но что? – Подражание Его смерти, а именно: исчезая троекратно в крещальной воде, как во гробе”. Лот-Бородина добавляет: “Итак, подражание является здесь приношением, что сближает крещение с таинством алтаря, где Тело и Кровь Господни всегда являются дарами” (“La grâce déifiante des sacrements”, in: Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1936, p. 322, N. 1).
См.: Кн. Е. Трубецкой, Миросозерцание Вл. С. Соловьева, 1912; Смысл жизни, 1918.
Святой Григорий Нисский, О жизни Моисея, II проповедь на Петь Песней, P.G. 44, 1000 CD.
Евагрий, О жизни деятельной, I, 70–71.
Дионисий Ареопагит, О божественных именах, 707 В.
Святой Макарий, Беседы 1, ном. 2, P.G. 34, 452 А.
Протрептик, 1, 8.
Против исследователей (Adu Scrutatores, 26), римское изд., т. 3, с. 47.
Изд. Bedjan, с. 320.
Толкования к трудным местам (Amb.), P.G. 91, 1224 ВС.
Святой Андрей Критский, P.G. 97, 1208 А.
P.G. 44, 1048 С.
Согласно Каллисту, исихия есть “высшее состояние деятельности ума”, т. к. молчание выражает осуществленное единство ума” (P.G. 147, 888 А).
P.G. 32, 133 С.
Святой Макарий, Беседы (Hom.), 1, 2, 3.
In: La Vie Spirituelle, mai 1931, p. 209.
Святой Григорий Нисский, О младенцах, преждевременно похищенных смертью (De infant.), P.G. 46, 173 D.
На Песнь Песней (In Cant.), P.G. 44, 835 CD.
Это docta ignorantia (ученое незнание); Святой Григорий Нисский, О жизни Моисея (Vit. Moys.), P.G. 44, 376 D.
Там же, 404 D.
Anders Nygren, Eros und Agape, Gütersloh 1937.
О божественных именах (Div. Nom.), 4, P.G. 4, 265 C.
Вот почему святой Кирилл Александрийский настаивает на роли Святого Духа, который творит наше обожение (θεοποιου ν) – (P.G. 75, 1089 CD); также и святой Григорий Назианзин (Слова (Or.), 31, P.G. 36, 159 ВС).
Сотницы глав о любви (Cent. Car), 6, P.G. 90, 985 АВ; также 90, 1041 D.
Е. Behr-Sigel, Prière et Sainted dans l'Eglise Russe, p. 139.
Этот союз никогда не является смешением сущностей. Ипостасное единство во Христе – κατὰ οὐσιάν – уникально в своем роде. Наш союз со Христом является κατὰ φύσιν.
См.: P. Basile Krivocheine, “Le pauvre, aimant les hommes”, in: Messager de l’Exarchat du Patr. Russe en Europe Occidentale, № 16, 1953.
Святой Нил Синайский, Слово о молитве (De Oratione).
Преподобный Симеон, Слова (Log.), 48.
Лучшее и самое проникновенное введение в эту традицию дано в исследовании: La prière de Jesus, par un moine de l’Eglise d’Onent. Ed. de Chevetogne, 1950. См. также: Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М., 1995; La prière du cœur, H. de В., Ed. orthodoxes, Paris 1953.
Святой Иоанн Лествичник, Лествица, гл. 27.
Слово “помилуй” не исчерпывает всего смысла, содержащегося в молитве. Надо объединить два текста: Мф.1и Лк.13:13, которые мы встречаем в молитве проскомидии: Θεός, Ιλάσθητι μοι τω @ ἁμαρτωλω @ καὶ ἐλέησον με – “Господи, милостив буди ми грешному и помилуй мя”.
Письма Варсонофия и Иоанна, изданные в Вене Никодимом Святогорцем в 1816 г. (цитируется в La prière de Jesus, par un moine de l’Eglise d’Orient, pp. 26–27). См. также: Преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни, СПб, 1905.
N. Gorodetzky, “The prayer of Jesus”, in: Blackfriars, 1942, pp. 74–78.
Святой Иоанн Лествичник, Лествица, P.G. 88, 596–1209.
Пастырь. III, XIV.
P.G. 143, 401 В.
Жития святых отцов, V, 10, 111, P.L. 73, 932 ВС.
Orientalia Christiana, 120, 1939, p. 35.
P.G. 79, 1193.
См.: Lot-Borodine, “De l’absence de stigmates dans la chrétienté antique”, in Dieu Vivant, № 3.
Только преподобный Симеон Новый Богослов представляет исключение и сближается в некоторых отношениях со святым Хуаном де ла Крус.
Беседы (Hom.), 494, 448.
Беседа на Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
P.G. 150, 932 D.
Гимны божественной любви.
Святой Макарий, Духовные беседы, 437.
Точное изложение православной веры, 130.
Ницше, напротив, советует: “Если ты видишь, как кто-то шатается, толкни его”; а раввинистическая Мудрость говорит: “Не трогай пьяного, он упадет сам”.
Преподобный Исаак, Изречения XXXV, CXV.
Святой Иоанн Златоуст, Беседа 32, на Первое послание к коринфянам, P.G. 61, 273.
В. Соловьев в “Оправдании добра» (с. 72) весомо отмечает, что “трудно заподозрить в искусственной риторике или преувеличенном пафосе это описание”, скорее надо сознаться, что наши сердца иные.
Преподобный Исаак Сирин, Wensinck, pp. 341–342.
Святой Григорий Нисский. P.G. 45, 580 С.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 689 А.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 828 ВС.
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 852 Редакция «Азбуки Веры»
Святой Григорий Нисский, P.G. 44, 401 Редакция «Азбуки Веры»
Преподобный Симеон, Беседа, ХС, цитируются в: Lossky, Théologie mystique, p. 230.
Wensinck, p. 118.
Святой Григорий Нисский использует самый сильный смысл слова эпектаз, употребленного апостолом Павлом (Флп.1:11) (В синодальном переводе: “достигнуть” – Прим. переводчика), которое означает порыв, крайнее напряжение, без всякого остатка, и которое соединяет два аспекта одного действия: экстаз, выход, и энстаз, вход. Душа бросается за пределы самой себя к Иному, и этот Иной поселяется в душе, становясь более близок душе, чем сам человек. Это объясняет такие парадоксальные выражения, как “найти Бога – это значит искать Его непрестанно”, “человек движется вперед в силу самого факта, что он решил двигаться”; он есть “колодец воды живой” (см.: J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique; H. von Balthasar, Présence et Pensée).
Часть вторая. Экклезиология
1. Уточнение вопроса
Большинство богословов считают, что экклезиология вплоть до нашего времени находится в “до-богословской” стадии. Не существует ни систематических патристических трудов, ни достаточно хорошо выстроенной экклезиологии. Во времена святых отцов Церковь была настолько очевидным источником жизни, что вопрос о ее природе даже не ставился. С другой стороны, Церковь в самой своей тайне весьма мало поддается всякому формальному определению. Отец Сергий Булгаков хорошо выражает это: “"Прииди и виждь»: только опытно, благодатно познается Церковь через причастность ее жизни”. Потребность в определении этой жизни безошибочно свидетельствует об упадке церковного сознания и затемнении живого опыта.Определения, предлагаемые в учебниках по богословию и катехизисах, являются “формулами применительно к обстоятельствам”. Это не слово Церкви о себе самой, а случайный факт, используемый полемизирующими богословскими школами. Они имеют концептуальную, а не вероучительную природу. В противоположность этому, святоотеческие источники, дающие путеводную нить всякому исследованию в экклезиологии, ведут не к определениям, а к описанию жизни Церкви, исходя из ее веры.
Нет понятия церковности, но есть сама она, и для всякого живого члена Церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Видимые учредительные формы, их социологический аспект, скрывают ее тайное сердце. Вера, “уверенность в невидимом” (Евр.13:1) его открывает и, не изменяя его невыразимой природе, провозглашает догмат: Церковь есть Тело Христово, она есть Пятидесятница, продолжающаяся на земле, она есть образ Святой Троицы, абсолютной Церкви трех божественных Лиц.
2. Видимое и невидимое
В Никейском символе веры мы говорим: “Верую во едину святую, соборную и апостольскую Церковь”. Если “я знаю” видимое установление Церкви (то есть собрание верных, жизнь которого определяется очень точными канонами), то “я верую”, напротив, в невидимое, в участие отсутствующих и ангелов, в реальное и постоянное присутствие Бога, в явления благодати. Жизнь Бога в людях, само это единство жизни божественной и жизни человеческой – теандризм (богочеловечество) – исключает какое-либо разделение на видимую земную Церковь и невидимую небесную Церковь, но различает неслиянно и нераздельно видимое и невидимое в одном и том же организме жизни, куда вливаются и где “соединяются Небо и земля”. 3. Истоки Церкви, ее метаисторическая природа
Когда в катехизисах разбираются “свойства” Церкви (единая, святая, соборная и апостольская), в их упрощенном учении, по-видимому, подразумевается, что уже известно, что такое Церковь. Однако, прежде чем говорить о признаках, нужно подчеркнуть наличие тайны Церкви, содержащейся в ней самой.Говоря об “Агнце, закланном от создания мира”, (Откр.13:8), как и Послание апостола Петра (1Пет.1:19), показывает, что акт творения мира уже несет в себе Communio Sanctorum (общение святых) Церкви как альфу и омегу всего творческого домостроительства Божия.
Мир сотворен с целью воплощения; и в самой своей основе мир в потенции или, в возможности, есть Церковь. Святой Климент Римский (Второе послание, 14:2) говорит: “Бог сотворил мужчину и женщину, мужчина – это Христос, а женщина – это Церковь”. Также Ерм во втором видении своего “Пастыря” описывает Церковь в образе пожилой женщины и объясняет: “Она – преклонного возраста, так как она была сотворена первой, прежде всего, и именно для нее был создан мир”. В терминах Аристотеля можно сказать, что Церковь является “энтелехией” истории, ее содержанием и ее целью, “телосом”, что делает ее местом осуществления истории. “Исповедание Православной веры” помещает начало Церкви в рай. Действительно, Бог “ходил в раю во время прохлады дня” (Быт.1:8), чтобы беседовать с человеком; таким образом, существо Церкви выражается в единении Бога и человека. Предвосхищаемая в состоянии Эдема, пророчески предваряемая в ветхозаветном укладе жизни, она осуществляется в воплощении и полностью раскрывается в небесном Граде (Откр.13:22), в живом храме брака Агнца. Брачный образ отношений уже провозглашен в Ветхом Завете и явно открывается в Песне Песней. В начале, как и в конце, подобное видение Церкви показывает ее стремящейся к высшей степени единения с Богом: теосису. Именно в его свете, как самой драгоценной сути Библии, святые отцы строили свое богословие Церкви. Они подчеркивали наиболее потрясающее проявление божественной любви к человеку: Бог становится человеком и в Своей ипостаси соединяет супружески тварное и нетварное. Христос Иисус – Богочеловек в широком смысле и, благодаря принципу единосущия, открывается во Христе-Церкви – в Богочеловечестве, в богочеловеческой полноте.
За преходящим образом мира сего вера открывает постоянно присутствующее действие: судьбы мира и каждого человека завязываются на уровне Церкви, этого предустановленного центра вселенной. То, что совершилось во Христе через сошествие Святого Духа, совершается в каждом человеке и в человечестве посредством энергий, творящих обожение, чтобы “соединить любовью тварную и нетварную природу, явив их в единстве и тождественности через стяжание благодати” (святой Максим). Именно в Церкви человек “совершает свое спасение”, или, говоря словами апостола Петра, “соделывается причастником Божеского естества” (2Пет.1:4). Таким образом, обоженное человечество предстает, в конечном счете, живым “подражанием” Святой Троице – единством человеческой природы во множественности ее ипостасей. Видно, что богословие Церкви в его полноте превосходит всякое частное понятие и по существу превращает Церковь во всеобщее участие в свойствах божественной жизни, а именно, в целостности природы и в ее бессмертии.
4. Церковь в Боге
Тайна Церкви берет свое начало за пределами истории. Многие тексты говорят об этом: “Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы... Домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге” (Еф.1:4, 1:9). Ее предсуществование в премудрости Божией подчеркивает метаисторическую природу Церкви. Если все формы социальной жизни случайны и могут существовать или не существовать в зависимости от развития истории, то Церковь, напротив, не происходит из истории, а вторгается в мир, т. к. поистине по своему происхождению она иная этому миру. Подобно тому, как “Агнец, закланный от создания мира”, вне времени, входит в историю и приносится в жертву “при Понтии Пилате” и “в Иерусалиме”, оказываясь весьма конкретно во времени и в пространстве, – так же и Церковь, “скрывавшаяся от вечности” в Боге, предначинаемая в раю и предызображаемая в Израиле, сходит с небес в огненных языках, входит в историю в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Она сходит с небес и восходит от предустановленных онтологических глубин мира. Это постепенное явление того, что скрыто и направлено к “полноте Наполняющего все во всем” (Еф.1:23). Все творения на земле, под землей и на небе преклоняют колена и сходятся в полноте totus Christus (всецелого Христа). 5. Богочеловеческая связь
Фундаментальное различие между православием и инославием относится к связи, посредством которой историческое тело составляется как Церковь. Например, для Карла Барта эта связь является действием одного лишь Бога, который беспрестанно “появляется” сообразно типу “события” (ereignishaft), в противоположность тому, что связано с “учреждением”. Отношение является вертикальным, божественное действие, как касательная, касается круга, но не проникает внутрь его. По православному учению, связь имеет форму креста, Церковь находится в точке пересечения горизонтали и вертикали. Связь имеет теандрическую (богочеловеческую) природу. Теандризм созидает Церковь, помещая ее в центр мира, внося ее реальность в суть человеческой жизни и преобразуя ее в богочеловеческую субстанцию, и при этом предполагает горизонтальную связь: апостольское преемство, таинства (которые продолжают видимое присутствие Христа), включение верных в историческое тело. По учению реформаторов, Церковь находится на земле, видимая, но нераспознаваемая, и, если можно так выразиться, это Церковь “странствующая”. Очевидно, что она где-то есть, но при этом она не обладает безошибочным критерием, который бы ее локализовал. Конечно, всегда есть место, где таинства правильно совершаются и слово правильно проповедуется, но избранные отмечены невидимым знаком и рассеяны повсюду, на них нельзя указать. Для православия Церковь объективно находится там, где совершается апостольское служение по принятию в тело; она там, где епископ со своей апостольской властью совершает евхаристию, свидетельствует о ее подлинности и объединяет в ней собравшихся людей в литургическое собрание, в Тело Христово. 6. Учреждение и событие
“Дух дышит, где хочет”, но прежде всего Он почиет на Церкви как на человечестве, принадлежащем Сыну. Это доказывает, что события-дуновения совершаются и происходят внутри организованного Тела. Церковь исторически происходит из acta et passa Christi in carne (деяний и пребывания Христа во плоти), из трапезы Господней и осуществляется в Пятидесятнице Духа. Если воспользоваться образом озера, то можно сказать, что она питается постоянным источником, содержащимся в Тайной вечере, и дождем благодати, идущим от продолжающейся Пятидесятницы. Эпиклеза показывает, что одно зависит от другого: Сын посылает Духа, и Дух являет Сына. Отрывок из 1Кор.13 говорит о харизмах и дарах, которые точно не определены. Святость, профетизм старцев, мистическая жизнь выпадают из четко определенных рамок учреждения. Энергии обожения совершенно не поддаются ни организации, ни устройству. Наряду с “институциональными” существуют “событийные” формы: “Духа не угашайте, пророчества не уничижайте” (1Сол.1:19–20). В этом плане Церковь сама переходит свои учредительные границы. Главное – это никогда не противопоставлять и не разделять оба эти аспекта одной и той же благодати: они дополняют друг друга. Церковь как институт коренится в изобильном источнике Святого Духа, а событие совершается только в рамках церковного института: Дух обращается к “своим”, к “тем, кто во Христе”.Видимая Церковь – это не только видимое общество христиан, но также и “Дух Божий и благодать живых таинств в этом обществе”. Следовательно, ее видимый аспект является местом проявления невидимого, его непрерывной “фании” (явления). Это органическое единство обусловливает один и тот же статус и Церкви воинствующей, и Церкви торжествующей и определяет его в одинаковых выражениях, которые объемлют все образы спасения, как земные, так и небесные. Вот почему на внешний взгляд православное домостроительство удивляет некоторой нечеткостью форм и может даже навести на мысль об определенном пренебрежении земным. Его можно понять, только глядя изнутри:
Церковь одна, так как она представляет одно духовное Тело, одушевляемое одним и тем же божественным Духом и имеющее только одного Главу, который есть Христос. “Даже земная Церковь является небесной реальностью” и “божественным обществом”. Единственный принцип – Христос – управляет небом и землей: “В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним”, – поет Церковь. Это наполненность земного небесным.
7. Церковь как сакраментальная община
Такое положение – на границе двух эонов с одновременным участием в жизни обоих – подчеркивает трансцендентность Церкви по отношению к миру. Она не есть организация и не является организованной человеческой жизнью, она даже не является, и, может быть, это самое главное, “организованной благодатью”, но она есть богочеловеческий организм, жизнь Бога в человеческом естестве, что непосредственно определяет ее структуру – она есть сакраментальная община. В нее входят посредством крещения. Им просветляется неофит, и Христос приходит к нему; перестроенный по образу своего архетипа, он становится новой тварью, запечатленной дарами Святого Духа в миропомазании, и в евхаристии эта новая жизнь раскрывается и расцветает. Как говорят Отцы, в этом “посвящении” таинства являются не знаками, а источниками возрождения (anagenesis) и принадлежат к esse, составляющему саму сущность Церкви. Именно в этом сакраментальном аспекте всякая форма социологической природы оказывается полностью превзойденной в факте рождения новой твари. Церковь катехизирует и проповедует, свидетельствует и удостоверяет, но ее главной задачей является обращение людей, причем обращение предполагает изменение в самом сильном смысле слова, превосходящее всякое только интеллектуальное согласие или только веру. Служение слова, керигматическая проповедь, переходит в служение таинств и завершается в служении приобщения к Телу. Живой член Церкви Христовой оказывается рожденным в Духе – Πνευ μα Ζωοποιόν (Духе Животворящем), Творце и Подателе совершенно нового существования. “Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством, священнотайне”. 8. Евхаристическая экклезиология
Древняя Церковь соединяла воедино три таинства, называемые главными, – крещение, миропомазание, евхаристию, – и все это именовала посвящением. Новообращенный проходил последовательно через три ступени одного действия, которое делало его членом народа Божия, собранного во Христе, и посвящало его в священника, пророка и царя. Однако евхаристия, которая завершает это последовательное посвящение, является вовсе не одним из таинств, но поистине их завершением. Она есть собственно таинство таинств, и в этой функции объединения она является наиболее адекватным выражением Церкви. И Церковь есть продолжающаяся, непрерывная евхаристическая койнония (общение).Все службы суточного и седмичного круга являются приготовлением к празднованию дня Господня, к участию в мессианской трапезе Господней. Ввиду самой своей природы литургия исключает “зрителей”, которые как таковые становятся “внешними” и представляют собой наиболее пагубное искажение древней практики (которая продолжалась, возможно, до IV века).
Суровость канонов древней Церкви по отношению к тем, кто произвольно лишал себя евхаристического общения, является нормативной, т. к. подобное отношение характерно для того, кто не принадлежит к Церкви. Быть членом Церкви означает прежде всего принимать участие в евхаристическом собрании, и отлучение именно лишает участия в Вечере. Выражение “вне Церкви нет спасения” имеет прежде всего евхаристический смысл: solus christianus – nullus christianus (один христианин – не христианин). Solus утверждается вне евхаристической койнонии, вне Церкви.
Святые отцы называют евхаристию “лекарством бессмертия” в самом сильном смысле слова: “Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела”, – произносит священник перед причащением, а в момент Трапезы священник говорит: “во оставление грехов и в жизнь вечную”. “Недостойное” причащение, о котором говорит апостол Павел (1Кор.13:29), относится не к моральному состоянию (которое всегда уязвимо), а к небрежению, к несерьезности веры и отношения человека к таинству.
О. Николай Афанасьев своим блестящим рассмотрением вопроса показывает, что истинное возвращение к порядку, данному Церковью, – это совсем не вопрос личного евхаристического благочестия, а вопрос причастности к Трапезе всей полноты Тела во все “дни Господни”.
“Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви” (Деян.1:47). О. Николай Афанасьев обращает внимание на греческий текст: ἐπὶ τὸ αὐτό, перевод которого как “Церковь” является одновременно прекрасным истолкованием, а также точным и адекватным евхаристическим определением Церкви: Господь прилагал ежедневно спасаемых к собранию верных, соединившихся в одном и том же месте и для одного и того же дела – для участия в евхаристии-Церкви. После Пятидесятницы Церковь находится там, где происходит евхаристическая койнония и где все соединяются со Христом, как Его “единоплотские и единокровные” члены и, таким образом, преодолевают всякое разъединение. По мысли отцов, Адам, разбившись, наполнил мир своими осколками, Бог же их соединяет во Христе и творит из них Свое Тело. Зло, дьявол, сеятель раздора, разделяет, разбивает и делит на части: “Легион имя мне, потому что нас много” (Мк.1:9), – признается нечистый дух, и так при свете Христа он немедленно открывает свою природу: единственное число (“имя мне”) проходит через порочную множественность (“легион”) и распыляется во множественное число – много. Апостол Павел вновь использует то же выражение “мы многие”, разъединенные лукавым. “Один хлеб и мы многие одно Тело« (1Кор.13:17) – это есть евхаристическое действие, составляющее сущность Церкви. Дьявольское Зло разъединяет и умерщвляет; Христово, церковное Добро вновь соединяет и животворит.
9. Una Sancta
Отец Николай Афанасьев также подчеркивает фундаментальную разницу между “евхаристической экклезиологией” и экклезиологией, основанной на идее универсальной Церкви. Эта вторая экклезиология утверждает существование одного вселенского организма, члены которого, поместные Церкви, являются только его частями. Универсализм по самой своей природе тяготеет к централизму; логически он ведет к объединяющему центру, выраженному в форме ипостазированной юрисдикционной власти монархического типа (например, власти Римского папы).Евхаристическая экклезиология понимает слово экклесия в смысле народа Божия, призванного к соединению теперь уже не в ветхозаветном Храме, как в определенном центре, а в Теле Христовом. Исполнение Тела дано в евхаристии, и это означает, что всякое канонически правильное, т. е. возглавляемое епископом, поместное собрание обладает всей полнотой Церкви Божией во Христе. “Церковь Божия в Коринфе” или в любой другой точке пространства есть Церковь в полноте ее богочеловеческого содержания. Вселенское, не связанное ни с каким пространственным представлением, как мистическое тело, реализуется в локальном, как месте его полного проявления. Множественность трапез Господних никоим образом не затрагивает единичности одной и той же Трапезы; так и множественность мест никоим образом не затрагивает единственности одной и той же кафолической Церкви, представленной в ее полноте hic et nunc (здесь и теперь). “Святой Дух оказывается присутствующим в каждом, кто Его принимает, как если бы Он передавался только ему одному”, – учит святой Василий. В своем знаменитом письме по поводу паломничеств ко святым местам святой Григорий уточняет: “Дух распространил апостолов по всей земле; ныне никакое место, даже самое “святое”, не имеет преимущества”. Множественность относится к проявлениям единственной Единой Святой, всегда равной и тождественной самой себе. Численная величина мест и их феноменология переменна, “ноуменальная” же реальность того, что проявляется, неизменна – это плерома Христа, на которой почиет Святой Дух. Таким образом, уже для святого Игнатия всякая поместная Церковь, объединенная через своего епископа как живого символа Христа, является кафолической, вселенской Церковью, Una Sancta. С этой точки зрения, радикально отличающейся от “универсалистской”, не может существовать никакой части Церкви. Церковь неделима, она никогда не является суммой: “Где Христос, там Церковь”, “где Дух Святой, там Церковь”. Всякая поместная Церковь обладает всей вертикальной церковной полнотой, т. к. “наше учение согласно с евхаристией, и она его подтверждает” (святой Ириней). Божественное присутствие никогда не может дробиться. Однако если поместные общины только части, то это вынуждает утверждать относительное присутствие по отношению к принципиальной полноте, объединяющей в себе всю церковность. И обнаруживается один из вариантов “теории ветвей”, при котором их объединение проецируется или в невидимую Церковь, в духе какого-либо протестантского богословия, или в видимого “наместника” Христа, центр ипостазированного единства в римском богословии. Однако если Церкви объединяются между собой, то это не для того, чтобы образовать при сложении более полную Церковь, что является бессмыслицей (“Между телом и главой нет места ни для какого промежутка”, – говорит святой Иоанн Златоуст по поводу евхаристии, а Николай Кавасила добавляет: “Невозможно идти далее, сюда нечего прибавить... нет более того, к чему еще можно было бы стремиться”), а чтобы ответить, с одной стороны, на безграничное милосердие Тела, а с другой, – на динамичный регистр миссионерской деятельности, характерный не для кафоличности Церкви, а для вселенскости христианства и его раскрытия вовне.
Всякая местная Церковь “вертикально” есть Церковь Христа, и всякий епископ никогда не является епископом одной части и, тем более, одной национальной Церкви, но епископом Церкви Христа. Однако “горизонтально”, пространство его юрисдикционной и административной власти всегда локализовано. Таким образом, единство Церкви строится с помощью категории согласия равных, единосущных членов – по образу Троицы. Тождественность делает согласие неосуществимым, подчинение нарушает единосущность. Una Sancta есть единство различных мест ее проявления, всегда равное самому себе. Собор – это место, где осуществляется взаимная любовь. Совсем не к формальному принципу представительства, а к его свойству взаимной любви обращается Бог в Своих откровениях, и поэтому собор является органом провозглашения догматов.
Предание указует на необходимость быть в общении с пентархией, с пятью патриархатами. Это “общение” указывает на равенство всех поместных Церквей, находящихся в лоне православия. Происходит движение от соборности ко вселенскости. И 34-е апостольское правило гласит:
Епископам подобает знати “перваго” в них и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения. Но и “первый” ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие и прославится Бог о Господе во Святом Духе. Троичный принцип всегда заменяет принцип власти принципом согласия. Основной принцип церковной структуры провозглашает: один епископ во главе одной Церкви на одной территории. Единственная разница между епископами – это разница по чести и по старшинству. Так, Рим играл в течение тысячи лет роль “primus inter pares” (“первого среди равных”). После его отделения от православного единства эту честь наследовал Константинополь. “Первый” – это наименование порядкового числа без какого-либо качественного различия. “Епископ первого престола да не именуется экзархом священников или верховным священником” (48-е правило Карфагенского собора). Так как все получили от Святого Духа равную благодать, достоинство всех епископов совершенно равное: “Отношения между патриархами, включая папу, должны быть отношениями согласия, а не подчинения” (Нил Кавасила). “Исповедание веры” патриарха Александрийского Митрофана Критопулоса (XVII век) гласит:
Существует также равенство между четырьмя патриархами (той эпохи). Никто из них не возвышается над другими, и никто из них не считает себя главой всей соборной Церкви. Епископат отражает собор Двенадцати. Место Петра исторически усвоено Римским епископом, но его положение ничуть не включает в себя ни непогрешимости в учении, ни юридической власти над церквами. Ни один собор никогда не исповедовал этого до Ватиканского собора, на котором Римская Церковь откровенно порвала с преданием.
Бог Отец вручил всю власть Христу-Царю. Господь владеет ею лично до конца этого мира, и поэтому Он основал апостольскую общину в виде дома, или семьи, и апостольская власть приняла при этом в высшей степени парадоксальный характер служения: “Князья народов господствуют... но между вами да не будет так” (Мф.13:20–28, 13:1–9). Каждый епископ – это “живой образ Христа”, муж скорби и служитель Яхве. Он обладает только одной властью, – властью милосердия и пастырской заботы, отдавая себя тому, кто страдает; он действует одной силой убеждения – своим мученичеством.
10. “Камень преткновения” (Мф.13:17–19)
Евхаристическая экклезиология содержит православное решение проблемы власти. В ее свете текст Мф.13:18 вовсе не означает какого-либо назначения апостола Петра в качестве primat, главы, вселенской Церкви с юридической властью над всем Телом – епископом епископов. Более того, можно сказать – и это является самым важным, – что в добавление к апостольскому достоинству свидетеля Господь поставляет Петра в качестве первого епископа при полном подтверждении принятия Духа (Ин.13:22). Невозможно никакое смешение между понятиями “апостол” и “епископ”. Апостол – странник по природе, он “повсюду”. Епископ же имеет свою кафедру, которая является пределом его юрисдикции. Ситуация с апостолами уникальна, т. к. она сочетает свидетельство о Воскресшем, апостольство как призыв, обращенный непосредственно от Господа, и епископскую функцию как сакраментальную и пастырскую власть. Лишь эта последняя передается епископам и оправдывает термин, но в данном ограниченном смысле: епископ, преемник апостолов. Каждый епископ всегда является епископом местной общины. Согласно Еф.1:22–23, Христос – это “глава Церкви, Которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем”. Та же идея единственной главы выражена в Кол.1(также в 1Кор.1:11), что исключает всякую идею викариата: “Я с вами во все дни до скончания века” (Мф.13:20). Предание никогда не знало никакой вселенской юрисдикции. Текст Евангелия Мф.13:17–19 передает обещание создания Церкви, которая еще не существовала вне Христа. Если Тайная вечеря предвосхищает учреждение Церкви (до креста и воскресения), то ее основание произойдет в день Пятидесятницы, и совершенно точно – в момент первой евхаристии апостолов. Таким образом, поместная Иерусалимская Церковь является первым учрежденным территориальным местопребыванием, которое завершает время воплощения и открывает время Церкви. Само событие будет реализовано позднее в других местах. Пока апостол Петр есть первый епископ, совершающий первую трапезу Господню; в этом смысле он “камень”, “скала”, евхаристическое основание, которое будет сохраняться до Второго пришествия. Без Трапезы и без власти ее совершать, без этого вечного “камня”, Церкви не существует.Апостольство как личное достоинство очевидцев воскресения не воспроизводится. Но время апостольской деятельности, время “Деяний святых апостолов” уже является временем Церкви после Пятидесятницы, оно предполагает преемственность епископов, которые “занимают место Бога”, когда возглавляют евхаристические собрания. Здесь следует подчеркнуть суть православного учения: вовсе не тот или иной человек и не его личная власть является носителем преемственности, а Церковь. В катакомбах Сан-Каллисто (II век) есть фреска, изображающая евхаристический треножник; при этом мужчина простирает свою руку над хлебом, а женщина стоит в позе “оранты”. Это точный образ Церкви – царственно-священническое поклонение всех, от которых епископ выдвинут и выделен посвящением, дабы предлагать жертву, знаменуя присутствие Божие перед Его народом, а также возглавляя и направляя исполнение священнических функций всеми. Это два образа участия в том же самом священстве Христа, единственного Священника, и они взаимозависимы. Тот факт, что епископ не может совершать литургию один, без народа, показывает, что Церковь-это епископ и народ, и именно от этой богочеловеческой полноты тела исходит епископская власть; она не личная, а функциональная, действующая от лица Церкви, от totus Christus. Это совсем не “коллективизм”, т. к. власть исходит от Бога, но от Бога, действующего в Своем Теле, так что природа этой власти богочеловечна. Епископ, являющийся лишь носителем титула, без пастырских функций и без назначения на действующую кафедру, не может рукополагать и не может полностью осуществлять свою епископскую власть. Епископ, запрещенный в служении, не имеет никакого права исполнять священнические функции; таинство, совершаемое им, является недействительным и не имеет никакой силы освящающей благодати, т. к. он отрезан от источника, от которого исходит его власть и харизматическим инструментом которого он является. Только одна богочеловеческая сила Церкви действует здесь, и вне Церкви не может быть таинства.
Христос основывает Церковь на апостоле Петре как на первом епископе, возглавляющем трапезу Господню, что является первым проявлением вселенского основания апостольского епископства. Вследствие этого всякий епископ Иерусалима, Александрии, Антиохии, Константинополя и любой епархии является прямым преемником апостола Петра и апостольской власти в совершении евхаристии. Так было в случае святого Киприана, который считался в Карфагене прямым преемником cathedra Petri (кафедры Петра). В силу этого епископ определяется прежде всего как тот, кто имеет власть совершать евхаристию.
Апостольская Церковь изобилует дарами, но все они направлены к тому, чтобы открыть доступ к братскому общению. Именно это “единое на потребу”, Царствие Божие, должно являть полноту и подлинность и быть печатью Церкви. Следовало удалить из нее всякий сомнительный и неясный элемент и придать невидимому соответствующую ему форму, сберегая его, помещая событие в рамки учреждения. Можно видеть из истории, что евхаристия непосредственно переходит в руки епископов. Канонически правильно поставленный епископ выступает в качестве видимого знака, свидетеля, удостоверяющего истинность таинства: “Только евхаристия, совершаемая епископом, действительна, без него нельзя ни крестить, ни причащать”. Каждое таинство действенно только при наличии связи с евхаристией, совершаемой в Церкви епископом. Жизненная необходимость питаться Хлебом Жизни предполагает наличие священства; священство включено в установление евхаристии Господом: “сие творите в Мое воспоминание”. Именно от дуновения Духа и от участия в трапезе Господней происходит епископская власть Петра, каждого апостола и их преемников – епископов. Она служит евхаристии, и она дана для удостоверения ее подлинности в день Пятидесятницы и во все “Дни Господни”. В своем Большом катехизисе митр. Филарет подчеркивает сакраментальность епископской власти:
Что значит править? – Наставлять людей в вере. Чем отличаются степени иерархии? – Диакон прислуживает при совершении таинств. Священник их совершает. Епископ же в добавление к этому имеет власть передавать другим через возложение рук дар совершения таинств и священнодействий. Если, по словам святого Иринея, “учение соответствует евхаристии”, если оно находит в евхаристии свое подтверждение, то также всякая священническая власть находится в зависимости от евхаристии. У святого Игнатия евхаристическая концепция епископата уже очень ясно выражена: “одна чаша, один алтарь, как и один епископ”.
Апостолы обеспечивают передачу учения и его непрерывность, но, главным образом и прежде всего, они обеспечивают непрерывность жизни в благодати. Вот почему единство апостольского учения, общение и преломление хлеба выступают в качестве отличительного признака, или “знака”, Церкви Божьей в Иерусалиме (Деян.1:42).
11. Троичный аспект экклезиологии
Представление о подобии-участии руководит православным видением. Исходя из небесного образа, оно строит на догмате не только экклезиологию, но также и этику и всю социальную философию. Это совершенно конкретные приложения догматических истин к социальной жизни. Ключевая проблема всех времен – единое и множественное, личное и общественное – может найти решение лишь в выходе за пределы только человеческого, на уровне благодати. Перед лицом немощи природных сил именно образ Бога, одновременно единого и троичного, выдвигается как единственная норма. Так, христианство призвано воспроизводить в своем существовании божественную реальность в соответствии со словами: “Человек получил повеление стать богом по благодати” (святой Василий), и со словами, что христианство есть “подражание божественной природе” (святой Григорий Нисский). Также и Апостольские правила (Правило 34), говоря об устройстве Церкви, определяют ее норму: “да прославятся (в этом устройстве) Отец, Сын и Святой Дух” – в единстве множественных человеческих ипостасей в одной человеческой природе, собранной во Христе. Абсолютная Церковь божественной Троицы утверждается, таким образом, в качестве нормы для Церкви людей, “общины взаимной любви”, единства во множественном. 12. Догмат о Троице
Между бытием Троицы и небытием нет иного принципа существования, кроме троичного, утверждает о. Павел Флоренский, и поэтому человеческая мысль, принимая откровение, распинается для того, чтобы возродиться в единственном трисолнечном свете истины. И этот свет совершенно трансцендентен всякому философскому представлению. Бог, являясь “одновременно монадой и триадой”, оказывается выше математического числа: нельзя сосчитать или перечислить божественные Лица. Божественная триада “неисчислима”. В высшей степени характерным фактом является то, что среди разных ересей именно тринитарная ересь была наиболее сурово осуждена Церковью, т. к. она подрывала самые основы всякой истины. Естественное стремление разума всегда хотело свести тайну Троицы или к единству одной сущности в трех модусах проявления (модализм Савеллия), или к трем богам политеистического тритеизма. Святой Григорий Богослов отказывается “иудействовать с помощью божественной монархии или эллинствовать с помощью божественной множественности”. Троица утверждается сразу и на веки как Существующее, единое и троичное одновременно, Она “слепит глаза... и распространяет на все Свое невыразимое сияние”. Исключается всякая идея теогонии, рождения Бога или развития божественного в Троице. 13. Filioque
Методически латинское тринитарное богословие рассматривает вначале единую природу, чтобы перейти к трем Лицам: amans, amatus, атоr (любящий, любимый, любовь); и определенная метафизика сущности представляет их как образы существования единой природы. Блаженный Августин показывает скорее Троицу в Боге, чем троичного единого Бога. Отец и Сын вместе являют единство, от которого происходит Святой Дух, и это есть Filioque, которое разделяет Запад и Восток. На Востоке рассматривают вначале три Лица и затем восходят к единству природы, отправляясь от различных ипостасей; их содержание составляет свойственный каждому образ усвоения единой природы. Никейский символ веры и крещальная формула прежде всего и очень ясно указывают на три Лица. Как справедливо говорит об этом отец Реньон, “латинская философия рассматривает вначале природу саму в себе и переходит к носителю; греческая же философия рассматривает вначале носителя и затем проникает в него, чтобы отыскать природу. Латинянин рассматривает личность как образ проявления природы, грек же рассматривает природу как содержание личности”. Для Востока ипостаси обусловливают одновременно единство и различие в божественной жизни, т. к. единство восходит не к природе, но к Отцу – μόναρχος и πηγή – источнику и принципу взаимного проникновения: “один Бог, так как один Отец”. Это основное утверждение Востока.Вся сила богословия святого Григория Богослова заключается в представлении монархии Отца как источника совершенного равенства всех: “Бог, где Трое рассматриваются вместе и Каждый является Богом в силу единосущия (с Отцом); Трое являются (одним) Богом в силу монархии (Отца)”.
Святой Иоанн Дамаскин обобщает святоотеческое учение: “Лица объединены не для смешения, но чтобы Один содержал Другого”, “ипостаси находятся Друг в Друге и между Ними существует взаимопроникновение – без всякого смешения или неясности, вследствие которого Они ни разделены, ни разобщены по сущности... и божественность неделима... так же как в трех солнцах, содержащихся друг в друге, существовал бы один свет из-за внутреннего взаимопроникновения”; “Едиными во всем являются Отец, Сын и Святой Дух, за исключением безначальности, рожденности и исхождения”.
В каппадокийском богословии ипостаси различаются через отношение происхождения, и все искусство святоотеческого богословия состояло в том, чтобы не давать никакого преимущества одной сущности над тремя ипостасями и сохранить совершенное равновесие.
В случае исхождения Святого Духа от Отца и Сына (Filioque) делается ударение на единстве природы, т. к. тогда Святой Дух исходит из природы, одной для Отца и Сына. Однако для греков Сын рождается, а Святой Дух исходит от ипостаси Отца. У латинян принцип единства связывается с общей природой, и Лица сводятся к простым отношениям в этом единстве сущности, они вносят в него различия, но сохраняют приоритет единства над Лицами (с этим связана опасность выражения “Bon Dieu”, “Боже мой”). Здесь существует слишком большое отождествление между отношениями оппозиции, или, скорее, между “оппозициями отношения” и ипостасями, тогда как отношения обозначают и характеризуют Лица, но далеко не исчерпывают тайну каждого.
Filioque перемещает, таким образом, принцип единства из ипостаси Отца в природу, оно умаляет монархию Отца и нарушает троичное равновесие, совершенное равенство трех Лиц. Действительно, оно заставляет разорвать троичную Монаду на две диады: “Отец-Сын” и “Отец Сын-Дух”, – и умалить Дух в пользу Сына, т. к. лишь Он один не имеет ничего общего с другим Лицом. Дух, исходящий от двух, – Отца-Сына, рассматриваемых как одно начало, – превращает два Лица в одно безличное божество – первоначальную субстанцию. Сведение Лиц к отношению по оппозиции заставляет видеть в Сыне Deitas (Божество), лишенное способности порождать (только Отец обладает им), а в Святом Духе – ту часть Deitas, которая лишена к тому же и свойства производить исхождение (только Отец-Сын вместе обладают им). И так понятен Дунс Скотт, вопрошающий, как Дух Жизни может быть “бесплодным Лицом”. Это результат замены положительного отношения единства отрицательным отношением оппозиции.
Латинская формулировка Filioque появляется в Испании (Толедский собор 589 г.) в качестве временно полезного аргумента для борьбы с арианами, которые оспаривали божественность Христа, для того чтобы подчеркнуть единосущие Отца и Сына. Как неизбежно случается в каждой полемике, тетива оказывается слишком натянутой, и аргумент выходит за пределы догматически правильного учения и поэтому извращает его. Великим сторонником Filioque, которое оставалось местным преданием в Испании, становится Карл Великий. В политических целях он созывает в 807 г. собор, чтобы отлучить конкурирующую империю греков. “Пожалование императорского титула Карлу Великому знаменует... стремление порвать с Восточной Империей”, – признается современный католический историк. Папа Лев III, в знак протеста и желая решительно защитить православную веру, приказал высечь и торжественно установить на бронзовом портале кафедрального собора в Риме два золотых щита с текстом Символа веры на греческом и латинском языках без какого-либо добавления. Но его употребление становится всеобщим на Западе, и Рим склоняется перед силой. В 1014 г. император Генрих II коронуется в Риме, принимает германский чин мессы, и впервые Символ веры со вставкой поется в соборе святого Петра в Риме. Византия перед лицом ереси, исповедуемой Западным патриархатом, перестает (в знак разрыва) поминать папу за богослужением. Прежде всего Восток упрекает Запад не столько в догматическом заблуждении, сколько в раскольническом сектантском действии, заключающемся в изменении священного текста (несмотря на формальный запрет соборов касаться его) без обсуждения с восточным центром Una Sancta. Это большое согрешение против любви, против милосердного качества Тела, “нравственное братоубийство”, по словам Хомякова.
Троичная тайна недоступна дискурсивному мышлению. Необходимо “поклоняться в молчании”, молчании апофазы. Необходимо также коренным образом различать внутрибожественную жизнь, в которой Отец вечно является единственным и ипостасным источником Сына и Святого Духа, от домостроительного плана проявления в тварном мире, в котором Сын сообщает Святой Дух: “Я пошлю вам... Дух истины, Который от Отца исходит” (Ин.13:26).
Таким образом, Святой Дух есть вечная Радость Отца и Сына, в Котором Они оба сорадуются. Эта Радость посылается Обоими тем, кто этого достоин... но она от Одного Отца исходит в бытие. В троичном богословии имена Отец, Сын и Святой Дух обозначают отношения происхождения, не исчерпывая этим уникальную реальность каждого Лица. Итак, если мы говорим, что Святой Дух есть любовь и радость между Отцом и Сыном, мы совсем не имеем в виду, что эта функция исчерпывает тайну Святого Духа.
Так как естественные проявления безличностны (как в случае монотеизма с одной ипостасью), то для того, чтобы любовь стала общением, нужно, чтобы отношение осуществлялось между ипостасями (божественная Троица). Итак, Отец порождает Сына и проявляет Свою сущность в ипостаси Сына; также Он изводит Святой Дух и проявляет Свою жизнь в ипостаси Святого Духа. Так как слово ἀρχή (“начало”) специфически относится к Отцу, то латинская формулировка Filioque абсолютно немыслима в греческом предании. Православное богословие ясно различает причинный внутрибожественный план (происхождения) и внебожественный план проявления (жизни, откровения, свидетельства в тварном). Единственно Отец является причинным принципом, монархом. Он есть Отец, источник, принцип существования и божественного единства (эносис святого Григория Назианзина). Будучи абсолютным началом, Он является также принципом взаимного проникновения, этого “вечного движения любви”, кругового движения божественной жизни, которое начинается от Отца, проявляется и говорит в Сыне через динамизм Святого Духа, чтобы снова погрузиться в Отца: вечное рождение и исхождение в действии, выходящие из источника и в него возвращающиеся.
Если Святой Дух вечно исходит от Отца через исхождение происхождения, Он также исходит через Сына, но лишь в исхождении проявления. Святой Дух берет все содержание от Сына (“от Моего возьмет и возвестит вам” (Ин.13:14). Но Святой Дух также являет Сына и, в определенном смысле, дарует Ему существование и жизнь – всегда в плане проявления или откровения; поэтому “никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым” (1Кор.13:3). Сын любит Отца, Его любовь переходит к “Дыханию жизни”, к Святому Духу, который несет ее и предлагает Отцу и, возвращаясь, почиет на Сыне, словно печать любви Отца.
Символ веры дает важное уточнение: Христос-Богочеловек рожден “от Духа Свята и Марии Девы”. “Дух Святой” передает здесь присутствие Отца, который лишь один рождает. И в то же время на основании этого текста можно сказать, что Сын рожден посредством, через и для Святого Духа. Также во время Богоявления Святой Дух под видом голубя нисходит на Сына как раз в момент откровения отцовства Отца: “Ты Сын Мой возлюбленный” (Лк.1:22), “Я ныне родил Тебя”. Святой Дух здесь действительно есть голубь, дыхание вечного рождения, отцовства; Он передает движение, в котором Отец устремляется к Сыну.
14. Христологический аспект
На вопрос Cur Deus homo (почему Бог [стал] человеком) святой Ириней отвечает своим знаменитым учением о соединении всего во Христе как во втором Адаме, объединяющем в себе весь мировой порядок. Подхваченное святым Афанасием, оно станет самим сердцем святоотеческой мысли Востока: Христос, истинный Бог и истинный человек, – единосущный Отцу в Своем божестве, – единосущный людям в Своей человеческой природе, – стал тем, что мы есть, чтобы мы стали тем, кем является Он.Ударение никогда не ставится на примирении, прощении грехов и удовлетворении божественной справедливости, но на восстановлении образа и возрождении новой твари во Христе. “Через Него восстанавливается целостность нашей природы” (святой Григорий Назианзин). Христос возобновляет то, что было прервано грехопадением, – единение, ведущее к обожению, – и проливает самый яркий свет на истинную природу человека: “Иисус представляет в образе (в архетипе) то, что мы есть”. “Мы восходим, – говорит Николай Кавасила, – к тому, что было нашим исходным пунктом”, – “мы сбрасываем кожаные ризы, чтобы вернуться назад к царскому одеянию” (имеется в виду обряд снятия одежд в таинстве крещения), “мы отрекаемся от одного существования, чтобы облечься в иное”.
Немощная в силах своего естества, но восстановленная могущественной рукой Христа, природа вновь обретает то, что она потеряла, и движется к status naturae integrae (состоянию целостной природы): “Человек есть тварь, но он получил задание стать богом”. Святой Максим ясно указывает на Восток, к которому все стремится: “Тот, кто знает тайну Креста и Гроба... тот, кто проникает еще дальше и оказывается посвященным в тайну Воскресения, узнает конец, для которого Бог сотворил все в начале”. Παθω ν Θεός, “страдающий Бог” (по словам святого Григория Назианзина), Агнец закланный, является для нас мерой всей колоссальной глубины грехопадения, и, как говорит святой Иоанн Златоуст, “для того, чтобы жить, нам была необходима жизнь и смерть Бога”. Эта тайна божественного милосердия, которой можно поклоняться только в молчании, разрушает, по словам Николая Кавасилы, тройную преграду, установленную между Богом и человеком извращенной волей: смерть, грех и автономную природу. Молниеносное вторжение Спасителя – “это не дело природы, а образ домостроительного снисхождения” (святой Иоанн Дамаскин) и проявление поразительного божественного человеколюбия (Дионисий). Крест же, как его орудие, названный “несказанным знамением Святой Троицы” (в службе, посвященной Кресту), ведет к запечатанному гробу, где исполняется тайна спасения. Сидящий одесную Отца Христос хранит, неслиянно и нераздельно, нашу человеческую природу, введенную в божественную славу. В евхаристическом таинстве наша “единокровность” со Христом утверждает совершенное причастие к новому роду “охристовленных” потомков Адама. Святоотеческое изречение “тот, кого Он не взял на Себя, тот не спасен” подчеркивает со всей силой высшую реальность Христа – полностью Бога и человека. Именно к этому единству двух природ – божественной и человеческой – направлено все домостроительство спасения по плану предвечного Божественного совета; и именно ради воплощения был создан мир. Агнец Апокалипсиса есть альфа и омега мира и божественного творения (об этом говорится и в Еф.1:10): “Неограниченное ограничивается, а ограниченное развертывается до меры неограниченного” (слова святого Максима). “Слово, ставшее плотью”, и “Агнец, закланный от создания мира”, – это божественный ответ в действии на любой вопрос о теодицее.
Догмат Халкидонского собора провозглашает:
Поучаем исповедывати единаго и тогожде Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенна в божестве и совершенна в человечестве, истинна Бога и истинна человека... во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемаго... во едино лице и во едину ипостась совокупляемаго... единаго и тогожде Сына. Тайна с особой силой подчеркивается апофатической, отрицательной формой четырех выражений: ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως, которые запрещают всякое разъясняющее, положительное “как”, относящееся к этому объединению, но с самого начала утверждают единство божественно-человеческой жизни – синергию богочеловеческой энергии (выражение Дионисия Ареопагита из его 4-го письма к Гаю). Ударение делается на присущее единство воль во Христе, без отрицания того, что их две.
Однако единство осуществимо только в силу таинственного соответствия, о котором упоминают апостол Павел в своем учении о двух Адамах, земном и небесном (1Кор.13:47–49), и сам Господь, говоря о Сыне Человеческом, сшедшем с небес (Ин.1:13), что является темой, хорошо знакомой уже Даниилу. Чтобы быть воипостазированной в божественной ипостаси, человеческая природа должна была обладать соответствием и быть созданной по образу Божию, быть богоподобной. Это соответствие небесного и земного обусловливает положительное содержание отрицательной формулы Халкидона: реальность теосиса, онтологическую способность достичь обоженного состояния, в котором человек живет божественной жизнью и в божественных условиях, когда он является богом, но без всякого возможного смешения, т. к. это происходит всегда и единственно по благодати. Христологическое выражение “неслиянно и нераздельно”, спроецированное на человеческую плоскость, являет единство тварной природы с благодатью, с божественной нетварной энергией.
Бог всегда тождествен самому Себе, однако “Слово, всегда оставаясь тем, чем Оно было, становится тем, чем Оно не было”. Творец становится Своим собственным творением и дает Богородице, а в Ней – человечеству, возможность родить своего Бога. “Церковь словно беременна и в родах до тех пор, пока Христос не отобразился в нас, чтобы каждый из святых через свое участие во Христе стал бы Христом”. Таким образом, халкидонская формула заключает в себе тайну божественного кеносиса, которую надо сохранять нетронутой и чистой от всякого искажения, происходящего от стремления анализировать невыразимое. “Вся тайна домостроительства состоит в истощании и умалении Сына Божия” (по святому Кириллу Александрийскому). Божественное творит обожение, а человеческое очеловечивает.
Согласно Флп.1:6–8, Тот, кто является образом Божиим, принял образ раба и, “вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест” (Евр.13:2). Все значение выражения “богочеловеческая энергия” состоит в том, что во Христе не существует ничего, что было бы только божественным или только человеческим, но одно существует в другом, на что, со своей стороны, указывает христологический перихоресис, учение о взаимопроникновении обеих природ во Христе. Его тайна остается неразрешенной и раскрывается только частично в Богоявлении, в кресте и преображении Господнем. Христос, как предтеча, ведет нас к нашему предназначению к славе, скрытому от века в Боге, и, превосходя пределы материального храма, образует для нас Свое Тело – Церковь.
15. Церковь, Тело Христово
Присутствие Христа в каждом страдающем существе будет явлено в момент Страшного суда (Мф.13:40–44), но оно уже делает из всех и из каждого членов Тела Христова. Надпись на сосуде, содержащем мощи мученика, “In isto vaso sancto congregabuntur membra Christi”(“В этом священном сосуде соберутся члены Христовы”) хорошо иллюстрирует весь реализм библейской концепции Тела.Апостол Павел описывает Церковь в образе “полноты Наполняющего все во всем” (Еф.1:23), в силу чего Тело существует лишь в таком единстве своих членов, что каждый член несет в себе все Тело целиком. И в соответствии с этим устроением, Христос является не просто одним среди других членов, а Главой в самом сильном значении объединяющего начала. Выражение ἓν σω μα, “тело”, имеет определенно евхаристическое происхождение (1Кор.13:17). И члены объединяются в организм, в котором протекает жизнь Бога в людях. Другой образ, связанный с образами “мистического брака” между Агнцем и душами, также подтверждает со своей стороны, что верные являются единой плотью и единым телом.
Церковь является плеромой, полнотой (Еф.1:23), когда она выполняет свое призвание быть “дополнением Христа”. Так, по словам святого Иоанна Златоуста, “Глава только тогда будет удовлетворен, когда тело станет совершенным, когда мы все будем со-единены и связаны вместе”; через расширение воплощения Христос=Бого-Человек переходит ко Христу=Бого-Человечеству, к Церкви.
“Христос целиком в главе и в теле”; totus Christus (весь Христос) – это Он и мы, говорит блаженный Августин, и именно в евхаристии Церковь уже переживается, демонстрируя единство и свидетельствуя о Христе: “Между телом и главой нет места ни для какого промежутка, малейший промежуток убил бы нас”, – говорит святой Иоанн Златоуст. На этом уровне “все являются одним Христом” (по словам святого Симеона), и литургический чин целования мира разъясняет это: со словами “дадим друг другу лобзание мира” (по-славянски: “возлюбим друг друга” – Прим. ред.) все люди приветствуют друг друга, говоря: “Христос посреди нас”. Собравшиеся люди поют: “Церковь стала единым телом, и наш поцелуй есть залог этого единения, вражда удалена, и любовь проникла всюду”. Николай Кавасила замечает: “Невозможно двигаться дальше, нельзя ничего прибавить, нет более ничего, к чему можно было бы стремиться”. Так что христиане в еще прикровенной тайне веры являются не только соединенными между собой, но одним во Христе. Таким образом, “единство братьев”, о котором говорят Деяния апостолов, представляет собой подлинное христоявление – явление зримого Христа. И, наоборот: “Только в общине верных может находиться Сын Божий, и это потому, что Он живет лишь посреди тех, кто едины”.
Слово Божие никогда не обращается к отдельным индивидуумам, но к избранному народу и к общей реальности. Иудео-христианская община открывается для язычников и образует новый род: tertium genus (третий род), духовное преодоление того, что есть биологически ограниченного в понятии рода. Христианство есть прежде всего евхаристия, собрание, община, тело, Церковь. Быть христианином с самого начала означало, по существу, принадлежать к общине братьев. Вдобавок к личной убежденности, нужно было быть включенным в апостольскую общину, быть в общении с Двенадцатью (Деян.1:42) – так апостольская койнония выступает в качестве признака Церкви Божьей в Иерусалиме.
Согласно со своим принципом объединения вокруг онтологического пространства, которое есть Христос, и с помощью силы, которая осуществляет это единение и которой является Святой Дух, Церковь существует в мире сем, но она не от мира сего. Она является божественным обществом и жизнью уже теперь “в будущем веке”. Вот почему жизнь в Церкви несет новое экзистенциальное измерение и новую оценку – аксиологическую метаною, “пере-оценку” ценностей.
Тайна Церкви заключается в том, что она есть одновременно “Церковь кающихся, Церковь погибающих” (святой Ефрем) и communio sanctorum (общение святых), “приобщение грешников” ко “святым вещам”, их участие в “едином Святом”, ведущее к обожению. Богочеловеческое единство Тела – христология – определяет пневматологию: утверждение человеческих ипостасей, которые соединили бы в себе, в свою очередь, нетварную благодать с тварной природой во Святом Духе и стали бы состоять “из двух природ” для того, чтобы прославить в этой христологической структуре единого и троичного Бога.
16. Пневматологический аспект
“Сияние Святой Троицы распространялось постепенно” (святой Григорий Назианзин) и являло этим, что “невозможно назвать Иисуса Господом иначе, как в Духе Святом” (святой Григорий Нисский). Сын приходит во имя Отца, чтобы мир познал Его и чтобы явить и исполнить Его волю. Святой Дух приходит во имя Сына, чтобы свидетельствовать о Нем, завершить и запечатлеть Своими дарами дело Христа. Каждая божественная Ипостась участвует по-своему в том же домостроительстве спасения. Если человеческая природа, собранная во Христе, является единой, и если “Христос есть центр, куда сходятся линии” (святой Максим), и Он “творит из тех и других одно Тело” (святой Иоанн Златоуст), то ипостаси, человеческие личности, напротив, являются множественными. Аналогия с телом должна быть уточнена. Личность никоим образом не может оказаться растворенной в безличной организации; единство Тела в соответствии с его полнотой предполагает соборность, или симфонию, человеческих ипостасей. Если Христос возглавляет и соединяет человечество в единстве Своего Тела, то Святой Дух имеет отношение к личностям и способствует их расцвету в харизматической полноте даров уникальным образом, соответствующим каждой личности. Рассказ о Пятидесятнице ясно указывает на то, что благодать почиет на каждом из присутствующих – лично: “И явились им разделяющиеся языки... и почили по одному на каждом из них” (Деян.1:3).В единстве Тела каждый член имеет свое собственное лицо: “мы словно переплавлены в одно тело, но разделены на личности” (по словам святого Кирилла Александрийского). Внутри единства во Христе Святой Дух творит различие, и каждый член Тела помянут по имени в молитве Церкви. Но Они оба неразделимы: Христос явлен Святым Духом, а Святой Дух сообщается через Христа: “Упоенные Духом, мы пием Христа”. Вся Троица оказывается включенной (в жизнь Церкви – Прим. ред.), согласно словам святого Иринея: Отец есть Unctor (Помазующий), Сын – Unctus (Помазуемый), а Святой Дух – Unctio (Помазание).
Святой Кирилл напоминает нам, что “Святой Дух был дан первому человеку вместе с жизнью”. Вследствие грехопадения Его действие стало внешним по отношению к природе, и соответственно, в крещальном действии на Иордане Он почиет на человечестве Христа, а в день Пятидесятницы становится действующим изнутри природы. Христос исполнен Духа, также и Пресвятая Дева, gratia plena (благодатная), и святой Стефан, первомученик, исполнен Духа Святого. Для святого Игнатия христиане не только “богоносцы”, но и “исполнены Бога”. В этом вселении-проникновении Господь посылает Утешителя апостолам через дуновение – наполняет их Духом Святым (Ин.13:22), Церковь предстает храмом Духа и славой Бога Саваофа, которой исполнены небо и земля.
Освящающее действие Святого Духа, испрашиваемое в эпиклезе, предшествует каждому акту, в котором духовное овладевает телом, творя из него “христологию”. Действительно, в момент творения мира Дух носился над водами, “вынашивая” бездну, из которой появился мир, чтобы стать Церковью – Телом Христовым. Весь Ветхий Завет, где “Дух говорит через пророков”, может быть понят как предварительная Пятидесятница, которая подготавливает приход Девы – рождество. Святой Дух сходит на Деву Марию, освящая ее и делая ее Своим трисвятым местопребыванием, а затем происходит рождение Иисуса, воплощение. В день Богоявления Он нисходит на Иисуса и представляет Его как Христа, Помазанника. В день Пятидесятницы именно из огненных языков Святого Духа родилась Церковь, Тело Христово. И каждый сакраментальный акт совершается действием Святого Духа, который из крещеного делает члена Христова, а из вина и хлеба творит Тело и Кровь Христову. Молитва о ниспослании Святого Духа во время освящения святого мира, обращенная к Отцу, так же как и слова, произносимые во время крещения, которые сообщают воде значение крови, показывают исключительную важность эпиклезы. В конце действия освящающей эпиклезы, предваряющей наитие Духа, является облик Тела Христова, и на третьем этапе именно действие Святого Духа удостоверяет “свершившееся” и являет славу. Наконец, пророчество Иоиля, цитированное апостолом Петром в день Пятидесятницы, показывает, как Святой Дух на протяжении истории совершает освящение плоти и одухотворение ее, чтобы сделать из нее славное Тело Царствия, Агнца нового Иерусалима. “Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя... Дух истины... наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам” (Ин.13:16, 13:13–15).
Эти слова показывают Христа великим Предтечей Святого Духа, который завершает дело Христа. “Будущее возвестит вам”: Его масштабы превосходят историю и ведут к другому веку. Слова “да приидет Царствие Твое” (Лк.13:2) имеют и другое чтение: “да приидет Дух Твой”, – и отцы Церкви называют Святой Дух Царством Божиим и воскресением. “Маракаса «ранних христиан уже было эпиклезой пришествия, начинающимся пришествием. “Огонь пришел Я низвести на землю” (Лк.13:49). По словам святого Симеона, этот очистительный “пожирающий” огонь истории обозначает действие Святого Духа. Согласно преподобному Серафиму Саровскому, Он действует также в душе каждого крещеного и вводит туда Царствие Божие.
Эта новая жизнь, которая течет внутри нас, исходит от “Жизни Подателя”. Она таинственно соединяется с нами и делается нашей всецело, подобно тому, как Христос соединяет в Своей ипостаси нашу природу и делает ее Своей. Святой Дух ближе к нам, чем мы сами, Он становится внутренним по отношению к нам. Пролог Евангелия от Иоанна говорит о Слове и подчеркивает то, что “в Нем была жизнь”. Дух был внутри Слова. Наша жизнь также начинается на уровне Духа и во взаимном проникновении достигает реальности, творящей обожение. В этом все значение учения святого Серафима Саровского о цели христианской жизни, которая есть стяжание Духа Святого, т. к. “Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством, священнотайне”.
“Сын есть образ Отца, а Святой Дух есть образ Сына”, –учит святой Иоанн Дамаскин. Но самый полный кеносис охватывает ипостась Святого Духа, который проявляется лишь в Своих дарах, – для Него не существует ипостасного воплощения, подобного воплощению Сына: “Твое имя, столь желанное и постоянно призываемое, про которое никто не смог бы сказать, что это такое”, – восклицает святой Симеон. У Духа нет Своего непосредственного собеседника, который был бы Его образом, за исключением торжествующей Церкви, Communio Sanctorum во главе с Богородицей, но это последняя тайна Царствия Божия.
Святой Дух освящает вселенную и наставляет человеческий дух, подобное принимает в себя подобное – в этом заключается начальная духоносность: “человек принимает в себя Духа в момент творения”; его восстанавливает Святой Дух в день Пятидесятницы, и таинство миропомазания воспроизводит это событие при каждом крещении.
Это Святой Дух произносит в нас “Авва, Отче”, и посредством Его мы говорим “Господи Иисусе Христе”; Он “делает для нас возможным доступ к тому, что превосходит природу, посредством того, что является привычным и естественным для нас”, и, соответственно, возвращает нам нашу охристовленную адамову природу, на которой Он сам почиет. Святой Дух ведет нас к послушанию Сыну до самой смерти. Единственным адекватным ответом творения Творцу, личности по отношению к Личности, единственным ответом бедного и нагого существа является смирение, всецелое принесение себя в жертву ради послушания. Это совершение внутренней литургии, в которой люциферова “самость” является жертвенным материалом и в которой эпиклеза вдохновляет нас на произнесение слов “да будет”. Это жертвоприношение, созидающее личность в том “отождествлении через благодать”, о котором возвещает апостол Павел: “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал.1:20). Никогда сам человек не реализует свою личность, но имеется нечто наиболее близкое ему, поистине не “его”, а дарованное ему от вечности. По словам святого Максима, это есть “личность через благодать” – ἡ κατὰ χάριν αὐτότης, – она существует лишь в той мере, в которой она постоянно переходит через свои пределы, и в этом переходе она больше себе не принадлежит. В христологическом противостоянии божественное “да” воплощения взаимодействует с человеческим “да будет”, являя свободную взаимность вне всякого принуждения. Эгоцентрическая и замкнутая на себе самой индивидуальность уступает место личности открытой и теоцентричной, со-центричной Богу. “Отказ от себя” способствует выходу к иному, и бесконечно малое смирение приводит в действие безмерность энергий Бога, ведущих к обожению.
Тайна спасения является христологической, но не панхристовой. Эпиклеза остается обязательным предварительным и всеобщим действием. Святой Василий в своей книге о Святом Духе, удачно определяет священническую роль Святого Духа: “Тварь не обладает никаким даром, который бы не исходил от Святого Духа; Он есть Освятитель, который соединяет нас с Богом”.
На Востоке пневматология занимает подобающее ей место. Православие никогда не пыталось свести Троицу к единству Ее природы в действии; оно занимается разработкой домостроительства ипостасей, где в едином действии каждая ипостась действует своим собственным образом. Перст Отца, печать Сына, помазание Отца и Сына – Дух Святой – свидетельствует о Сыне, являет Его, в некотором смысле, рождает Его (рожденный от Духа Свята и Марии Девы) и приводит все ко Христу. Будучи активным принципом, Он есть “жизни Податель” и “Сокровище благих”. По мысли греков, не содержащей схоластических классификаций и уточнений, благодать Святого Духа осуществляет причастие энергии, ведущее к обожению.
Духоносная и “охристовленная” душа становится христоявлением, вступает в личностные отношения со Христом. Это ничуть не является бегством внутрь себя. Аскет в точности следует за Христом – образует Его в себе и распинается (афонская икона изображает каждого монаха распятым). Нельзя забывать о том, как великие духовные учителя подчеркивают абсолютно личный характер мистического брака души. Святой Дух находится в нас, чтобы мы были во Христе, маленькие рыбки в Рыбе, сыновья в Сыне, любезные Отцу, потому что Церковь – и вместе с ней всякая душа – стала невестой Агнца.
17. Мариологический аспект Церкви
Для отцов именно материнская функция Церкви образует вполне естественный переход к мариологии. Если Слово в Его объективном содержании, опирающееся на себя самое, является полностью самодостаточным, то недостаточность находится в нас, и нам необходима материнская защита. Нам нужно, подобно детям, устроиться на коленях Церкви, для того чтобы читать Слово.“Одно только имя Theotokos (Богородица), Матерь Божия, содержит всю тайну Домостроительства”, – говорит святой Иоанн Дамаскин. Аналогия между Евой, Марией и Церковью восходит ко святому Иринею, и с этого времени для отцов Церкви Дева Мария является Женой – врагом Змея, Женой, облеченной в солнце, вместилищем премудрости Божией в самом ее принципе: цельностью и целомудрием бытия. “Есть лишь одна Дева-Матерь, и мне угодно называть Ее Церковью”, – говорит Климент Александрийский: “Мария, Приснодева, τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν. Если Святой Дух, πανάγιον (Всесвятой), персонализирует само качество божественной святости (святой Кирилл), то Дева, агиофания (святоявление), олицетворяет человеческую святость. И именно эта архетипическая целостность (целомудрие), σωφροσύνη, делает ее сердцем Церкви. Девственность самого строения ее существа еще до всякого действия уже торжествует над злом и обладает невыразимой властью; простое присутствие “Пречистой” уже невыносимо для бесовских сил. Бытийно связанная со Святым Духом, Мария предстает как животворящее утешение и Ева-Жизнь, оберегающая всякую тварь и заступающаяся за нее, и, соответственно, выступает в качестве образа Церкви с ее материнской защитой.
“Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое” (Притч.??). Этот текст, одновременно софийный и мариологический, говорит о молитвенном служении Церкви. Посвящение Девы жизни Храма, согласно преданию, и ее любовь к Богу достигают в ней такой глубины и такой силы, что зачатие Сына явилось в ней как божественный ответ, снисходящий к глубине ее молитвенной жизни и ее прозрачности для энергий Святого Духа.
Как “венец догматов’’ она проливает свет на троичную тайну, отраженную в человечестве: “Родила еси без Отца Сына плотию, прежде век от Отца рожденнаго без матере. Отцовству Отца на божественном уровне соответствует материнство Богородицы на человеческом уровне и образ материнской девственности Церкви. Это позволило святому Киприану сказать: “Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец”.
Органически принадлежа к потомству Адама, Пресвятая Дева, однако, ограждена от всякой личной нечистоты и от всякого зла, ставшего в ней недейственным в результате последовательной цепи очищений прародителей, особого действия Святого Духа и ее свободного подвига. Именно этот человеческий ответ подчеркнут в прекрасных словах Николая Кавасилы, обобщающих святоотеческую мысль о том, что человек не мог быть спасен без свободного согласия его собственной воли:
Воплощение было делом не только Отца, Его Благости и Его Духа, но также и делом воли и веры Пресвятой Девы. Без согласия Пречистой, без поддержки со стороны ее веры этот замысел был бы так же неисполним, как и без вмешательства Самих трех Божественных Лиц. Лишь наставив и убедив ее, Бог берет ее в матери и заимствует ее плоть, которую она охотно хочет предоставить Ему. Так же как Он желал воплотиться, Он желал, чтобы Его Мать родила Его свободно, по своей доброй воле. Исповедуя ее приснодевство, православие не принимает представления об исключительности, которое создает римско-католический догмат о непорочном зачатии Божьей Матери. Этот догмат являет Пресвятую Деву, уводит ее от общей всем судьбы и показывает возможность освобождения от первородного греха прежде Креста и, следовательно, с помощью одной лишь благодати. В этом случае для того, чтобы искупление имело место, нужно чтобы оно уже существовало и чтобы Дева пользовалась его плодами еще до его совершения. Подобное воздействие Бога, которое превращало Адама в праведника только с помощью благодати, делало для Востока непостижимым само грехопадение. Первоначальная праведность для греков была не дарованной привилегией, а “самим корнем бытия”. Бог действует не на человека, а внутри него, Он не воздействует на Деву посредством дарованного superadditum дара, но действует внутри самой синергии между Святым Духом и святостью “праведных богоотцов”. Всякое навязанное благо обращается во зло. Только свободное подчинение святости представляет собой объективное человеческое условие воплощения, которое позволяет Слову прийти “к себе”. Благодать совершенно не насилует и не принуждает природный порядок, но исполняет его. Иисус может принять человеческую плоть, т. к. человечество в лице Марии дает ее Ему, и, следовательно, Пресвятая Дева участвует не в искуплении, а в воплощении; и в лице Девы все люди говорят: “Ей, гряди, Господи”. И поэтому слова Символа веры “воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы” означают для отцов Церкви также и тайну второго рождения каждого верующего, рожденного ex fide et Spiritu sancto (от веры и от Святого Духа). При этом вера каждого верного коренится в подвиге Пресвятой Девы, имеющем всеобщее значение, в ее да будет. Благовещение, называемое “Праздником Начала” (святой Иоанн Златоуст), создает новый эон; и домостроительство спасения восходит к “мариологическому корню”, так что мариология предстает органичной частью христологии.
На “да будет” Творца тварь отвечает “да будет” как “се, раба Господня”. Архангел Гавриил является как бы вопросом, который Бог обращает по отношению к свободе Своего блудного сына: действительно ли он желает заключить в свою утробу Невместимого? В ответе Пресвятой Девы вспыхивает чистое пламя Того, кто отдает себя и, тем самым, готов к принятию. Действие Святого Духа через линию “праотцев” и чистота благодатного Вместилища в их высшей точке обезоруживают зло; грех остается действительным, но становится недейственным. Человек приносит в храм свое приношение – хлеб и вино, и Бог Своим царственным действием превращает их в Свою Плоть и в Свою Кровь, в пищу богов. Человечество приносит свое самое чистое приношение – Деву, и Бог делает ее местом Своего рождества и матерью всех живущих, совершенной Евой: “Что Ти принесем, Христе?.. Кийждо бо Тебе приносит... ангели пение, небеса звезду, волсви дары, пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли, мы же Матерь Деву”, – воспевает Церковь накануне Рождества. Хорошо видно, что Мария совсем не есть “жена среди жен”, но есть пришествие Жены, восстановленной в своей материнской девственности. Все человечество в лице Девы рождает Бога, и поэтому Мария есть новая Ева-Жизнь, и ее материнская защита, которая хранила младенца Иисуса, хранит, как покровом, вселенную и каждого человека. Слова, произнесенные на кресте: “Иисус... говорит Матери своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!” – учреждают достоинство материнского покрова.
Именно ее человечество, ее плоть становятся человечеством и плотью Христа, Мать становится “единокровной” Ему, и она первая осуществляет конечную цель, ради которой был сотворен мир: “предел тварного и нетварного” (святой Григорий Палама), и через нее “прославлена Святая Троица” (святой Кирилл Александрийский). Рождая Христа в качестве всемирной Евы, она рождает Его для всех и, следовательно, рождает Его также в каждой душе. Вот почему вся Церковь “радуется в лице Девы благословенной” (святой Ефрем). Так Церковь изображается в роли мистической Матери, продолжающей рождать, как вечная Богородица.
Святой Максим Исповедник определяет мистика как “того, в ком лучше всего проявляется рождение Господа”, т. к. созерцание делает “плодоносную душу одновременно девой и матерью”, а святой Амвросий добавляет: “Каждая верующая душа зачинает и рождает Слово Божие по вере, и Христос есть плод всех нас, так что все мы суть матери Христа”. Эти слова проливают значительный свет на евангельский эпизод (Лк.1:19–21) и отстраняют тот уничижительный смысл, который придает ему классическая протестантская экзегеза. Ударение делается не на Деву, а на каждого человека: “Матерь Моя суть слушающие слово Божие и исполняющие его”, – каждому человеку дана благодать рождать Христа в своей душе и самоотождествляться с Богородицей.
Христос есть “Путь” и “Дверь”, Богочеловек, Он – единственный. Пресвятая Дева – первая, Она идет впереди человечества, и все следуют за нею. “Благая Наставница”, “Водительница” и “Огненный Столп”, она ведет всех к новому Иерусалиму. Она первой проходит через смерть, ставшую бессильной благодаря ее Сыну, и поэтому канон, читаемый в час смертный каждого верного, обращается к ее заступничеству: “Во успении Твоем мира не оставила еси, Богородице”. Церковь воспевает в ее лице мир, уже ставший “новой тварью”: “Радуйся, венец догматов”, – божественная истина, осуществленная в творении. Успение закрывает врата смерти, печать Богородицы ставится на небытие, она скрепляется свыше Богочеловеком и снизу – первым воскресшим творением.
Римско-католический догмат о вознесении Богородицы (1950 г.) соответствует православному празднику Успения (κοί μησις), но его богословское обоснование восходит к совершенно другому учению о природе и благодати. Действительно, “непорочное зачатие” отрицает, в случае Пресвятой Девы, всеобщий закон заражения первородным грехом, что освобождает ее от смерти и объясняет молчание римско-католического догмата по поводу смерти и воскресения Марии. В противоположность этому православный литургический праздник Успения включает в себя смерть и погребение Богородицы, а затем ее воскресение и вознесение на небеса. В службе празднику Церковь воспевает: “Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея” (Пс.134:8); “обаче, последующи Сыну Твоему, естественным повинуешися законом, тем же по смерти с Ним восстаеши, вечнующе” (1-я песнь канона на утрене); “О Пречистая, от земли к небеси преставилася еси днесь” (стихира 1-го гласа на вечерне).
Параллелизм (весьма характерный для “родства” этих двух архетипических вершин человечества) праздников в честь Пресвятой Девы и святого Иоанна Крестителя нарушается праздником Положения Ризы Пресвятой Богородицы (2 июля и 31 августа), которую Она “оставляет на земле вместо Своего тела”, в то время как Церковь три раза прославляет мученичество Иоанна Предтечи, празднуя “обретение его мощей”, которые пребывают здесь на земле, ожидая “Вечной Весны”. Вознесение Пресвятой Девы всегда истолковывается как дар Сына Своей Матери и святой Иоанн Дамаскин называет Господа “должником” Богородицы и таким образом указывает на тайну Их близости. Это, однако, не отделяет Деву от судьбы, общей для всех, причем определение Ее судьбы лишь сокращено во времени и предвосхищает Второе Пришествие. Если смерть Сына была добровольной, то Пресвятая Дева, напротив, проходит согласно всеобщему закону падшей природы через врата смерти (канон праздника, составленный Косьмой Маиумским, очень ясно выражает это), и Она воскресает по власти Своего Сына.
Литургическое и иконографическое почитание заключает в себе мистический, тайный характер этого события. Это объясняет, почему оно не упоминается в апостольской проповеди; и, с другой стороны, отсутствие ссылок в Писании ставит его за пределы догматического учения, сформулированного на соборах. Чтение во время службы Успения текста Флп.1:5–11 подчеркивает кенозис, который Мать разделяет с Сыном и особенно со Святым Духом, божественность которого провозглашается одновременно с провозглашением достоинства Богородицы. Но это почитание остается делом внутреннего самосознания Церкви, ее самой глубокой тайной, недоступной вне пережитого света предания. Церковь празднует этот праздник, как вторую таинственную Пасху, и воздает хвалу первому обоженному прежде конца времен творению.
На вершине святости Церкви пребывает Пресвятая Дева, и ее девственность выражает esse (суть) Царствия Божия, святость in aeternum (в вечности), свадебную песнь Sanctus (Свят). Чтение из Притч.(Притч.1:22–30) во время праздника Зачатия Богородицы святою Анною отождествляет Пресвятую Деву с местопребыванием Премудрости Божией и прославляет в ней наконец достигнутую цель божьего творения.
“Очищение мира” и “Купина неопалимая”, “Оранта”, Пресвятая Дева изображает служение молитвой, харизму заступничества. Будучи Невестой, вместе с Духом она говорит: “Гряди, Господи!” На Суде Слово, Истина, судит и обнажает раны, Святой Дух “животворит” и исцеляет. Эта грань премудрости, которую несет в себе Дух, выражается в служении Пресвятой Девы вместе со служением святого Иоанна Крестителя. Икона Деисус изображает их окружающими Судию Христа и представляющими молитву Церкви, заступничество милосердия, и поэтому та же самая икона означает, в более глубинном смысле, брак Агнца с Церковью и с каждой христианской душой.
18. Космический аспект
Икона Пятидесятницы представляет космос в образе старца с короной на голове, простирающего руки к огненным языкам Святого Духа. Христос ходил по этой земле, Он любовался ее цветами, и в Своих притчах Он говорил о предметах этого мира как об образах небесного; Он был крещен в водах Иордана, Он пробыл три дня в недрах земли, и нет ничего в этом мире, что осталось бы чуждым Его человеческой природе и что не приняло бы Духа Святого. Вот почему Церковь благословляет в свою очередь все творение: в день Пятидесятницы зеленые ветви и цветы наполняют храмы, во время праздника Преображения приносятся и благословляются плоды, праздник Богоявления сопровождается “великим освящением воды”, и во время вечерни Церковь освящает хлеб, пшеницу, вино и елей, а в день Воздвижения Креста она благословляет четыре стороны света и таким образом склоняет все природное бытие под спасительный знак непобедимого креста. В Православной Церкви можно видеть изображенный на иконах собор святых, при этом растения окружают колонны, и на их фоне видны животные, которые копошатся у их подножия и смотрят с надеждой на спасенного человека. Тогда становятся более понятны библейские образы, такие как “Небеса проповедуют славу Божию; да ликуют вместе горы” (Пс.??, 13:8). И именно эта глубокая близость, это сущностное единение между космосом и человеком объясняет действие таинств, в которых материя космоса становится проводником, средством передачи благодати – божественной энергии. Все едино в ожидании “космической литургии”, все привязано к святости с целью обрести себя в ней и воспеть прекрасный гимн Творцу. И не носит ли сама Божья Матерь эти космические и сакраментальные имена: “Хлебный колос” и “Лоза Жизни”? 19. Характерные черты Церкви
“Верую во едину святую, соборную и апостольскую Церковь”. Так Константинопольский собор (381 г.) указывает на четыре свойства Церкви, на ее “характерные черты”, которые выражают полноту ее бытия и свидетельствуют о преемственности дела Господа вплоть до Второго пришествия. Всякое искажение или умаление одного из этих качеств искажает саму реальность Церкви. Перед ее тайной разум призывается к отказу от юридической и формальной логики для того, чтобы получить озарение, исходящее от догмата. Характерно то, что современное богословие, сохраняя за словом “экклезиастический” (“церковный”) широкий смысл всего того, что касается Церкви, ввело термин “экклезиальный”, который касается Церкви в более внутреннем смысле общины и общения. Этот неологизм подчиняет юридический и социальный аспект Церкви общинному и сакраментальному. Один из наиболее близких Востоку римско-католических богословов Мелер полагал, что “все устройство Церкви является ничем иным, как воплощенной любовью”, а русский богослов Хомяков писал: “Церковь есть вселенская жизнь любви и единства”. Как можно “определить” или “сформулировать” Церковь, если Церковь – это Сам Бог в откровении взаимной любви? 20. Единство Церкви
“Церковь одна”, – именно в этом утверждении наиболее адекватно выражена ее природа. Святой Киприан пишет труд против раскольников и озаглавливает его вполне естественно “О единстве Церкви”. Это единство охватывает время и пространство, земное и небесное, Церковь людей и Церковь ангелов. “Разве разделился Христос?” (1Кор.??–13), –спрашивает апостол Павел, т. к. сама идея Тела противостоит всякому разделению. В день Пятидесятницы Церковь воспевает откровение своей природы: “Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва; и согласно славим Всесвятаго Духа”. Един Господь, един Дух, т. к. един Бог и Отец для всех. Эпиклеза единства восходит к монархическому принципу Отца, источнику троичного единства, источнику церковного единства, в котором каждое действие, анафора, молитва-воспоминание, происходит во имя Отца и перед лицом Отца: “Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством, священнотайне”.Множественность автокефальных Церквей оставляет нетронутым историческое разнообразие языков и культур, но, совсем как многоголосая симфония, Церковь по существу едина в учении и в таинствах, koinonia. Она исповедует везде и всегда одну и ту же веру, “как если бы, рассеянная по миру, она обитала бы в одном доме”.
В апостольские времена слово “Церкви” указывало на те места, где проявляло себя Тело Христово, всегда единое. Сегодня множественность относится также к частям разделенного христианского мира, и в качестве таковых лишенным евхаристического общения. С православной точки зрения, догматическое учение о единстве Церкви определяет Православную Церковь. Всякая христианская группа вне канонических границ принадлежит к православию по мере его причастности к истине (крещение, имя Божие). Ересь, раскол – это явление жизни Церкви. Ее связь с центром-плеромой может быть более или менее ослаблена, и это говорит о ее степени православности. Так происходит движение от какого-то случайного союза к принципиально церковному “единству”, которое открывается в связи с “уникальной” природой Церкви: Церковь едина и единственна.
21. Святость Церкви
“Будьте святы, как Я свят”. На неисполнимость требования этих слов отвечает Святая святых Церкви, ее харизматическое преизобилие, которое при помощи таинств позволяет “соделаться причастниками Божеского естества” (2Пет.??a>), “иметь участие в святости Его” (Евр.13:10). “Святым Духом всякая тварь обновляется, паки текущи”. Церковь не перестает взывать к животворящей благодати, чтобы она оросила бесплодную и пустынную почву человеческого: “Всевятаго Твоего Духа низпосли, просвещающа души наша”. Христос “предал Себя за нее (Церковь), чтобы освятить ее” (Еф.1:25), сотворить из нее агиофанию (святоявление), явление “Того, Кто есть Сущий” и кто Свят. Апокалипсис предвосхищает существование в вечности: люди и ангелы преклоняются перед Агнцем и поют Трисвятую песнь и Свят, воспевая святость. Церковь становится вечной божественной литургией, общением святых.
22. Кафоличность Церкви (ἐκκλησΊα καθολΙκὴ)
Καθολικὴ, произведенное от καθ᾽ὅλου – secundum totum, “согласно с целым”, quia per totum est, “выражает целостность”, которая является не географической, горизонтальной или количественной, но вертикальной и качественной, противостоящей всякому делению вероучения. Слова “Там где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь” обозначают это единство плеромы, которое никоим образом не зависит от исторических, пространственных и количественных условий.Горизонтальное распространение представляет “вселенское” измерение Церкви. Οἰκουμένη означало “обитаемую землю”, вселенскую империю, совпадающую с географическим выражением Церкви. Титул патриархов и определение соборов как Вселенских означает территориальный универсализм, собрание христианской империи вокруг своей столицы в противоположность поместному, провинциальному. При этом патриархи за пределами империи носят титул католикоса (например, в Грузии и Армении).
Вселенскость есть только вторичное выражение, только следствие, вытекающее, в зависимости от исторических обстоятельств, из вертикального единства, уходящего в глубины веры, богослужения, учения и догматики. Действительно, “Вселенские” соборы в церковном сознании отвечают своей “кафоличности”. Вселенскость империи имеет проходящее величие, кафоличность же Церкви пребывает в веках.
“Если какой-нибудь город или страна отделятся от вселенской Церкви, Церковь все равно останется целостным и нерушимым телом”, – говорит митрополит Филарет. Великий русский богослов Хомяков придал качественную полноту термину кафолический в своем учении о соборности. Слово “соборность” происходит от слова “собор”, что значит “собрание”, “церковный собор”, или “синод”, и указывает на то, что соборный принцип вытекает из внутренней кафоличности Тела. Он не вводил никаких новшеств, но нашел удачное выражение, которое обобщает святоотеческое учение, и для него одно это слово соборность “уже содержит целое исповедание веры”. Эта глубинная всеохватность веры и целостное причастие истине становятся принципом жизни каждой поместной Церкви, делая ее целым, тождественным везде и всегда кафолической сущности; pars pro toto (часть сообразна целому) объясняет существование множества “Церквей” по образу существования множества евхаристий. Послание к христианам Смирны поясняет: как в евхаристии Христос присутствует весь целиком, так и каждая церковная община есть вся полнота Тела Христова; там, где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь. Надпись к “Мученичеству святого Поликарпа” гласит: “Церковь Божия, пребывающая в Смирне, – Божией Церкви, пребывающей в Филомелионе, всем общинам мира, принадлежащим к святой кафолической Церкви”. Кафоличность по своей природе свойственна каждой поместной Церкви по месту ее проявления.
Так как Церковь является хранительницей божественной Истины, то, по словам самого Господа, нужно обращаться именно к ней, чтобы узнать о ее истинном смысле. Не члены объединяются для того, чтобы произвести на свет, родить Тело, а Церковь рождает своих собственных детей во Христе. Она обращается к каждому человеку, но она не зависит ни от числа своих членов, ни от видимого успеха их миссии. Будучи всегда тождественной самой себе, даже когда она сведена к “малому остатку”, она ничуть не меньше хранит цельность своей соборной истины. Святой Максим Исповедник говорил монофелитам: “Даже если бы весь мир (ойкумена) причастился с вами, я один не причащусь”. На Первом Вселенском соборе святой Афанасий выражает кафолическую истину и призывает всех отцов собора держаться соборности Церкви.
23. Соборное устроение Церкви
Церковь, согласно замечательному определению Хомякова, есть “жизнь Бога в людях”. Однако “никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Ин.13:6). Эти слова не выражают никакой узкой исключительности, но означают то, что познать Бога можно лишь как Общение трех Лиц, как абсолютную Церковь Пресвятой Троицы. Нельзя “прийти к Отцу” как к одной Личности, абстрагируясь от двух остальных, но приходят к Отцу в Сыне и через Святого Духа. И, наоборот, Бог в Своих отношениях с миром открывается и говорит только Своему образу – Церкви-общине, объединенной взаимной любовью.Подобно тому как душа пронизывает все части существа, не будучи никогда подвластна локализации, так и Бог в Своих отношениях с людьми пронизывает все, но Его не больше в патриархе, чем в простом верующем. Его присутствие заключается в милосердном качестве Тела, в агапической связи, которая делает из множества одно во Христе, и в этом состоит чудо божественного человеколюбия, которое лежит в основе соборной структуры православия. Оно принципиально противостоит всякому антииерархическому эгалитаризму, как и, с другой стороны, всякому монархизму, и делает невозможной любую идею наместничества Христа. Именно Христос всегда направляет Церковь, и всякое догматическое решение вдохновляется непосредственно Святым Духом: “Изволися Духу Святому и нам”, – провозглашает уже Апостольский собор в Иерусалиме, и эти слова станут священной формулой всех соборов. Все епископы равны с точки зрения благодати епископства, что исключает всякое представление о сверхъепископе. “Епископская обязанность одна; разные епископы участвуют в ней таким образом, что каждый несет ее целиком”, – ясно говорит святой Киприан. Всякая епископская власть всегда осуществляется в Церкви и вместе с Церковью и никогда не действует поверх или на нее, в противном случае организм любви превратился бы в юридическое и клерикальное общество и создал бы разделение на Церковь учащую и Церковь учащуюся. “Хранителем благочестия и веры является весь церковный народ”, – утверждает Послание восточных патриархов 1848 г. Есть только одна Церковь, обучаемая самим Христом. Народ не противопоставляется иерархии, которая является органической частью народа, т. к. прежде всего все являются членами “народа Божия”. И поэтому православное наставление осуществляется только в согласии с consensus всего Тела в его совокупности, что является выражением духовного закона о единстве, в котором осуществляется его соответствие истине. Решения соборов никогда не навязываются монархической властью, не получаются с помощью способа демократического голосования, но всегда являются ex consensu ecclesiae (с согласия Церкви), соответствующими всеобщей вере Церкви. “Кафоличность” (или “соборность”) не вытекает из формального факта принадлежности к юридическому единству, но именно истина создает единство и распространяет это качество на ее членов, делая их кафолическими.
24. Соборы
История показывает, что юридический принцип организации не является достаточным. Тайна жизни взрывает изнутри всякое чисто формальное определение. Так, Сардикийский собор 344 г. считался Вселенским, но Церковь признала его поместным. В то же время Константинопольский, восточный, собор 381 г. вошел в историю как Второй Вселенский собор. Так называемый “разбойничий” Эфесский собор 439 г. был признан недействительным решением собора 451 г. Константинопольский собор 553 г. получает на Западе титул Вселенского лишь в 700 г. Собор 754 г. признается еретическим, также и решения собора 869 г. отменяются в 879 г., десять лет спустя. Флорентийский собор 1439 г. был отвергнут народом, несмотря на его совершенно правильную организацию. Поместные соборы часто получают кафолическое вероучительное значение – так, например, произошло с соборами 1341 и 1351 гг., собранными по поводу божественных энергий. Также обладают большим авторитетом вероучительные уточнения Иерусалимского собора 1672 г.Формальный юридический критерий условий полной власти и претензия быть “Вселенским” не достаточны. Необходимо, чтобы каждое догматическое или каноническое решение было принято церковным народом, чтобы оно вошло в Тело, и когда оно облекается в плоть и кровь Церкви, когда оно отождествляется с ее сущностью, когда оно переживается как таковое, – тогда оно считается кафолическим и отождествляется с апостольским источником. Римский догмат о непогрешимости папы отвергает не факт предварительного консенсуса Церкви, но его обязательный характер, в силу которого он сообщает свое значение папскому определению. Папа “консультируется” с епископской коллегией до своего выступления, но именно в момент папского определения и ex sese проявляется его догматический характер. В православии консенсус народа Божия осуществляется после определения – для того, чтобы освидетельствовать, когда это нужно, божественный характер догмата, сформулированного ex consensu ecclesiae (исходя из церковного согласия).
Иерусалимский собор, прототип всех соборов, хорошо отражает внутренние условия единодушия апостольской жизни: “Все же верующие были вместе и имели все общее” (Деян.1:44). В момент необходимости принятия решения “апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела” (Деян.13:6); “тогда апостолы и пресвитеры со всей Церковью рассудили...» (Деян.13:22); “мы, собравшись, единодушно рассудили...” (Деян.13:25); “угодно Святому Духу и нам” (Деян.13:28). Вся Церковь принимает решение, ничуть не разделяя и не противопоставляя священство и мирян и тем более не смешивая их, но действуя в совершенном согласии со всеми членами одного Тела и одной души.
Быстрый рост Церкви способствует выделению особого служения, благодатью которого обладают епископы, представляя свою Церковь. Но святой Киприан из ссылки пишет клиру своей Церкви: “Я решил ничего не предпринимать без вашего совета и без согласия с народом. По моем возвращении мы обсудим все сообща. Монахи принимают весьма активное участие в трудах соборов (начиная уже с Третьего Вселенского собора) – так, на Седьмом соборе их было около 130 с правом голоса.
В данных условиях епископы являются представителями своих общин и выражают мнение Церкви. В более тревожное время, когда связь между епископом и его Церковью ослабевает, требуются другие формы, и к деятельности соборов могут привлекаться миряне. Так, Московский собор 1917 г. насчитывал в своем составе большое число мирян. Однако они составляли как бы нижнюю, консультативную палату, решения же принимались только епископами. Епископское собрание – это не формальная юридическая власть, а живая харизма, и только в этом случае она является charisma veritatis certum (харизмой удостоверения истины). Подчинение епископату является не формальным условием, а неодолимым выражением любви к единству.
В эпоху семи Вселенских соборов эти соборы представляли как церковное, так и государственное учреждение. Неотъемлемой прерогативой императорской власти являлась прежде всего власть созывать соборы. Но представители государства участвовали внешне и наблюдали за порядком, защищая свободу мнений, но не принимали участия в голосовании. На постановлениях стояла подпись всех отцов, и они утверждались императором как первым членом Церкви, что придавало им силу закона для всех граждан. Согласие отцов соборов осуществлялось по отношению к явленной истине Святым Духом, что исключало, к окончанию работы собора, наличие меньшинства и большинства, равно как и личных, особых мнений. Постановления принимаются немедленно в дисциплинарном плане, но “условно” – до момента их принятия всей Церковью, когда они признаются уже “безусловно”, как исходящие от действительно Вселенского и кафолического собора и как выражающие догматы, или непогрешимые истины. Этот абсолютный характер объясняет традицию соборов торжественно провозглашать свою верность предыдущим постановлениям: “Сия вера апостольская, сия вера отеческая”. Собор является “Вселенским” не из-за того, что он был формально организован с помощью полномочных представителей всех поместных Церквей, но потому, что он свидетельствовал о вере и явил истину. Именно Святой Дух делает собор действительно кафолическим, и Тело удостоверяет это в момент, избранный Богом.
В настоящее время соборы проходят в иную эпоху, когда внешние формальные условия и отношения с государственными властями очень различны, но мистическая реальность Церкви остается нерушимой, так же как и передача верности тому же принципу жизни. Непогрешимость принадлежит только Церкви в ее богочеловеческой целостности, ее глубинной реальности, которая является таинством Истины. Консенсус не демократичен, это не воля всех, но он выражает общую волю к соответствию истине, постоянному чуду Церкви – вечному Христу, totus Christus (всему Христу).
25. Апостольство Церкви
Исторический характер Церкви и одновременно ее власть над историей, власть свободно распоряжаться своими элементами, переходя за их пределы, объясняет принцип апостольской преемственности. Определение “апостольская” относится не только к началу Церкви как к ее отправному историческому пункту, которым является собрание апостолов, – ведь последующее развитие могло изменить начальное содержание учения. Истинный смысл слова “апостольская” означает быть тождественной по сущности сверхисторической основе, доверенной апостолам. При этом принцип, который позволяет сказать, что Церковь в Сионской горнице в день Пятидесятницы – как во всякий момент истории, так и сегодня – является идентичной самой себе, принцип, который удостоверяет эту тождественность и прилагает к этому печать апостольской достоверности, носит название апостольской преемственности. В этом выражении слово “преемственность” означает последовательное существование на протяжении истории и непрерывную передачу предания через века до конца истории; “апостольская” же указывает на историю, преодоленную в самой ее историчности посредством свидетеля (Церковь = апостол). Именно он остается идентичным на протяжении развития исторических форм. Образно можно сказать: посредине потока сохраняется незыблемый принцип – это апостол, который по мере непрерывного прохождения, одной за другой, волн истории идентифицирует ее со своей собственной сущностью или отвергает ее как еретическую, внешнюю по отношению к истоку. “Так учили святые апостолы и Отцы Церкви” – это свидетельство тождественности той же вере, тому же учению, тому же богослужению, той же евхаристии. “Апостольская преемственность” свидетельствует о Церкви как о постоянном таинстве Истины.Премудрость Божия предлагается и говорит “через Церковь” (Еф.1:10). Святой Дух говорил до соборов, и Он говорит после них, т. к. Его местопребывание есть Тело, единое в евхаристии, и “наше учение находится в согласии с евхаристией” (святой Ириней). Эпиклеза просит Святого Духа совершить преложение Святых Даров, а также освятить верующих и сделать Церковь святой и непогрешимой. Формулировка истины не может быть прерогативой одного служения и, еще менее, одного человека. Все то, что есть “ex sese non autem ex consensu Ecclesiae” (“не от себя самого, но от согласия Церкви”), не требует эпиклезы, церковного условия Истины. Даже Святой Дух ничуть не является наместником Христа, а есть Свидетель, который удостоверяет и являет присутствие Христа в Нем, и Оба говорят через Церковь, от ее целостности, и передают истину Отца Небесного.
Будучи тождественной в своей сущности со своим истоком, с евхаристией, Церковь, таинство Истины, есть также таинство таинств (по словам Дионисия Ареопагита). Это означает, что в то время, как всякое таинство действенно через присущую ему благодать, сама благодать проявляется и приносит свой плод лишь внутри Церкви, иначе говоря, только в том случае, если таинство есть таинство Церкви. Таким образом, “апостольское преемство” не является формальным началом непрерывной исторической цепи: вне Церкви, лишенное места своего приложения и своего источника, оно не может больше действовать.
Действия епископа, отлученного от евхаристического общения, т. е. от Церкви, лишены какого-либо церковного содержания и не имеют духовной силы. Эта власть не является формальной, она не исходит только от одного служения как от начала, но от Церкви как от источника. Апостольская преемственность как свойство апостоличности и как собственно начало благодатной действительности зиждется на Церкви, проникает в ее служение и немедленно прерывается, как только носитель иерархического служения отделяется от Церкви-источника. Итак, совсем не степень апостольского преемства придает законность священству Церкви и, таким образом, решает экклезиологическую проблему Реформации, но именно законность священства помещает его внутрь апостольской преемственности. Конфликт между православием и Реформацией происходит не из-за апостольской преемственности, но из-за того, что она означает: из-за сакраментальной реальности Церкви как таинства Истины и иерархического и харизматического органа, который обеспечивает ее непрерывность и свидетельствует о ее подлинности, из-за священства.
Невозможно с исторической точки зрения доказать наличие во всех общинах прямой преемственности из апостольских рук. Первый век – это время формирования Церкви как Тела Христова. Это уникальное время преизобилования даров и некоторой неустойчивости форм. Рядом с апостолами можно увидеть пророков, харизматиков и старейшин. Ириней и Евсевий сообщают нам некоторые сведения из предания о посвящении непосредственных преемников, установленных лично апостолами, – это кафедры Рима, Иерусалима, Эфеса, Антиохии, Смирны, Афин и Филипп. Молчание и историческая неясность относительно других мест никак не влияют на церковную структуру. Харизматики действовали “благодатью, восполняющей всякое оскудение” человеческое и историческое, они действовали через вертикальную силу Церкви как таинства таинств, которая врачует всякую внешнюю сиюминутную немощь (как говорит об этом текст, читаемый во время рукоположения). И во II веке можно увидеть уже иерархически дифференцированную жесткую структуру с епископом во главе каждой евхаристической общины, или поместной Церкви.
Апостольское преемство получает свою законченную, историческую, закрепленную канонами форму, и с этого времени историческая непрерывность никак не нарушается. Священство принимает свою современную форму. Руки апостолов, распростертые над вселенной и сообщающие без различения дары (по Деяниям), становятся руками епископов, простертыми над тремя степенями священства: епископом, священником, дьяконом, – при четкой согласованности и совершенной канонической определенности. Видно, что для православия (благодаря пониманию апостольской преемственности в связи со священством и евхаристией) доказательство непосредственной связи с апостолами для каждой общины является вопросом, не представляющим большого интереса. Апостолы и харизматики действовали с помощью силы Церкви как таинства таинств, что показывает, что совсем не личное достоинство того или иного апостола, Петра или Иоанна, является источником полномочий, но именно целокупность Церкви – totus Christus (весь Христос) – обладает силой выявлять в нужный момент ту или иную каноническую форму и отождествлять ее со своим бытием, esse.
Если говорят, что “Церковь заключена в епископе”, то это потому, что он обладает харизматическим качеством содержать в себе свою общину и делать ее Церковью (такова символика его “омофора”; подобно этому и первосвященник носил на своей груди имена двенадцати колен Израилевых). С другой стороны, “епископ находится в Церкви”, его власть никогда не является личной властью, а властью Церкви, так же как и его potestas magisterii (учительская власть) находится в зависимости от богочеловеческой реальности Церкви. Поэтому епископы действуют одновременно in persona Christi (от лица Христа) и in persona ecclesiae (от лица Церкви). Подобно этому, они никогда не говорят от своего собственного имени, но всегда ex officio (от служения); никогда ex sese (от себя), но всегда ex consensu ecclesiae (от церковного согласия). Учительская власть епископата выражает веру народа Божьего. Собрание епископов призывает церковную эпиклезу соборов: “Изволися Духу Святому”, – чтобы совершить таинство Истины, и именно здесь – обоснование епископского состава соборов. Но “время” исполнения этого таинства включает в себя момент принятия, который состоит в его “совершилось”, удостоверенном всем Телом. Иерархия соединяет народ в Тело, но и сама находится внутри этой целостности:
Все верные, объединенные священным преданием истины, все вместе и все преемственно собраны Богом в Церковь, которая есть истинная хранительница священного предания. Если задача богословского размышления и творческого восприятия возлагается на всех, то задача определять, провозглашать истину и хранить в чистоте сокровищницу веры относится к епископской харизме. Все являются хранителями веры, но епископы являются свидетелями веры, божественно уполномоченными на это (charisma veritatis certum).
26. Священство
Хотя между двумя Заветами несомненно существовала преемственность, структура их священства различна. В Ветхом Завете сперва происходит постепенное установление культа и обряда, и только затем Бог сходит, дабы пребывать в них. Церковь, таким образом, возникает как завершение формальных установлений: “И освящу скинию собрания и жертвенник; и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне; и буду обитать среди сынов Израилевых и буду им Богом” (Исх.13:44–45). Но это устройство, подобно закону, есть только “тень будущих благ, а не самый образ вещей” (Евр.13:1); это еще не “вещь” сама по себе, но ее предвидение, предвосхищающая тень. Однако Христос “отменяет первое, чтобы постановить второе” (Евр.13:9). Таким образом, в Новом Завете порядок изменен на обратный: в яркий полдень истории помещается Восток как воплощение, которое несет в себе и вещь, и тень, и в исторической последовательности тень (обряд и учреждение) не предшествует, а следует. Народ Божий объединен теперь не в “скинии собрания”, не “на горе сей и не в Иерусалиме” (Ин.1:21), а во Христе: Церковь есть Тело Христово, полнота “Наполняющего все во всем”. Полнота присутствует прежде всего во Христе, и затем она как бы разделяется на свои канонические, упорядоченные во времени элементы: “из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение” (Еф.1:16). Священство, таинства, догматы, канон библейских книг, богослужение, все учредительные формы постепенно закрепляются и образуют видимую сторону Тела, но все в этих формах укреплено неизменным присутствием абсолютного Свидетеля, Духа, являющего абсолютного Священника – Христа. Христос не передает Свои личные полномочия апостолам, что означало бы Его отсутствие. Икона Пятидесятницы подчеркивает посредством изображения места, оставленного для Христа во главе апостолов, невидимое присутствие Главы. Молитва во время рукоположения во епископы выделяет это: “Не через возложение моих рук, но через причастие Твоим дарам даруется благодать”. Руки необходимы, но для того, чтобы передать дары, исходящие из божественного источника. Речь идет не о преимуществах одного из апостолов или собрания епископов (что было бы коллективным папизмом). Речь идет о присутствии единственного Первосвященника –Христа. Его единое слово становится со временем четырьмя евангелиями, единственная чаша – множеством евхаристических литургий, Его власть оказывается распространенной на целокупность Его Тела с различием служений, функций, харизм и даров. 27. Божественное происхождение священства
Священство по чину Мелхиседека есть священство “без отца, без матери, без родословия” (Евр.1:3), вне всякой присущей ему чисто человеческой передачи или преемства. Священническая власть передана через дуновение Христом двенадцати апостолам, и ее происхождение определенно является божественным: “Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас” (Ин.13:16). “Аксиос” и “аминь”, произносимые народом во время избрания, тем не менее необходимы, но лишь как один из элементов богочеловечества, как человеческое условие харизмы, источник которой является, безусловно, божественным. 28. Сословное и царственное священство
Предание весьма определенно в том, что касается функционального различия (основанного на харизмах и порядке служений) между двумя видами священства. Оно никогда не впадает в смешение и утверждает природное равенство: все являются прежде всего равными представителями народа Божия, и именно внутри этого равенства происходит функциональная дифференциация харизм. Обряд поставления в епископы содержит многозначительную деталь. В самый торжественный момент службы старейший из епископов становится на место дьякона и произносит прошения дьяконской ектении, и все остальные епископы вместо народа поют ответные слова. Таким образом, в момент возведения избранного в высший иерархический чин, все епископы занимают место верных, т. к. все являются прежде всего священниками царственного священства, равноценными членами Тела – и лишь затем избранный принимает епископские харизмы, чтобы исполнять вполне определенную харизматическую функцию, служение, установленное внутри Тела. Один Христос есть Священник, все же являются священниками через соучастие, некоторые являются епископами и пресвитерами. Нужно отметить, что на новозаветном греческом языке термин ἱερεύς – священник – оставлен для царственного священства, священство же по чину обозначено словом “пресвитер” или “епископ”. Христос есть единственный Священник по помазанию (уже ранняя Церковь посвящает своих служителей через возложение рук), и поистине единственное священническое посвящение через помазание есть посвящение миропомазания царственного священства.Отчетливо видно, что православная концепция лежит вне антииерархического уравнивания, так же как и вне клерикального разделения единого Тела надвое, и что ударение прежде всего усиленно ставится на священническом участии всех, но под двумя образами двух священств. Каждый определен в своем священстве Богом, и именно это божественное происхождение помещает оба служения в сакраментальное домостроительство, изымая их из мира и социологии и помещая в качестве харизматического служения в мир и для мира.
То, что заключено в Едином – во Христе, – развернуто, исполнено и завершено в Его Теле: Священник обращается к царству и священству священников. Но Пасха и Второе пришествие еще не совпадают, отсюда существование двух священств. Неслиянно и нераздельно, вне какого-либо противопоставления, именно в различии харизм и служений осуществляется единый Христос.
29. Миссионерская деятельность Церкви
Жизнеспособность Церкви вполне естественно выражается в ее миссионерском распространении. Не говоря о первом тысячелетии христианства, история которого хорошо известна, в России, например, еще до того, как миссионерская деятельность исчерпала себя на собственно русской территории, порыв проповеди устремился дальше и достиг Финляндии. Завоевав огромную территорию России, монахи-миссионеры отправились за ее пределы: в Китай, в Корею, в Японию, на Аляску, в Персию и в Индию.Часто встречающееся незнание православной миссионерской деятельности вытекает из ее собственного характера. Никакой империализм или прозелитизм не запятнал православное апостольское служение. В своем указе 1702 г. Петр I объявляет: “Мы не хотим принуждать ничьей человеческой совести и предоставляем ответственности каждого заботу о спасении своей души”. Екатерина II идет еще дальше, обращаясь к Синоду в 1773 г.: “Как Бог терпит на земле все верования, так же и мы желаем действовать, подражая Его святой воле”. Если в некоторых обстоятельствах проявлялся другой дух, он был глубоко и органически чужд духу православия и исходил от светских властей. В 1555 г. Московский митрополит Макарий дает распоряжения относительно миссионерства среди татар Казанскому архиепископу Гурию: “Храни сердечное доверие татар и приводи ко крещению лишь любовью и никогда не используй других средств”.
В одном из своих рассказов (“На краю света”) Лесков прекрасно передает самую душу православного миссионерства. Государственный администратор, посетив одного из священников-миссионеров, был очень удивлен, что отец Кириак отказывается быстро крестить инородцев, но под конец он понимает мудрость, таящуюся в этом отказе: отец Кириак, совсем пренебрегая административными заботами и в особенности всякой отчетностью, своим смиренным служением помогал туземцам прикоснуться к милосердию Христову: “Пусть за краек Его ризочки держатся – доброту Его чувствуют, а Он их Сам к Себе уволочет”.
Апостол Алтая архимандрит Макарий (Глухарев; 1792–1847) говорил в своих назиданиях, адресованных к миссионерам: “Нужно чтобы все, чем мы обладаем, было бы братски поделено между нами: деньги, пища, одежда, книги, так же как и все другое, чтобы это служило союзу наших душ и согласию наших целей”. Евангельская бедность, дух полной самоотверженности и общинной любви характеризовали восторженный порыв апостольства. “Христос, – говорил он, – пролил Свою драгоценную кровь ради спасения всех людей” и “нет такого народа, в котором Господь не признал бы одного из Своих”. “Это воплощенное, живое Евангелие”, – говорил о Макарии один из его современников и раскрывал таким образом секрет его влияния.
Неизменный образ действия миссионеров состоял в том, что они воздвигали на месте, куда они приходили, алтарь, часовню и сразу же начинали литургическую жизнь, что непосредственно помещало туземцев в присутствие Бога. Относясь с подчеркнутым вниманием к собственному лицу каждого народа, которому они благовествовали, миссионеры переводили Библию и литургические книги на язык этого народа, чтобы позволить каждому участвовать в богослужении и читать Священное Писание. Много раз им приходилось создавать алфавит и литературный язык, что говорит о большой чувствительности и благожелательному проникновению в душу другого. Все подчинено величайшему уважению к предназначению и свободному выбору каждого.
Миссионеры тесно соприкасались с повседневной жизнью и строили общину вокруг монашеского очага. Крещение совершалось лишь после долгого и серьезного испытания (Макарий видел в этом выражение подлинного дружелюбия к человеческой личности язычника). В этом образе действий нет ничего показного, и он противостоит любой статистике цифр. В этой исключительно тактичной форме православие никогда не переставало “миссионерствовать”. В конце XVII века, до какого-либо политического завоевания, на дорогах Сибири уже встречалось множество миссионерствующих монахов и священников, и 37 монастырей боролись с исламом и буддизмом.
К середине XIX века Казанская академия создает миссионерское отделение, имеющее татарскую, арабскую, монгольскую и калмыцкую кафедры. За полувековой период ее специальная комиссия опубликовала множество томов и брошюр на двух десятках языках. Профессор Николай Ильминский (1822–1891), владея в совершенстве восточными языками, был первым христианином, работавшим в Каирской исламской академии. Его замечательные переводы литургических книг в значительной степени облегчили миссионерскую деятельность среди народов восточной России.
В 1865 г. Санкт-Петербургское миссионерское общество координирует и финансирует бесчисленные миссии, подчиненные власти местных епископов. Каждая епархия имела свой собственный миссионерский комитет. В 1913 г. общество насчитывало 20000 членов, и его бюджет исчислялся в более чем полутора миллионах рублей.
Миссия в Урмие была обращена к несторианам Персии и Курдистана, она объединяла до 20000 верующих.
В Палестине и Сирии Императорское палестинское православное общество, учрежденное в 1882 г., основало многочисленные учреждения (112 в 1912 г.).
Именно миссионерское распространение Церкви придало единство необъятным землям Киевской и Московской Руси. В XVIII веке митрополит Филофей Лещинский посылает миссионеров в Монголию и на Камчатку; Иннокентий Кульчицкий с большим успехом обращает жителей Прибайкалья. Миссия среди калмыков действует через строительство городов и деревень, в которых крещеные поселяются рядом со школами, в которых учат на их собственном языке (город Ставрополь на Волге). На севере, в Архангельской епархии, среди самоедов, походные Церкви, находящиеся в ведении архимандрита Б. Смирнова, несли веру в самые отдаленные уголки. Среди буддистов восточной Сибири трудился епископ Парфений. Епископ Иннокентий (Вениаминов; 1797–1879) обращает всех алеутов и многих индейцев Аляски. Его епархия была в пять раз обширнее Франции, и требовалось семь лет, чтобы посетить все его владения. Он посылает духовников-кочевников, сопровождающих кочевые племена в их беспрестанных странствованиях. В 1862 г. он доходит до границ Маньчжурии и основывает миссию во Владивостоке и среди уссурийских корейцев.
Статистические данные всегда очень относительны. Можно, однако, привести некоторые цифры, чтобы дать представление о размахе миссионерской деятельности. Во время царствования Елизаветы Казанская губерния насчитывает до 450000 крещеных. За 30 лет миссия Иннокентия обратила почти 125000 язычников. В других местах надо также считать обращенных десятками и сотнями тысяч.
Кавказская миссия разворачивается с конца XVIII века. К 1823 г. среди этих очень различных народов насчитывается до 60000 крещеных с 67 приходами и несколькими монастырями.
Миссия в Китае
В 1686 г. группа пленных казаков просит прислать духовника и переделывает буддистский храм в Церковь святой Софии. Петр I посылает в 1715 г. группу миссионеров, которые пытаются обратить даже Китайского императора. В 1732 г. миссия располагает священниками, катехизаторами и монастырем. Во время боксерского восстания в 1900 г. 222 китайских мученика явили свою удивительную преданность православной вере. До Второй мировой войны 200000 православных русских и китайцев проживали в Китае, имея архиепископа в Пекине, богословский факультет в Шанхае, многочисленные общины и школы. В настоящее время значительная православная китайская община приспосабливается к новым условиям в стране.
Миссия в Японии
В 1861 г. монах Николай (Касаткин; 1836–1912) посылается в качестве духовника российского консульства в Хакодате. Изучив язык, он быстро переводит литургические тексты на японский и через воздействие литургических служб образуются общины. Привлеченный их красотой, обращается языческий жрец Павел Савабе, и именно его зять становится в 1841 г. первым японским епископом. Архимандрит Николай, преосвященный Токийский, в 1891 г. руководит 20000 верующими с 33 священниками, 146 катехизаторами и многочисленными учителями. Все они – японцы. В настоящее время под началом епископа Иринея насчитывается 40000 православных японцев с богословской школой в Токио, 70 священниками и 194 общинами.
Миссия в Корее
Миссионерский пункт был основан в 1900 г.; в 1914 г. 9 священников-миссионеров обеспечивали 4000 обращенных важной медицинской и педагогической помощью. В настоящее время община, полностью корейская, с Церковью в Сеуле находится под юрисдикцией Константинопольского экзарха.
Миссия в Греции
Внутренняя миссия в современной Греции заслуживает отдельного замечания. Обновление духовной жизни в Греции выражается особенно в ряде братств, характеризующихся удивительным горением миссионерского духа.
В первую очередь нужно упомянуть Апостолики Диакониа (Апостольскую службу). По инициативе архиепископа Афинского, владыки Хризостома, и его преемника, владыки Дамаскина, эта организация была основана в 1934 г., и ее руководство было доверено светскому богослову, профессору Василию Велласу. Она занимается более углубленной подготовкой священства, религиозным образованием греческой молодежи, введением в литургическую жизнь верующих и возрождением древнего идеала христианской женщины, призванной к новым задачам в условиях современного мира. Особое внимание уделяется проповеди. В помощь проповедникам, которые привлекаются и субсидируются государством, Диакониа готовит помощников миссионеров (в большинстве случаев из молодых светских богословов) и посылает их, с благословения епископов, для миссионерской деятельности внутри страны. Высшая школа в Афинах готовит кадры катехизаторов и охватывает страну сетью катехизаторских семинарий. Их цель заключается в том, чтобы руководить жизнью юных школьников и студентов вне учебы. Передачи по радио, печатные проповеди, более 600 катехизаторов, мужчин и женщин (среди них священников – только 240), проводят огромную педагогическую работу. Школа дьяконисс готовит помощниц священникам в их приходской работе.
Братство Zoe объединяет священников и неженатых мирян (150 членов) и занимается проблемами служения мирян и царственного священства верных (профессор Тремпелас, профессор Котзонис). Его члены-миряне трудятся также как проповедники, катехизаторы, воспитатели и миссионеры. Братство проявляет очень достойные усилия в деле углубления литургической жизни и ежегодно собирает всех своих членов для того, чтобы в течение месяца пожить монашеской жизнью, в молитве и размышлении.
Нужно упомянуть еще Союз православных христиан и движение среди университетской интеллигенции – Актинес (Лучи).
Православие, Париж: ИМКА-Пресс, 1958, с. 33.
См.: P.G. Florovsky, “Le Corps du Christ Vivant”, in: La Sainte Eglise Universelle, Ed. Cahiers théologiques.
Свящ. Павел Флоренский, Столп и утверждение истины, М.: Путь, 1914, с. 7.
См.: Прот. Сергий Булгаков, “О Церкви”, в: Путь, № 1, 1925; № 2, 1926; № 4, 1926; № 15, 1929; № 16, 1929.
Причина, определяющая осуществление возможности.
Большой катехизис митр. Филарета.
Ambiqua, P.G. 91, 1308 В.
Данных уже в предвосхищении в сакраментальном домостроительстве.
Церковь осудила гностические валентинианские фантазии о последней паре божественной Огдоады. Церковь исторически не предсуществует делу Христа. Но она также и не внешнее общество, созданное затем сообществом верующих. Понятие Церкви связано с древнееврейским понятием кагал, означающим совокупность народа Божия, собранного теперь во Христе и всегда более широкого, чем его проявления. “Невеста Агнца, сходящая с неба”, она восходит в своих истоках к Премудрости Божией и к Агнцу, закланному от создания мира. Она еще не есть Царство (ошибка Августина), и в то же время “если кто-то смотрит на Церковь, он действительно смотрит на Христа”, – говорит святой Григорий Нисский (P.G. 44, 1048), т. к. он смотрит на нее в Духе Святом. Нужно избегать экклезиологического монофизитства, при котором невидимая Церковь состоит из одних избранных, а видимая – из одних грешников. Только применение христологического теандризма приводит к правильному взгляду.
Cp. J.–L. Leuba, L’institution et l’Evénement, Neuchâtel-Paris, 1950; P. Congar, “Marie, l’Eglise et le Christ», in La Vie intellectuelle, oct. 1951.
Хомяков, Церковь одна, § 1.
Катехизис митр. Филарета.
Хомяков, цит. соч., § 9.
Никейский символ веры.
Антифон 4-го гласа воскресной службы.
Святой Дионисий, О церковной иерархии, гл. III, col. 424 С.
11-е правило Сардикийского, 80-е Трулльского собора, 21-е Эльвирского собора предписывают отлучать тех, кто не участвует в евхаристическом причащении в течение трех недель. Согласно 2-му правилу Антиохийского собора, тот, кто приходит слушать Священное Писание, но не причащается, нарушает порядок и должен быть отлучен.
Святой Григорий Нисский, святой Киприан и другие святые отцы настаивают на ежедневном причащении. Святой Василий советует причащаться, по крайней мере, четыре раза в неделю. Святой Амвросий утверждает: “Принимай ежедневно то, что полезно для этого дня. Живи таким образом, чтобы оказаться достойным этого. Тот, кто оказывается недостойным принимать причастие ежедневно, будет таким и для причащения раз в год”. См.: Лот-Бородина, “О евхаристии”, в: Вестник, № 41; Б. Сове, “Евхаристия”, в: Живое Предание, 1937; М., 1997.
Le Repas du Seigneur, Ed. Orthodoxie et Actualité, Paris 1952.
Ср. Деян.1:15, 1:1; тот же смысл раскрывается у святого Игнатия: Послание к Ефесянам 13:1; Послание к Магнезийцам 7:1.
“Апостол Петр и Римский епископ”, в: Православная мысль, X, 1955.
Даже у некоторых протестантских богословов встречается эта неизбежно скрыто-римская концепция. С другой стороны, одностороннее учение о всеобщем священстве делает из каждого мирянина несовершенного клирика. Недавние споры о рукоположении женщин выявили радикальный клерикализм, в своем роде скрытый папизм... Католико-протестантский конфликт неразрешим, поскольку он выявляет одни и те же категории мышления, восходящие к схоластическому средневековью.
P.G. 32, 108–109.
Григорий Нисский, Письма, 2, P.G. 46, 1012–1013.
Святой Игнатий, Послание к Смирнянам, VIII, 2.
Святой Ириней, Против ересей, II, XXIV, 1.
Против ересей, IV, 18, 5. Об учении святого Иринея см.: Renz, Die Geschichte des Messopfer Begriffes, 1901.
Беседа на Послание к Ефесянам, Проповедь 3, P.G. 62, 26.
О жизни во Христе, фр. перевод S. Broussaleux. р. 97 (Русс. перев. – М. 1870).
До разделения: Рим, Константинополь, Антиохия, Александрия, Иерусалим.
См.: Митр. Антоний, Курс пастырского богословия, М., 1909, с. 18.
См. цит. соч. о. Николая Афанасьева “Апостол Петр и Римский епископ”.
Святой Игнатий, Послание к Магнезийцам, VI, 1.
О единстве Церкви, IV, Послание 43, 5. Нил Кавасила говорит: “Петр – это Учитель вселенной, что же касается папы, то он является епископом Рима” (P.G. 149, 704 CD).
Святой Игнатий, Послание к Смирнянам, VIII.
Послание к Филадельфийцам, 3 и 4.
См.: Mgr. Antoine, L’idée moral des dogmes, Paris 1910, libr. H. Welter.
Святой Григорий Назианзин, Похвальное слово Василию Великому, Слово 43, § 48, P.G. 36, 560 А.
Что значит имя и название христианина (De professione christiana), P.G. 46. 244 С.
Хомяков, Несколько слов православного христианина по поводу западных вероисповеданий, Париж, 1853.
Столп и утверждение истины.
Евагрий, Сотницы, 6, 10–13.
P.G. 36.628 С. Плотиновская эманационная триада позволяет подвергнуть счету Единое, затем Слово и, в-третьих, Душу.
P.G. 37, 984–985.
Блаженный Августин, О Троице, VIII, 10.
Дом Штольц видит здесь усвоение божественной сущности без постановки вопроса о связи человека с каждым из Лиц (Théologie de Mystique, Chevetogne 1947, p. 246).
См.: M. Schmaus, Die psychologische Trinitœtslehre des heiligen Augustinus, 1927.
P. Regnon, Etudes des théologie positives sur la Sainte Trinité , I, 433.
Дионисий говорит: “πηγαία Θεότις”, “Отец – источник божества” (P.G. 3. 645 В).
Это выражение является немеркнущей славой I Вселенского собора. Оно введено святым Афанасием, которого святой Григорий называет “оком вселенной”, т. к. все посредством “ока” (которое есть слово ὁμοούσιος – единосущный) узрели Истину.
P.G. 36, 417 В.
P.G. 94, 829.
PC. 94, 828 D.
J. de Pange, Le Roi très chrétien, Paris 1949, p. 167; Y. Congar, Neuf cents ans après, l’Eglise des Eglises, Ed. de Chevetogne, p. 26.
Легат Гумберт в своем документе, положенном на престол святой Софии в Константинополе, упрекает греков в том, что они исказили Символ веры, “отбросив Filioque”! (См.: Dvornik, Le Schisme de Photius, Col. Unam Sanctam, № 19.)
“Святой Григорий Палама, P.G. 150, 1144. Цит. И. Мейендорфом в “La Procession du Saint-Esprit chez les Pères Orientaux”, in: Russie et Chrélienté, 1950, № 5–4.
P.G. 36, 476 В.
Святой Иоанн Дамаскин, "Точное изложение православной веры", P.G. 94, 829.
О божественных именах, P.G. 4, 221 А.
Вариант, ср. Пс.1:7.
Если следовать западному учению о Filioque до предела, допустимого в рамках Православия, то можно сказать, что Отец дает Сыну энергию исхождения не изначально, но в проявлении. И в этом случае, абсолютное равновесие Святой Троицы показывает, что Отец сообщает Святому Духу энергию отцовства, которая так же не есть изначальная энергия, но по проявлению. Святой Дух изводится Отцом (изначально) для, в, с, через, посредством Сына (проявление). И эта двоица влечет за собой другое соответствие: Сын рожден от Отца (изначально) для, в, с, через, посредством Духа Святого (проявление). Слова ῏Εκ του Πατρὸς διὰ του ῾Υιου (от Отца через Сына) соответствуют словам ἐκ του Πατρὸς διὰ του Πνεύματος (от Отца через Духа), Так Filioque, но только по проявлению, уравновешивается через Spirituque (и Духа), но также – только по проявлению. Такое равновесие дополняло бы недостаточность выражения Никейского Символа веры, в котором недостаточно ясно выражена божественность Святого Духа.
Святой Ириней, Против ересей, Святой Афанасий, Слово о воплощении Бога-Слова, гл. 54; Святой Григорий Назианзин, Поэмы догматические, X; Святой Григорий Нисский, Слова огласительные, XXV.
Беседы, 1, 7, XXXVI, 2.
О жизни во Христе, pp. 52, 56.
Слова святого Василия в передаче святого Григория Назианзина (P.G. 36, 560 А).
P.G. 90, 1108 Редакция «Азбуки Веры»
Также: Григорий Назианзин, Беседы, 45, §28, P.G. 36, 653.
О жизни во Христе, p. 90.
P.G. 94, 1464 А.
P.G. 3, 640 С.
P.G. 91, 604 ВС.
Mansi, Coll. concil., VII, col. 116 (славянский текст: Книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992).
Святой Феофилакт Болгарский, P.G. 123, 1156 С.
Мефодий Олимпийский, Пир десяти дев, P.G. 18. 150.
P.G. 75, 1308.
Беседа на Послание к Ефесянам, 3, P.G. 62, 29.
Блаженный Августин, Беседа на Евангелие от Иоанна, P.L. 35, 1633.
Беседа на 1 Послание к Коринфянам, 8, P.G. 61, 72.
О жизни во Христе, фр. перевод S. Broussaleux, с. 97.
Ориген, Толкование на Евангелие от Матфея, P.G. 13, 1188.
Цит. по о. Георгию Флоровскому (Восточные Отцы IV века).
Слово 31, §§ 26–27, Р.G. 36, 161–164.
Против Македониан, § 12, P.G. 44, 1316.
Мистагогия, P.G. 91, 668.
Беседы, 61, § 1, P.G. 59, 361–362.
Толкование на Евангелие от Иоанна, XI, P.G. 74, 560.
Святой Афанасий, Послание I к Серапиону, P.G. 26, 576 А.
Послание к Ефесянам, 9:2; Послание к Магнезийцам, 14:1.
Можно привести множество текстов: Лк.1:15; Деян.1:4, 1:8, 1:17, 13:9, 1:52; Еф.1:19; Флп.1:11.
“Слово обрело плоть, чтобы мы смогли принять в себя Духа Святого”, – говорит святой Афанасий (Слово о воплощении Бога-Слова, § 8, P.G. 26, 996).
Беседы, 45, 9.
Беседы преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни, Сергиев Посад, 1914.
Антифон 4-го гласа утрени воскресной службы.
P.G. 94, 856.
Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова, Сергиев Посад, 1917.
“Сотницы Каллиста и Игнатия”, в: Добротолюбие.
Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании (Ad Thal.), q. 25, P.G. 90, 333 A.
PG. 32, 133 С. См. также тайную молитву из литургии Василия Великого. См. также у святого Иоанна Дамаскина, P.G. 94, 821 ВС; у святого Григория Назианзина, P.G. 36, 159 ВС.
См. ее репродукцию в A. de Meibohm, Démons, Derviches et Saints, Paris 1956, p. 240.
Точное изложение православной веры, III, 12, P.G. 94, 1029 С.
Против ересей. I, III, гл. 22, ном. 4.
Педагог, I, гл. 6, P.G. 8, 300.
Беседы (Hom.), IV, P.G. 77. 996.
О святой и нераздельной Троице. См.: V. Mahé, “La sanctification d’après saint С. d’Alexandrie”, in Rev. d’Hist. ecclés., 1909.
Икона Богородицы, держащей младенца Иисуса, является не иконой Девы Марии, а иконой воплощения, или иконой Церкви как согласия божественного и человеческого.
Догматик 3-го гласа.
О единстве Церкви, гл. 6.
Беседа на Благовещение.
Θεοτόκος, Deipara (Богородица), есть ῟Αειπαρθτένος (Приснодева): “В рождестве девство сохранила еси”. На иконах Пресвятая Дева имеет на голове и на плечах три звезды, которые свидетельствуют о ее девстве до, во время и после рождества, и выражают абсолютную целомудренную цельность. Догматическая настойчивость на приснодевстве подчеркивает осуществленное состояние “новой твари” и завершенную тайну Церкви: “границу тварного и нетварного” (святой Григорий Палама, P.G. 151, 472 В), или тварного, преисполненного благодатью и полностью обоженного.
Православный чин венчания (таинства брака) говорит очень ясно: “Благослови я, Господи Боже наш, яко благословил еси Иакова и прочих патриархов, яко благословил еси Иоакима и Анну, яко благословил еси Захарию и Елисавету”. Эта молитва ставит рождество Девы от ее родителей в один ряд человеческих рождений, подчиненных общему природному порядку. С другой стороны, если Московский собор 1666–1667 гг. и принял труд Симеона Полоцкого “Жезл Правления”, он принял его только как полезный и направленный против раскольников полемический текст, ничего не сказав о латинствующем учении Симеона по поводу зачатия Пресвятой Девы. Проникновение римского влияния в богословие Южной России в XVII–XVIII веках (например, у Димитрия Ростовского) объясняет некоторые инославные черты благочестия этой эпохи. Согласно свидетельствам, во время явления в Лурде Пресвятая Дева сказала: “Я есть Непорочное Зачатие”; так как событие имело место в день Благовещения, 25 марта 1858 г., Православная Церковь относит эти слова к непорочному зачатию Слова Его Матерью. Для православных римский догмат умаляет Пресвятую Деву, превращая ее в предопределенный “инструмент благодати”; он умаляет ее человечество и отнимает от нее величие бытия, которое свободно в подвиге своего смирения и своей чистоты говорит от имени всех: да будет.
Нужно понять эту органическую связь, которой Богородица оказалась связанной в благодати рождения и к которой все мы присоединяемся в благодати евхаристии, делающей нас “единокровными” Христу. Можно сказать также, что латинский культ человеческой природы Христа перенесен у православных на почитание Богородицы.
P.G. 151.472 В.
PC. 77. 992.
Гимн, переведенный Е. Ammant из Le Dogme catholique dans les Pères de l’Eglise, p. 221.
Изложение молитвы Господней, P.G. 90, 889 С.
На Евангелие от Луки, II.26.
Праздник имеет иерусалимское происхождение. Баумштарк (Baumstark, Liturgie comparée, 1939) находит указание на него в посвящении одной Церкви в середине V в. в Кафисме, расположенной между Иерусалимом и Вифлеемом. Распространенный на всю Византийскую империю императором Маврикием в 588–602 гг., праздник был введен в Риме Феодором II (642–649). Святой Иоанн Дамаскин в своих сочинениях обобщает элементы местных преданий (P.G. 96, 700–761).
Латинское учение о “чистой природе”, или “животной природе”, к которой добавляется благодать и сверхприродная жизнь, не дает никакой догматической основы для культа Пресвятой Девы, т. к. это было бы возвеличиванием одной лишь благодати. Отсюда следует внутренняя логическая и “изобретательная” потребность сформулировать догмат непорочного зачатия и, таким образом, в этом “чуде” (которое Восток полностью отвергает) предложить догматическое обоснование римско-католическому мариологическому поклонению.
В V в. святой Ювеналий, патриарх Иерусалимский, говорил византийской императрице Пульхерии: “В Священном Писании мы ничего не находим о смерти Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, но мы все сведения получили из очень древнего и очень надежного предания”.
Эпизод с Афонией, изображенный на большинстве икон успения и литургически истолкованный в тропаре 3-й песни канона, указывает на то, что слава успения доступна только через внутренний смысл литургической жизни.
“Termino fisso d’eterna consiglio” Данте (“Предызбранная промыслом вершина”, пер. М. Лозинского).
Mœhler, L’Unité de l’Eglise, Coll. Unam Sanctam, Paris 1938, § 46.
Les confessions occidentales, p. 54.
Святой Ириней, Против ересей, I, 3.
Воскресная утреня, глас 1 (Степенны, антифон 2).
Стихира из службы Вознесения.
Святой Игнатий, Послание к Смирнянам, 8, 2.
См.: Святой Кирилл Иерусалимский, Поучения огласительные, P.G. 33, 1044.
Ответы и суждения Филарета, митрополита Московского, СПб, 1886, с. 53.
“Письмо издателю Union Chrétienne”.
De unitate Ecclesiœ, cap. IV.
Mansi, t. XL (1909), с. 407–408.
Письма, XIV, 4.
Святой Ириней, Против ересей, IV, 21, 2.
Римско-католический историк Батиффоль (Mgr Batiffol) отмечает, что Запад, в согласии с Римом, видел в Римском епископе больше, чем преемника апостола Петра на его кафедре, а именно, вечного Петра, получившего его полномочия и его власть (см.: Cathedra Petri, coll. Unam Sanctam, 4, Paris 1938, pp. 75–76).
Против ересей, IV, 18, 5.
О церковной иерархии, III, col. 424 С.
Катехизис Филарета Московского.
Чтобы дать представление о современном состоянии православия, мы представляем краткий и, конечно, очень приблизительный обзор (сведения устарели – Прим. перев.). Общее число православных, по-видимому, приближается к 170–180 миллионам. Русская Церковь (патриарх Алексий) насчитывает приблизительно около 45–90–125 миллионов верующих, 15000 приходов, 30000 священников, 70 епископов. 2 Духовные академии и 8 семинарий, 80 монастырей. Зарубежная Русская Церковь разделена на три юрисдикции. Наиболее значительная – это юрисдикция митрополита Владимира (Париж), экзарха Константинопольского патриархата. Затем – юрисдикция Карловацкого синода (митрополит Анастасий в Матиопаке, Соединенные Штаты). На третьем месте стоит юрисдикция Московского патриархата. В целом число эмигрантов сначала составляло до 3 миллионов. Церковь Греции (Элладская) с Синодом, возглавляемым архиепископом Афинским, охватывает около 7 миллионов и 67 митрополий; Румынская Церковь (патриарх Юстиниан) – 14 миллионов; Болгарская Церковь (патриарх Кирилл) – 6 миллионов; Сербская Церковь (патриарх Герман) – 8 миллионов; автокефальная Польская Церковь – полмиллиона; Грузинская Церковь (католикос Мелхиседек) – около 2,5 миллионов; автокефальная Чехословацкая Церковь (митрополит Иоанн) – 300000; Кипрская Церковь (митрополит Макарий III) – 400000; Албанская Церковь (архиепископ Паисий) – 215000; Церковь Финляндии (архиепископ Герман под юрисдикцией Константинополя) – 80000; в Венгрии – около 50000 православных; до 1945 г. митрополия Эстонии насчитывала 222000, а Латвии – 185000. Восточные патриархаты: Константинопольский патриархат (патриарх Афинагор) осуществляет свою юрисдикцию над 105000 православными Турции, 170000 православными островов Додесканес и над греками за пределами Греции: на острове Крит (полмиллиона); архиепископство центральной Европы в Лондоне (70000); митрополия Австралии и Новой Зеландии (15000); церковный округ Америки (400000); гора Афон и остров Патмос. Антиохийский патриархат осуществляет свою юрисдикцию над 157000 православными сирийцами и 130000 православными ливанцами, общинами Ирака и Персии. Иерусалимский патриархат имеет под своей юрисдикцией 10000 православных в Трансиордании и 40000 верующих в Палестине. Александрийский патриархат включает 20000 православных Египта и 150000 православных Африки (православная община из местного населения имеется в Уганде). Архиепископ Синайский главенствует над монашеской общиной монастыря святой Екатерины на горе Синай.
Часть третья. Вера Церкви
Глава I. ДОГМАТ
Греческое слово δόγμα означает бесспорную истину; в Деяниях апостолов это “решения”, принятые апостолами и пресвитерами в Иерусалиме (Деян.13:4). Для отцов Церкви догматы выражают “Учение Господа и апостолов”. Являясь живительным соком Священного Писания, каждый догмат соотносится со священным текстом, оправдывая, таким образом, выражение Отцов: “евангельские”, “божественные догматы”.Будучи “столпом и утверждением истины” (1Тим.1:15), Церковь исповедует догматы и свидетельствует об их природе, происходящей из откровения, откуда и происходит название “догматы Церкви”. В своем абсолютном значении истины, догматы являются определяющими и нормативными элементами веры – правилом веры.
Первое правило Четвертого Вселенского собора гласит: “Тому, кто не приемлет и не исповедует догматов веры, да будет анафема: отлучен”. Самим фактом отделения себя от единодушного исповедания человек оказывается вовне и свидетельствует сам о своей не-принадлежности к Церкви. В этом смысле анафема является вовсе не карой (которая не может быть применена к тому, кто находится вовне), а заявлением о совершившемся разрыве: “Таковой... самоосужден” (Тим.3:11). Однако это вовсе не иудейский херем, активно действующее проклятье. Заявив об отлучении, Церковь молится: “Святая Троице! Да вси приидут в познание вечныя Твоея истины”.
Отмеченные кровью мучеников, догматы относятся только к вопросам жизни и смерти; как сказано в конце Евангелия от Иоанна, далеко не все описано, но то, что явлено, достаточно для спасения. Это – “единое на потребу” Царства Божьего. Вот почему, вступая в Церковь, неофит, исповедуя Символ веры, произносит “Верую”, а кандидат на епископский сан исповедует православную веру в четкой и полной форме. С другой стороны, перед лицом поднявшейся волны ложных учений, Церковь должна была с самого начала своего существования защитить чистоту и целостность догматического мировоззрения и противопоставить любой ереси консенсус (единое суждение) апостольских кафедр. Однако, в то время как на Западе развивается тринитарное богословие святого Августина, характеризуемое уже с самого начала величайшим доверием к человеческому разуму, греческая мысль, напротив, погружается в безмолвие апофазы перед лицом Тайны. Каппадокийцы защищают догматическую формулу, но совсем не разъясняют ее; они говорят о тайне Святой Троицы только в своих полемических трудах. Святой Иларий хорошо объясняет эту необходимость:
Злоба еретиков и богохульников вынуждает нас совершать недозволенное: восходить на неприступные вершины, говорить о невыразимых предметах, давать запрещенные объяснения. Было бы достаточно одной верой совершать то, что предписано, то есть поклоняться Отцу, чтить вместе с Ним Сына и исполняться Святым Духом. Но мы оказываемся вынужденными применять наше смиренное слово к самой невыразимой тайне. Чужая вина нас ввергает в ошибку, заключающуюся в том, что мы поверяем случайностям человеческого языка тайны, которые следовало бы скрыть в религиозности наших душ. Святой Иоанн Златоуст также скажет, что только по нашей немощи нам даны записанные Евангелия, и пришествия Христа достаточно для того, чтобы потрясти всех людей и навсегда отметить их своей печатью.
Четко разграничивая истину и ложь, догмат обладает всем положительным значением утверждения нормы. Из харизматической “памяти” Церкви приходят слова, вдохновленные Духом, дабы правильно оградить таинства Слова. Наряду с литургической поэзией и образной речью проповедей Церковь создала металогический антиномический язык догматов, обладающий удивительной точностью. Это вовсе не язык чистой философии, хотя бы и религиозной, т. к. догматы касаются не идей, а божественных реалий и пишут с их помощью словесную “икону”, постигая “внутреннее слово” точно так же, как икона заключает в себя “внутреннюю форму”. По отношению к логике и к мышлению всякий догмат символичен, и их совокупность образует символ веры, представляющий синтез антитипов существующих реальностей.
1. Апофатический аспект догмата
Исповедуя догмат, нужно никогда не упускать из вида принцип апофатического богословия. Всякое человеческое утверждение есть отрицание самого себя, т. к. оно никогда не достигает последней глубины, оказываясь по эту сторону плеромы, и именно эта врожденная недостаточность отрицает его. “Человек не может увидеть Меня и остаться в живых” (Исх.13:20), – эти слова означают для святого Григория Нисского смертельную опасность ограничить Бога человеческими определениями. “Мои мысли – не ваши мысли... пути Мои выше путей ваших” (Ис.13:8–9), и “немудрое Божие премудрее человеков” (1Кор.1:25). “Совсем иное” Бога не имеет шкалы сравнения; в своей коренной трансцендентности Он всецело и без всякого исключения отличен от этого мира. Но, с другой стороны, в Своих проявлениях Бог превосходит Свою собственную трансцендентность. Благодать выявляет границы тварных вещей, которые она сама сразу же и помогает превзойти, поскольку она есть именно благодать и божественное человеколюбие. “В Боге есть лишь да”, – учит нас апостол Павел. Человеческое “да” помещается внутри божественного “да” воплощения – и это богочеловеческое “да” Христа, “да”, исходящее от “Христова ума”, есть место Премудрости Божией.
Таким образом, человеческие мысли неадекватны, т. к. всякое человеческое слово противоречиво в своем постоянном переходе за границы выраженного (всякая определенно выраженная, фиксированная, объективированная мысль есть ложь по причине ее недостаточности). “Совпадение противоположностей” происходит только в Боге. Вот почему догматы в действительности не являются “человеческими словами”, и здесь совсем необязателен закон тождества и противоречия, который даже не применим в этом случае. Так, Бог един и троичен одновременно, и Он “не есть ни триада, ни монада, которые известны нам в числах”; две природы соединяются в одной единственной божественной ипостаси Христа; теперь уже не апостол Павел живет, но Христос живет в нем. Во всем хорошо видно, что это не одно или другое, но одно и другое одновременно. В этом мире чистых очевидностей третье всегда дано, но для того, чтобы его осознать, нужно пройти через евангельскую метаною. В плане познания это означает “внутренний переворот”, в самом сильном смысле этого слова, доходящий до самых корней всех способностей нашего духа. Благодать крещения приходит нам в этом на помощь, она восстанавливает “образ” и, следовательно, создает условия для исихастского метода, направленного на восстановление целостности природы Адама, его предельной открытости нетварному ответу. Ее основное действие – уход внутрь – представляет собой возврат к себе, возвращение в себя, энстазис, имеющий целью через очищение (аскетический катарсис) постичь то, что было сотворено и остается “скрытым под туманом страстей” (святой Симеон), а также “сверхъестественное сияние нашей души” (святой Григорий Синаит) и наше исходное “тождество с небесным светом нашего нетленного Архетипа” (святой Макарий).
Неустранимая трансцендентность Бога – абсолютная божественная инаковость – категорически исключает какое-либо пантеистическое или даже панентеистическое совпадение или отождествление души и Бога, свойственные восточным религиям. Однако Бог личностен, и, поистине из-за того, что Он личностен, Он, Творец человека по Своему подобию, не поглощает и не умаляет душу, а приобщает ее к обожению через Свое присутствие. Благодать включает в себя недостижимую цель, и она не содержит в себе никакого смешения, даже в своих пределах. Вот почему метаноя с ее силой покаяния уничтожает прежде всего люциферовское стремление к состоянию, соразмерному с божественной сущностью. “Эпектаза” (напряжение) святого Григория Нисского есть порыв веры, который выходит за рамки времени и заставляет даже пересечь вечность, никогда не останавливаясь и не насыщаясь. Великое утверждение исихазма хорошо выражено Евагрием: Бог есть Источник и Цель всякого познания как Непознаваемый и единственно Сверхчувственный. Но, как и в случае с Моисеем, Бог допускает видение себя только через отказ от него. И логический ум может воспринять Бога лишь в Его “сверхчувственном соприсутствии”. Однако обычная основная ошибка заключается в преждевременном отождествлении. Ум, соединившийся с сердцем и сведенный к своей допонятийной обнаженности, выходит за пределы дискурсивного мышления (дианойя), оставляет принцип согласованности суждений (схоластический метод) и постулирует сверхоткровение на уровнях, всегда более глубоких, чем он сам, становясь, наконец, “местом Бога”. Любое восприятие менее всего есть акт ума, овладевающего своим объектом, но, скорее, действие Бога, овладевающего умом, делающего его богоподобным и через это, в этой истине, которая его превосходит, являющего ум не имеющим ни начала, ни конца. Но он существует в осуществлении функции созерцания Непостижимого только в той мере, в какой он превосходит себя, и никоим образом не принадлежит более себе.
Deus absconditus непостижим не из-за наших ограниченных знаний, а сам по себе; сущности божественной свободы свойственно быть в высшей степени таинственной, неограниченной и трансцендентной. И в этом весь смысл реального различия для нас между недоступной сущностью и нетварными энергиями, принимающими участие во всем. Синтез глубины человеческого духа, где он встречается с Духом Святым, и абсолютной трансцендентности Бога, существенный для всякого правильного мистического опыта, является не умозрительным, а действенным, и здесь сохраняется неустранимая в принципе антиномия: “благодаря этому самому незнанию познавая за пределами всякого ума”. Бог – это не платоновский единый, ни единый, ни множественный, но единый и троичный одновременно. Бог-Монада и Единство Оригена – это только абсолют философов. “Мы можем постигнуть Бога не в том, что Он есть, а в том, что Он не есть” (Климент Александрийский). Т. к. Бог “выше самого бытия” (Иоанн Дамаскин), то наши слова применимы лишь к тому, что “окружает” Бога. Только благодать Человеколюбца делает возможной подлинную встречу между Богом, который нисходит в Своих “именах”, в Своих энергиях, и человеком, который возвышается в “соединениях”. В свете этого догматы предстают в своем истинном значении: их отрицательная форма делает относительным любое рациональное богословие, делает из него “богословие символов” и, с другой стороны, их положительная форма предполагает перемену, метаною человеческого духа перед лицом мрака – эоны божественного света. В пределе, как учит святой Симеон, богослов приходит к “богословию невыразимого молчания”, к Молчанию, наполненному Словом. Догматы – божественные слова – открывают Его и намечают путь восхождения к Нему.
2. Развитие догматов
С концом апостольской эпохи откровение завершается, догматы не добавляют никакого нового содержания к Священному Писанию. Не существует никакого развития догматов в их сути, но есть выбор формулировки истин, записанных в Библии. Это, таким образом, развитие в разъяснении и уточнении, развитие уже существующего зародыша. Святой Викентий ясно говорит об этом: “Учи тем же вещам, которым учили тебя. Говори по-новому, но не говори нового”. Послание Восточных патриархов 1848 года подтверждает это:
У нас не могут вводиться новшества ни Патриархом, ни соборами; так как... совокупное тело Церкви... желает, чтобы его учение вечно оставалось бы неизменным и соответствующим тому, чему учат Отцы. У некоторых западных богословов четкое различие между апостольским веком догматов и послеапостольским временем истолкований размывается в принципе “сокрытых истин”. Догматы могут “неявно” содержать новые истины. Однако текст Послания к Галатам (Гал.1:8) – “Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема” – весьма категоричен. Точно так же отцы Пятого Вселенского собора заявляют: “Мы храним ту же веру, которую Господь Иисус Христос передал Своим Апостолам и через них – святым Церквам, и которую Отцы и Учителя передали народам”. “Тому, кто прибавит или отнимет что-либо от учения Церкви, да будет анафема”, – говорят отцы Седьмого Вселенского собора. Догматы являются “анализом того, что было сказано”, – утверждает уже святой Ириней.
Церковь “строит свои догматы с помощью духовного слова из того, что простые рыбаки (апостолы) сообщали простыми словами”. Формулы, носящие на себе печать вечности, объединяют в себе понятия-ограничения и пишут словесную икону истины. Героические усилия отцов-мучеников являют в догматах “распятые слова” – “суд судов”, где обитает премудрость Божия. Церковь здесь подводит нас к своей эонической мысли, прошедшей через эпиклезу соборности: “Изволися Духу Святому”.
3. Символические книги
У православия нет “символических книг”. “Тридентское исповедание веры”, “Тридцать девять статей” англикан, “Формула согласия” лютеран, “Исповедание” реформаторов – все это является запоздалым плодом эпохи Реформации и Контрреформации на Западе. Они свидетельствуют о часто встречающемся смешении догмата и его чисто богословского, школьного истолкования и обнаруживают опасную тенденцию навязать нормативную богословскую систему (августинизм, номинализм, томизм, интегризм, фундаментализм). Православие сохраняет и благоприятствует самой широкой свободе богословских мнений в рамках единого предания. Церковь превосходит рамки любой школы и, в то же время, содержит их все в себе. Но никакой текст, кроме догматических определений соборов, ни в коем случае не может претендовать на значение “символического”. Догмат самодостаточен и вследствие своего ключевого положения исключает любое единообразие или “генеральную линию” в богословии.
Собственно догматическими являются следующие тексты:
1. Никео-Константинопольский Символ веры. Третий Вселенский собор (7-е правило) запрещает иметь любой другой символ веры или изменять его текст, считающийся священным. Второй Вселенский собор (1-е правило) установил окончательную редакцию и провозгласил ее неприкосновенной. Четвертый и Седьмой Вселенские соборы торжественно это подтверждают. Этот текст заменил все местные символы. Рим почитает также свой старый крещальный, так называемый “Апостольский”, символ, который остался западным катехизаторским Символом веры, не имеющим, однако, никакого употребления на Востоке. Его непосредственно апостольское происхождение отрицалось Марком Эфесским на Флорентийском соборе, и в своей нынешней редакции он восходит, вероятно, к IV веку, являясь крещальным символом Римской Церкви. 2. Догматические определения семи Вселенских соборов. 3. Догматические тексты девяти поместных соборов и “апостольские правила”, принятые и утвержденные на Шестом (2-е правило) и на Седьмом (1-е правило) Вселенских соборах. 4. Тексты Константинопольских соборов 861 и 879 годов и соборов XIV века (1341–1351 гг.) по поводу учения святого Григория Паламы о божественных энергиях. Можно еще упомянуть следующие тексты, почитаемые, но не имеющие обязательную силу догматов: символ святого Григория Чудотворца (III век) с ясно изложенным учением о Святой Троице (получил одобрение Шестого Вселенского собора, 2-е правило); символ святого Афанасия, называемый “Иже хощет спастися” (восходит к V веку; латинский текст содержит Filioque); Исповедание веры святого Иоанна Дамаскина; очень четкое исповедание православной веры при архиерейской хиротонии. Наконец, нужно указать на тексты догматической природы, почитаемые, но не имеющие никакого обязательного характера: “Исповедание” митрополита Петра Могилы, испытавшее сильное влияние латинствующего киевского богословия XVII и XVIII веков и “Исповедание” Иерусалимского патриарха Досифея, принятое на Иерусалимском соборе в 1672 году; это “Исповедание” было послано Англиканской Церкви и собору Русской Церкви, оно носит полемический характер, будучи направлено против богословия Реформации. И затем следует “Большой катехизис” митрополита Московского Филарета, принятый для преподавания в школах (в окончательной редакции, одобренной Синодом в 1879 году).
4. Символ веры
Уже с самого начала нужно было извлечь самое существенное из устного предания, а позднее – из первых писаний, чтобы сформулировать установившееся исповедание веры и правило, отвечающее нуждам оглашения. Нужно было найти основное направление благой вести, ее центр, засвидетельствовать его апостольское происхождение и, ввиду существования поместных текстов, придать ей авторитет вселенского, соборного предания. Ее нормативное содержание нужно было поставить на тот же уровень, что и Священное Писание Нового Завета. Так, например, Тертуллиан возводит крещальную формулу к самому Христу и называет “присягой знаменам христиан”. Мы видим даже, что появляется легенда о непосредственном участии двенадцати апостолов в создании текста Символа веры (Credo).
Святой Ириней говорит о “Правиле истины”, которое новокрещаемый получает при крещении. Это уже указывает на крещальную литургию. Вскоре крещению стала предшествовать traditio et redditio symboli в форме крещальных вопросов – включения в веру. Кроме того, призвание имени Божьего составляло обычную формулу экзорцизма, и на гражданское исповедание Κύριος Και σαρ (господь Кесарь) Церковь отвечала устами своих мучеников: Κύριος Χριστός (Господь Христос). Служение Церкви требовало, со своей стороны, очень точного исповедания: “Один Бог Отец... один Господь Иисус Христос” (1Кор.1:6).
Христологическое, или двухчастное, исповедание всегда предполагает всецело троичное исповедание. И оно не является результатом последовательной эволюции, но подразумевается с самого начала. Конечно, в символах более развита именно христологическая часть, и акцент на христологии соответствует центральному событию воплощения, которое нам дает полноту откровения. Но троичная формула, став преобладающей, упраздняет местные особенности старых формулировок и являет норму. Восточное богословие, гораздо более синтетическое, утверждает в своих славословиях и в своей литургии очень ясное преобладание имени Святой Троицы. “Неизреченные воздыхания” христианской жизни не останавливаются ни на Христе, ни на Святом Духе, но всегда возносятся прямо к Отцу, – в этом заключается очень точный смысл литургического “воспоминания”.
Глава II. ДОГМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБОРОВ И ИХ НАСЛЕДИЕ
Окидывая ретроспективным взглядом всю совокупность соборов, мы видим, что они образуют догматическую икону откровения. Глубокое единство видения включает в себя, однако, различные акценты. Первостепенное значение принадлежит никейскому определению о единосущии Отца и Сына, халкидонскому догмату о единстве двух природ в божественной ипостаси Слова, определению Константинопольского собора XIV века по поводу паламитского учения об обоживающих божественных энергиях и по поводу нетварной благодати.Чтобы лучше понять развитие догматического сознания, нужно принять во внимание фон исторических обстоятельств, на котором оно происходит, а также огромную дистанцию между догматом – выкристаллизовавшейся, определенной и провозглашенной истиной – и богословием той эпохи, в которой был поставлен этот догматический вопрос. Отцы Церкви вступают в диалог с еретиками и в подвиге своей веры, который доходит до мученичества, устремляются к рождению истины.
С самого начала в центр дискуссий ставится воплощение в его сотериологическом аспекте: Cur Deo Homo? – почему Бог стал Человеком? Это вопрос жизни и смерти, богословие спасения во всем его драматизме и во всей его исторической полноте. Это прежде всего христологическая тайна, которая, однако, является не только Христовой. Исходный пункт размышления берет свое начало в неумелых богословствованиях, в которых пытались примирить монотеизм, унаследованный от Ветхого Завета, с верой в божественность Христа и таким образом получали представление о Христе-человеке, усыновленном Богом (Феодат, Артемон, позднее – Павел Самосатский и несторианство), или концепцию “двух имен и одного лица”, Христа, являющегося лишь модальностью Отца (модализм, динамизм, патрипассионарность: Ноэт, Праксий, Савеллий). Для человеческого разума всегда более логичным является следовать иудейскому монотеизму, теизму Аристотеля, даже пантеизму стоиков или учению Плотина об эманациях. Троичный догмат, в котором Бог и един, и троичен одновременно, распинает разум, его истина вонзается, как заноза, и вечно будет представлять формулу “соблазна” для эллинов (Святой Максим, P.G. 90, 408 D.) и “безумия” для иудеев. Воистину “Христос распятый есть суд судов”.
Слава Первого Вселенского собора – выражение ὁμοούσιος, единосущный – отсекло и осудило ересь Ария. Обращенный к Богу, в Своем Божестве Единородный Сын единосущен Отцу: “Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу”. После святого Афанасия великие каппадокийцы (святой Василий и два Григория) разработали тринитарное богословие, развивая терминологию Никеи: одна сущность и три ипостаси, – и подчеркнули единосущность Отцу Святого Духа.
Но именно этот ответ поставит следующий догматический вопрос, обращенный к человеческому естеству во Христе: что означает “Слово стало плотью”? Аполлинарий, епископ Лаодикийский, соскальзывает в ересь: он отказывается признать во Христе разумную человеческую душу, она, по его мнению, заменена на божественное Слово. Святой Григорий Назианзин энергично возражает, защищая целостность человеческой природы во Христе, который “спасает только то, что принимает на Себя”. Но вопрос оказывается весьма сложным и острым. Диалектически тезис представлен александрийской школой (Пантен, Климент, Ориген, Кирилл), а антитезис — антиохийской (Лукиан, Феодор Мопсуэстийский, Иоанн Златоуст, Феодорит Киррский). Мистический аллегоризм александрийцев (граничащий с аполлинаризмом и монофизитством) противостоит буквальной экзегезе с морализаторской тенденцией, характерной для антиохийцев (граничащей с арианством и несторианством). Первые замыкаются в определенной неточности, проистекающей из их недоверия к диалектике, но жизненно необходимой, – неточности между библейским преданием и догматическим разумом. Акцент будет ставиться либо – в Александрии – на единстве природ во Христе, и такой подход, в пределе, приводит к монофизитскому слиянию, растворению капли (человеческого) в океане (божественного), либо – в Антиохии, – чтобы спасти полноту человеческого, на коренном различии, доходящем до разделения двух природ (Несторий). По словам святого Кирилла Александрийского, Христос в ипостасном единстве есть Один, происходящий (ἐκ) от двух природ. Антиохия, напротив, доходит до двойственности лиц, существующих в одной сложной ипостаси (при наличии только морального согласия двух лиц).
После осуждения “македониан” (отрицающих божественность Святого Духа) на Втором Вселенском соборе (381 г.) и Нестория (Антиохия) на Третьем (431 г.) слава догматического синтеза переходит к Четвертому (Халкидонскому) Вселенскому собору (451 г.). Этот синтез основывается на формуле Dei et hominis una persona (Бог и Человек в одном Лице) святого папы Льва, приведенной в его письме к Флавиану Константинопольскому (Томос Флавиану). Он говорит о существовании во Христе двух природ, божественной и человеческой, различных и совершенных, соединенных без слияния или смешения или разделения в одном лице, или ипостаси, Бога Слова. Тупик, в который зашли две противоборствующие школы Александрии и Антиохии, ясно показывает предел любого человеческого рассуждения о божественных реальностях. Ответ приходит от Бога, как чудо, в виде чистого и простого кристально ясного догмата. Это ничуть не богословский синтез (и, тем более, не философский, типа гегелевских триад), а догматический, который выше всякого богословского анализа; это определение – предел. Это объясняет долгое сопротивление сирийского и египетского монофизитства в смягченной форме (все еще актуального в несторианских и яковитских церквах), которое принимает еретическую форму монофелитства, утверждающего одну волю во Христе (большим защитником православного дифелитства был святой Максим Исповедник). После осуждения на Пятом Вселенском соборе (553 г.) несторианской тенденции “трех глав” (писания Феодора, Феодорита и Ивы) Шестой собор осуждает монофелитство и дает определение о существовании во Христе двух воль. И человеческая воля добровольно следует божественной воле. По словам святого Иоанна Дамаскина, тот, кто волит – один, и, следовательно, объект воления также один. Великий противник монофизитов Леонтий Византийский вводит принцип “воипостазирования”: человеческая природа становится “воипостазированной” в божественной ипостаси Слова.
Однако все соборные определения, хотя и являющиеся в высшей степени спасительными, не могли еще ответить на все вопросы, и особенно на следующий: как одна и та же ипостась живет в двух природах? Классическое и упрощенное решение совершенно недостаточно: человеческое во Христе страдает, а божественное творит чудеса. Оно очевидным образом кроит и разделяет саму тайну единства и, будучи слишком рациональным, проходит мимо истины, которая всегда антиномична. Оно останавливается перед Богом и человеком и упраздняет саму тайну Богочеловека. Учение о так называемом communicatio idiomatum (общении свойств), или о перихорезе (святой Иоанн Дамаскин), вплотную касается ее. Божественное проникает в человеческое и делает его обоженным; но остается открытым вопрос по поводу взаимного действия человеческого на божественное. Неизвестный автор писаний, озаглавленных “О небесной иерархии”, “О церковной иерархии” и “Мистическое богословие”, которые оказали значительное влияние на Восток и на Запад (переведенные на латынь Скоттом Эриугеной в 850 г.) и которые он выпустил под именем Дионисия Ареопагита (сирийские круги конца V века), дает весьма удачное выражение теандрической, богочеловеческой, энергии (IV письмо монаху Гайю) как двуединства двух воль и двух свобод в одной энергии. Обе природы объединяются в одном богочеловеческом сознании, помещая человеческое сознание внутри божественного сознания.
Седьмой Вселенский собор (787 г.) осуждает иконоборцев и в своем догмате об иконе завершает христологию: человеческое во Христе есть человеческий облик Его божества, икона Христа открывает тайну единства, изображая богочеловеческий образ.
Вселенские Соборы оставляют в наследство грандиозную проблему Халкидона. Токсины монофизитства так и не были уничтожены. Средневековая западная теократия, как и теократия Византии, почти не оставляла места человеческому. Возрождение берет реванш и приводит к гуманистическому монофизитству. Равновесие христологического богочеловечества оказывается нарушенным. Обрести его – это самая насущная задача сегодняшнего дня.
Символ веры намекает на символическую локализацию: в то время как Отец находится над всем, Сын – одесную Отца, а Святой Дух – в Церкви. Недавние работы, касающиеся Апостольского символа, дают уточнение текста, восходящее к Ипполиту Римскому: “Верую в Духа Святого, Который в Святой Церкви, ради воскресения плоти”. Ипполит следует любимой идее святого Иринея, который приписывает воскрешение плоти Святому Духу и который утверждает: “Там, где Святой Дух, там и Церковь и вся благодать”, – и призывает каждого верного “поспешить в Церковь, где расцветает Святой Дух”. “В Церкви пребывает причастие Христа, то есть Святой Дух”. Точно так же в анафоре, идущей от Апостольского предания, молятся: “Соединив в единство всех святых, причащающихся, дабы исполнить их Духом Святым”. Тот, кто “говорил через пророков”, дает разуму постичь Священное Писание и догматы – и это есть ясно выраженная догматическая эпиклеза.
Слова κοινωνία τω ν ἁγίων из Апостольского символа могут означать причащение к sancta, то есть евхаристию, что также согласуется и со значением “единство sancti (святых)” – освященных. Это есть вера в таинства, передаваемая апостолами, церковная агапэ (вечеря любви), “где расцветает Святой Дух”. Мы находим ту же последовательность в Никейском символе, где христология приводит и к пневматологии, и к церковному освящению. Так реальность обоживающей благодати помещается в центре человеколюбивого домостроительства Божьего.
Константинопольские соборы (1341–1352 гг.) канонизируют учение святого Григория Паламы как совершенно правильное выражение православной веры и даже ее исполнение. Оно различает в Боге три Ипостаси, ипостасные исхождения; единую природу или сущность; энергии, или естественные исхождения. Энергии неотделимы от природы Бога, и Бог в них присутствует полностью. Недоступный, радикально трансцендентный в Своей сущности, Бог имманентен и проявляется в Своих энергиях, что определяет два способа божественного существования: внутрибожественный, в самом Себе, и внебожественный, в мире, сотворенном по Его свободной воле. Учение о нетварных энергиях совершенно не содержит в себе идеи причинности: благодать не есть следствие божественной причины. Бог не действует как причина благодати, но проявляется в ней и действует в свободном взаимодействии “да” воплощения и “да будет” твари.
Западные богословы не признают значение и вклад паламизма, что создает глубокое догматическое различие между Западом и Востоком. Такую же трагическую неприязнь проявляли богословы Карла Великого по отношению к определениям Седьмого Вселенского собора. Паламитское учение не представляет из себя никакого новшества, оно не вводит ничего нового, а синтезирует и завершает святоотеческое предание. С этой точки зрения восточных христиан, Запад не останавливается должным образом перед тайной божественной невыразимости и, не обладая учением о теосисе, не в состоянии обосновать природу причастия. Причастие не является ни сущностным, ни ипостасным, ни осуществляемым через тварную благодать (три невозможных случая). Оно возможно и действенно только в том случае, если оно – энергийно (паламизм). Бог общается с миром и совершает обожение с помощью энергий, а человек “причащается божественной природе”, не смешиваясь с божественной сущностью. В этом заключается все восточное учение о человеческой природе и о благодати, которая пронизывает ее.
Эпиклектическое богословие Святого Духа, лежащее в основе всей святоотеческой мысли, восстанавливает троичное равновесие, т. к. относит все домостроительство творения, данного во Христе, к Царю Небесному. С помощью Своих “двух рук” – Слова и Духа – Отец создает вечный лик “богов по благодати” из Царствия Божиего.
Глава III. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
“Научите... все народы... соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф.13:20). Именно по своему божественному установлению Церковь как хранительница божественного закона, получает право устанавливать каноны (от κανών – правило), судить и, в случае необходимости, применять санкции: “Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается” (Лк.13:16). С самого начала своего существования Церковь ясно осознает свою ответственность за свой исторически воплощенный порядок. Иерусалимский собор решает вопросы, относящиеся к христианам иудейского происхождения (Деян.13:22); апостол Павел в своих Посланиях касается вопросов проведения собраний, качеств, требуемых от епископов, и использования харизм. В течение первых трех веков Церковь пользуется обычным правом, которое содержится в Дидахэ (конец I – начало II века), Апостольском предании Ипполита (начало III века), Учении двенадцати апостолов (около 250 г.) и в Правилах святых апостолов (около 380 г.).Начиная с IV века Церковь вступает в эпоху регулярных соборов. Несколько кодексов дают нам свод канонов (например, Кодекс Иоанна Схоластика 550 года). “Симфония” церковной и имперской властей объясняет присутствие церковного права в кодексах имперского права Феодосия или Юстиниана (Дигесты, Новеллы и т.п.). Позднее появятся работы канонистов Вальсамона, Зонары и др.
Православие не имеет унифицированного устава для всех Церквей, как, например, Corpus Juris Canonici Римской Церкви. Существуют лишь поместные уставы, основная часть которых восходит к средним векам и которые не всегда согласуются между собой. Из-за отсутствия критических исследований не всегда легко установить, какие из канонов еще сохраняют всю свою силу, а какие более недействительны и устарели из-за изменения исторических условий. Существуют еще каноны “на страже”, которые ждут своего применения (например, те, которые определяют порядок созыва соборов).
Хотя такое состояние дел создает некоторые неудобства, унификация канонического права предполагала бы нормативное “единообразие” поместных Церквей, что противно православному духу. Единство веры и обрядов может весьма различно выражаться в местных исторических формах.
Канон и догматы
Догматы представляют собой то, что является незыблемым в откровении, а каноны – то, что подвижно в исторических формах, и никогда не надо смешивать эти два совершенно различных плана и, тем более, догматизировать каноны. Сделав такое утверждение, следует прояснить прямую связь между ними, которая устанавливает функциональное соответствие. Каноны – это внешнее, видимое, историческое и подвижное выражение неизменного, входящего в догмат. Выражение и экзистенциальные формы меняются в зависимости от обстоятельств и исторической эпохи христианства. Цель канонов состоит в том, чтобы описать в данную эпоху догматическое esse, бытие Церкви и, таким образом, помочь верующим воплощать его в своей жизни. Это значит, что канонический порядок всегда зависит от догматического учения.Но никакая организующая форма никогда не тождественна догмату и всегда является только относительным приближением к истине, зависящим от своего времени. Это заставляет понять невозможность догматизировать или абсолютизировать временную и относительную каноническую форму. С другой стороны, всякое изменение какой-либо детали, ставшей “преданием”, должно быть оправдано тем, что оно представляет собой лучшее выражение догматической истины. Каноническое право, никогда не претендуя на исчерпывающую полноту своих дисциплинарных норм, осуществляет благодатное устройство Церкви, наиболее правильное в данных исторических условиях, чтобы предохранить его от всякого искажения, которое могло бы затронуть незыблемое бытие Церкви.
Таким образом, каноны через свое истолкование догматов ищут, очерчивают и определяют воплощение этих догматов в конкретных жизненных формах.
В то время как совокупность канонов очень точно создает видимую форму поместной Церкви, “каноническое сознание”, эта определенная сторона православия, становится выше того, что сиюминутно, и стремится к причастности истине догмата с помощью подвижных форм дисциплинарных правил, но также и в выходе за их пределы. А это возможно только при устойчивости и незыблемости “догматического сознания”, единого для всех Церквей. Каноническое сознание будет искать, таким образом, не исторические формы, пришедшие из апостольской эпохи, а дух, который им давал жизненные силы и который будет одушевлять всякую форму и всякую эпоху, оставаясь совершенно тождественным самому себе.
Халкидонский догмат о единстве двух природ, его богочеловеческий смысл отражается в каноническом сознании и объединяет jus divinum (божественное право) и jus humanum (человеческое право) в jus ecclesiasticum (церковном праве), и именно догматическое единство гарантирует тот же самый источник вдохновения на всем протяжении изменчивости эмпирических форм. Каноны согласуют метаисторическое esse Церкви с ее историческим телом. Они причастны к догматическим истинам и именно с этой высоты указывают, “как” их применять для того, чтобы предохранить Церковь от любого еретического отклонения или несогласия с догматами.
Глава IV. БИБЛИЯ
1. Чтение во Христе: православное априориЛучший способ определить православную духовность – это сказать, что она является по существу библейской, но при этом нужно определить православный, церковный смысл этого термина. Отцы Церкви жили Библией, думали и говорили с помощью Библии с тем восхитительным проникновением, которое доходит до отождествления своего существа с самой библейской сущностью. Чистой экзегезы как независимой науки никогда не существовало во времена отцов. Если мы последуем их школе, то сразу же поймем, что речь идет вовсе не о школе экзегетики, исторической или аллегорической, методе Антиохии или Александрии. Святоотеческая экзегеза представляет собой всю гамму, где каждое направление находит свое законное место. Речь идет о фундаментальном факте, связанном со всяким чтением Библии: читаемое и слушаемое слово всегда ведет к живой личности Слова. Христос никогда не бывает ограничен ни дидактическим, ни катехизическим, ни каким-либо иным смыслом Своих собственных слов. Все наши утилитарные и прагматические представления о смысле, все, что определяется любопытством и вопрошанием, подчинено факту откровения самого реального божественного присутствия и происходящему от него просвещению. Святой Иоанн Златоуст так молится перед святой книгой: “Господи Иисусе Христе, открой очи моего сердца, дабы понять и исполнить Твою волю... просвети очи мои Твоим светом... Ты еси един Свет”. Святой Марк говорит: “Евангелие закрыто для человеческих усилий, открыть его есть дар Христа”, а святой Ефрем советует: “Перед каждым чтением молись и моли Бога, чтобы Он открылся тебе”.
Можно было бы сказать, что для святых отцов Библия есть Христос, т. к. каждое из ее слов ведет нас к Тому, кто их произнес, и ставит нас перед действительностью Его присутствия. “Его я ищу в Твоих книгах”, – говорит блаженный Августин. Законное стремление понять и найти ответы подчиняется “более великому” и помещается в перспективу таинств. Мы “евхаристически” потребляем “таинственно раздробленное слово” для того, чтобы соединиться со Христом. Провиденциально то, что глагол “познать” означает в Библии на еврейском и на греческом языках “познать через соединение”, имеет брачный смысл; и великим символом конечного познания Бога является брак Агнца.
Евангелие от Луки (Лк.13:45) говорит нам, что Христос “отверз ум” ученикам, показав, как надо читать Библию, чтобы открыть в ней “все то, что написано обо Мне”, – “и начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании”. Так Господь “изъяснял им Писание” (Лк.13:27, 32) и открывал, что Библия есть словесная икона Христа. С тех пор все тот же халкидонский догмат учит иметь в виду православное априори “богочеловечества” для любого чтения Священного Писания. Бог пожелал, чтобы Христос образовал Тело, в котором Его слова звучат подлинно как слова Жизни, – и именно во Христе, внутри Его Тела, в Церкви, нужно читать Библию и слушать Бога. Как только верующий берет Библию, это внутреннее априори помещает и его, и саму книгу в Церкви, и именно внутри этого акта “воцерковления” совершается чудо: исторический документ предстает как святая Книга, вся исполненная божественного присутствия. Степень моего восприятия зависит от глубины моего онтологического места в Теле, от моей жизни в Церкви, которая “богочеловечески” перестраивает структуру моего духа, чтобы я смог осознать, что в конечном счете именно Церковь читает Библию, как только открываются ее страницы. Даже при чтении наедине Библия читается как бы вместе, литургически. Бог пожелал этого, и подлинным субъектом познания является вовсе не изолированный человек, отсеченный от Тела, а человек, являющийся членом Тела, литургический человек.
2. Библия и предание
Обращаясь к эпохе Реформации, мы видим, как ее богословы с большой силой противопоставляют Священное Писание преданию, божественное слово слову человеческому. Действительные злоупотребления и трагическое недоразумение в Западном христианстве вынудили взаимодополняющие элементы прийти к совершенно искусственному противопоставлению.
Библейские книги большей частью представляют собой хронику жизни Церкви, сохраненную преданием. Прежде чем быть включенным в новозаветный канон, слово Христово было принято апостольской общиной в виде устного предания. После того, как оно быстро перешло к форме записанного предания, его содержание стало неуклонно возрастать и разделять судьбу всякого исторического документального свидетельства и хроники, благодаря колебаниям, присущим человеческой природе. Так, “Божьего никто не знает, кроме Духа Божия” (1Кор.1:11). И он неустанно удостоверяет и свидетельствует внутри Церкви и творит из нее “столп и утверждение истины” (1Тим.1:15). Именно Церковь, “исполненная Троицей”, выбирает и оставляет среди множества писаний те, которые “богодухновенны”, заверяет их подлинность и, выступая в роли поручителя, отбрасывает одни как апокрифы и определяет другие как второканонические. Библия дана в Церкви. Именно Церковь принимает Библию, устанавливая ее канон, именно она несет ее в своих недрах как “Слова Истины” и, следовательно, невозможно выносить ее за пределы Церкви, не рискуя исказить ее.
Свидетельство Слова Божьего о самом Себе не является формальным принципом, взятым автономно и ставшим независимым; ему угрожает опасность быть искаженным из-за человеческой недостаточности, это доказывают все секты, называющие себя “библейскими”. Лишь “благодать исполняет всякую немощь”, и вот почему Церковь дает Библию людям и предстает сама как основное априори для ее чтения. Всякая секта, хотя и противопоставляющая себя Церкви, тем не менее получает Библию из рук Церкви, так же как и понятие богодухновенности священных текстов. Ставя Библию над Церковью, мы нарушаем нормативное отношение, нарушаем волю Господа, говорящего о том, чтобы ее читали в Церкви.
Жизненная сила размышлений святых отцов, литургическая гимнография, икона – догматическое и каноническое сознание – все эти образующие элементы предания создают динамический по своей сути мир, живую сферу звучания Слова Божьего, неотделимую от самого Слова, как Его живое продолжение, Его тело, происходящее из того же источника. Речь идет вовсе не о том, чтобы искать готовые ответы в архивах прошлого, а о том, чтобы прикоснуться к чистым источникам предания, усвоить великий опыт Церкви и развить в себе чувство православия, которое приведет внутрь согласия отцов и апостолов Церкви. До того момента, когда мы внезапно поймем, что через разнообразные формы Церкви, через все элементы предания, сам Христос объясняет Свои собственные слова. Дух удостоверяет, но внутреннее свидетельство Святого Духа, эпиклеза Священного Писания, осуществляется лишь в соборности Тела; и именно на человеческой природе Христа, ставшей Церковью, почиет Святой Дух.
Внутреннее свидетельство Святого Духа проявляется в богодухновенности священного текста. Ни в коем случае нельзя смешивать это совершенно особое свидетельство с истолкованием текста. Церковь есть весь Христос, и это помещает в вечно живой контекст Христа те слова, которые Он произнес во время Своей земной жизни. Бог сказал, и Он продолжает истолковывать Свои слова. Так Библия, истолковываемая божественным образом, включает в свою полноту предание как свое живое продолжение и всегда осуществляемое истолкование. Предание свидетельствует о Писании, и Писание составляет часть предания, однако Библия остается первоисточником веры, обладая приоритетом и абсолютным авторитетом. “Вечное Евангелие” (Откр.13:6) есть то, на что можно ссылаться вне всякого сравнения с какой-либо другой формой, и оно служит критерием истины. Любое предание и любой догмат должен всегда находиться в согласии со Священным Писанием. Кроме узкой и всегда четкой области догматов, предание не обладает никаким формальным критерием или внешним органом, который мог бы вводить норму для чтения текста. Именно из глубины своей жизни оно ведет к несомненному представлению о том, что является православным, а что инославным. Однако можно выделить несколько предварительных указаний для чтения любого места из священного текста.
1. Каждый отрывок прежде всего должен читаться в связи с контекстом данной книги, а затем – в контексте Библии и Церкви; каждый элемент должен комментироваться в свете того целого, которому он принадлежит. Параллельные места помогают ощутить особое звучание перикопы (рассматриваемого отрывка). Использование текста во время литургии значительно его обогащает, ставя его в соответствие с празднуемым событием и его гимнографическим комментарием (так, например, 1Кор.13:1–4 читается в день Богоявления, конец Евангелия от Матфея – во время совершения таинства крещения и миропомазания и т.п.). Литургическое чтение получает силу от соответствующего события и становится его “исполнением” в настоящем. 2. Единственный неизменный критерий: все, что противоречит догматическим истинам, должно быть отвергнуто. Например, любая гипотеза о детях Марии противоречит догмату о ее приснодевстве. Среди гипотез нужно выбирать ту, которая находится в согласии с догматической истиной, т. к. она являет собой непогрешимый смысл наиболее важных библейских текстов, данных Церкви самим Богом. Так, понимание Ин.13в смысле подчиненности осуждено догматом равенства трех божественных Лиц. Любое представление о Сыне Божьем как о “Божьем ребенке” в смысле всеобщего усыновления вступает в противоречие с догматом о Единородном. Тот, кто не верит в воскресение Христа так, как оно пережито в Церкви и провозглашено в Символе веры, никогда не сможет правильно читать Священное Писание. 3. Напротив, по отношению к историческим деталям, к человеческой форме Священного Писания (языка, эпохи, места, среды, образа и символизма), требуется наличие самой широкой свободы с применением всех открытий объективной науки. Проблема подлинности некоторых текстов, их происхождение и приписывание авторства писаний тому или иному лицу (книги Моисеевы, книга Исайи, Послание к Евреям) не представляет собой никакой трудности. Тексты (например, Мк.13:9–20; Ин.1:53–1:11; 1Ин.1:7), которые, возможно, не принадлежат первоначальной редакции, признаны как варианты исходного текста, освященные их употреблением за богослужением. Через эти тексты говорил Бог. Так же, как и варианты текста, различные способы их понимания и комментирования доказывают, что богатство содержания превосходит всякое однотипное человеческое суждение. Хотя все Священное Писание богодухновенно (2Тим.1:14), вероучительная важность некоторых отрывков выясняется лишь через догматические определения Церкви. Всякие попытки написать Жизнь Иисуса приводят к остатку, несводимому только к человеческому; всякие “научные” построения по выявлению сущности христианства (Das Wesen des Christentums) кончаются произволом субъективного выбора, лишенного всякого апостольского авторитета.
4. Библейские рассказы отчетливо располагаются в двойной перспективе: исторической и метаисторической. Каждый рассказанный факт имел свое место и свой момент, и, в то же время, он характеризуется метафизической широтой, которая выходит за рамки чистой истории. Существуют отрывки, которые четко обозначают неотъемлемую и желательную “мифологическую” структуру (например, рассказ о сотворении мира и о грехопадении, происходящих во времени, отличном от современной истории. Адам имеет значение первообраза, он предшествует течению времени, и поэтому он начинает его для всех нас). Литургическое молитвенное общение с Адамом или Лазарем делает невозможным всякое сведение их личностей к чистому символу. Но литургическое истолкование, имеющее место во время празднования их памяти, являет в Адаме универсального человека, первого Адама, или Адама Кадмона, а в Лазаре – пророческое предвидение воскресения. Ветхий Завет для святых отцов был совершенно конкретной историей и, в то же время, – предвосхищением Христа, типологией событий спасения. Картина, написанная на религиозный сюжет, может очень реалистически отразить историческую действительность, – икона же, напротив, открывает ее безмолвную глубину, ее метаисторический лик. Православное чтение Библии ищет никогда не нарушаемого равновесия между этими двумя перспективами: отправляясь от картины, оно созерцает икону. 3. Проблема богодухновенности Священного Писания
О божественном вдохновении ясно говорится в самом Писании: “Все Писание богодухновенно” (2Тим.1:16), – “изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым” (2Пет.1:21), но это понятие непростое. Механическое записывание диктуемого, феопневстия (боговдохновенность) каждой буквы делает из авторов пассивных писцов. В смягченной форме тот же автоматизм следует из понятия причинности: Бог есть единственный автор, causa principalis – первопричина, а человек – causa instrumentalis – вторичная причина; в бесконечной цепи причинностей, которые все множатся, действительное участие человека размывается. Восточный синергизм, напротив, предлагает решение, предполагающее взаимность, которое сохраняет свободу человека и его достоинство сына, к которому обращается его Отец. Святой Василий Великий ясно говорит, что Святой Дух никогда не лишает разума того, кого Он вдохновляет, иначе подобное действие было бы бесовским. Человеческое естество остается неповрежденным в том, что свойственно именно ему, но оказывается обогащенным, вдохновленным и направленным через действие Святого Духа. В каждой библейской книге неоспоримо присутствует печать человеческого гения, свойственная каждому автору. Святые отцы очень настойчиво подчеркивают (после того, как была завершена работа, предпринятая чересчур упрощающими апологетами II века) человеческий характер их авторов.
Когда человек слушает Слово Божие, он никогда не воспринимает его пассивно, у него всегда имеется активная, творческая реакция, связанная с его восприимчивостью. Конечно, авторы священных книг – это авторы-пророки, и хотя их творчество восходит к интуитивному постижению благовестия и являет харизматическое озарение, оно остается верным своей сути, полностью сохраняя всю человеческую реальность, никогда ее не искажая. Каждый пророк получает служение донести сообщенное ему слово церковной общине, и святоотеческие и литургические истолкования показывают, что хотя откровение дано раз и навсегда, оно никогда не является завершенным в отношении богатства своего содержания и передается через творческую восприимчивость Церкви.
Священное Писание – это человеческая форма божественного слова, и в своем единстве оно предстает богочеловечным. Разделение на Слово Божие и слово человеческое является несторианским; только Слово Божие или только слово человеческое связано с ересью монофизитства. Библия же есть богочеловеческое слово. Человек совсем не становится медиумом, и здесь нет никакого духовного автоматизма. Наряду с абсолютной чистотой догматических утверждений и с общим вдохновением всех текстов предоставляется законное место для человеческих забот и отдается должное преломляющей призме человеческого восприятия, что оправдывает любую научную работу над текстами и историческое развитие такого труда.
Можно также говорить и о богодухновенности чтений. Библия обращается прежде всего к сердцу, органу мудрости: “О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки” (Лк.13:25). Сердце включает в себя интеллектуальную сторону, но превосходит ее, что позволяет для каждого нового чтения открывать новый уровень глубины. Так, типологическое истолкование Ветхого Завета в свете Нового поднимает завесу и способствует циклическому видению анагогического (т. е. восходящего к библейскому – Ред.) хода событий. Так крещеный человек проходит весь путь, прообразующий спасение, и реально переживает всю совокупность библейских событий, воспроизведенных в его собственном существовании. Именно к такому образу переживаний у человека, вдохновленного сакраментальной жизнью, относятся слова Господа: “Кто имеет уши слышать, да слышит!”
Глава V. IN DUBIIS LIBERTAS
Безграничная свобода есть абсурдное понятие, а “научная объективность” – лишь миф. Каждый ученый является живым существом со своими страстями, его разум следует наклонностям его сердца, и любая наука имеет свои предпочтения и свои предрассудки. Богословие является вершиной всех наук, и оно также обладает своими собственными предпосылками.Однако безоговорочная верность догматам и согласие со свободой богословских исследований является фундаментальной методологической нормой. Она намечает границу, которая оберегает от любого идолопоклонства перед человеческим элементом и от любого автоматического подчинения божественному началу.
Отцы Церкви утверждают постепенное откровение истины: “Нужно было, чтобы трисолнечный свет светил через последовательное возвышение души к Богу”. В этой постепенности Церковь сохраняет за собой право на суждение, учитывающее различия и показывающее, что степени восхождения к абсолютному образуют целую серию приближений, предохраняя от любого идолопоклонства по отношению к приближенным формам. Хотя согласие с отцами в предании остается верным путеводителем, ясно, что творения отцов содержат неверные места и в предании присутствуют сомнительные элементы.
Согласно глубокой идее о. Сергия Булгакова, именно догмат предопределяет свободу богословской мысли. Действительно, с того момента, как догмат входит в нашу плоть и кровь, именно он готовит человеческий разум к пониманию задач эпохи в его свете, что предполагает самую высокую степень творческой работы разума.
Вселенские соборы оставили нам в наследство свою проблематику, постулируя органическую непрерывность мысли. Богословие было призвано ответить на множество вопросов, оставленных без ответа, или на вопросы, которые рождаются только в наше время. Но православие не подчиняется догматическим определениям без абсолютной необходимости. Минимум догматики и неограниченность мнений – теологуменов: in dubiis libertas, в спорном свобода – остается его золотым правилом.
Представление о непогрешимости отцов Церкви и всех элементов предания является всего лишь свидетельством раввинистического восприятия или непонимания истинного положения. Неоплатонизм у святого Григория Нисского или в Corpus areopagiticum, обвинение в мессалианизме святого Макария Египетского, оригенизм Евагрия, некоторые двусмысленные места в писаниях святого Исаака Сирина и святого Ефрема, вызывающий беспокойство своими крайностями аскетизм во множестве трудов великих духовных учителей и во многих местах Добротолюбия, аристотелизм святого Иоанна Дамаскина и т.д. – все это показывает, что невозможна никакая безусловная догматизация даже самых больших авторитетов. Новое открытие отцов не должно впадать в “неопатристическое” богословие, которое просто заменило бы собой неосхоластическое богословие. Перед лицом язычников апостол Павел должен был “изобретать”. Через писания отцов нужно учиться их творческому отношению к деяниям Церкви, которая передает нам свое всегда новое сокровище.
Тем не менее более углубленное изучение мыслей святых отцов, определенное отождествление с их опытом, с их кафоличностью, являются непременным условием (sine qua non) для любого современного богословия: обращение к источнику назад, но и, в особенности, вперед, в эсхатологию, – как говорил святой Григорий Нисский, “вспоминается то, что грядет”.
Наряду с догматами Церковь хранит “факты” догматической природы, не создавая, однако, для них догматической основы в форме соборных определений; это, прежде всего, факты, которые являют lex orandi, закон молитвы (почитание Богоматери, святых, учение о таинствах, эсхатологию и т.д.), неотделимый от тела православия.
Богословие не испытывает сегодня никакой нужды в оправдании. Сциентизм, скептицизм, не говоря уже о крайнем материализме, ничего более не могут сказать современному человеку. Богословие видит, как все препятствия на его царственном пути преодолены (исключая, быть может, “интегристов”, вышедших из его собственной среды с их ужасающим обскурантизмом). Самым величественным даром своему Творцу детей Божьих, сознающих свою свободу, является пение хвалы Ему и служение Его Славе. Более того, в этом служении богословие является молитвой Церкви, которую Церковь всегда предпочтительно развивала в соответствии со словами: “богослов – это тот, кто умеет молиться”.
Глава VI. ПРЕДАНИЕ
С апостольским веком завершается откровение. Бог ничего не прибавляет к объективному содержанию Своего Слова. Но день Пятидесятницы начинает собой время Церкви, и оно предполагает наличие передачи, предание. Однако то, что Церковь передает, является не архивом для музея, а живым и всегда актуальным словом: сам Бог продолжает его высказывать, адресуя его людям всех эпох.Таким образом, предание есть сознание Церкви, сознание того, что она является живым вместилищем действующего Слова Божия, и при этом она никогда не исчерпывает того, что несет в себе, – ни в жизни, ни в формах выражения.
Уже апостол Павел подчеркивает всю важность парадосиса, т. е. предания: “Итак, братия, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом или посланием нашим” (2Сол.1:15; 2Тим.1:2) – это достоверная преемственность одновременно и в устной, и в письменной формах. Великим богословом предания является святой Ириней, для которого оно есть “говорящее слово”; при этом первенство принадлежит Писанию, которое постоянно отсылает к преданию – живой сфере, в которой и следует его слушать. Преемственность любви и веры становятся преемственностью толкования и рассуждения. Церковь предстает как постоянно действующий собор, рассеянный в пространстве и во времени и вместе с тем всегда действительно созванный и всегда предназначенный для выражения истины, пережитой в ее предании. Здесь мысль святого Иринея о единстве учения и богослужения приобретает все свое значение: Церковь, хотя и разбросана по всему миру, сохраняет апостольскую проповедь, “как если бы она обитала в одном доме... имела бы одну душу... и единые уста”. И для него предание апостолов является видимым “в каждой Церкви”.
Прекрасное определение Деяний Вселенского Константинопольского собора 553 года также возвещает:
Мы исповедуем, что храним и проповедуем веру, которая была дана изначально нашим Великим Богом и Спасителем Иисусом Христом святым апостолам и которая была ими проповедана по всему миру. Эту веру исповедовали, выражали и передали Церквам святые отцы, и мы во всем им следуем. То, что исповедуется и передается, восходит ко Христу и несет печать божественного происхождения, и поэтому каждый элемент веры соотносится и основывается на Писании. Оно дает те ростки, которые расцветают в предании. Так, чтобы понять и правильно изъяснить “вдохновенные слова”, нужно обладать таким же вдохновением Святого Духа, и задача Церкви – осуществлять живое предание. Прошлое Церкви никогда не убивает настоящее, но одухотворяет его, чтобы оно развивалось, постоянно находясь в русле предания и в его внутренней норме – в соборном согласии в том же Господе и в том же Духе Святом.
Парадоксальным образом, благодаря постоянно присутствующему Свидетелю, предание находится в согласии с будущим, которое обнаруживается в прошлом. “Дух говорил через пророков”, и именно в этом пророческом измерении Церковь берет позади от Христа то, что Он возвещает впереди (Ин.13:15). Это сразу же объясняет, почему не существует никакого формального критерия предания.
Посреди этого мира и из его среды Евангелие возвещает об эоне будущего века, и Церковь, удостоверяя мессианское прошлое Христа, уже свидетельствует о присутствии Его Царства. Она возвещает и судит, но ее задача состоит в том, чтобы обращать, и поле ее деятельности есть весь мир и история во всей ее полноте. Она обладает учением, но также и началами Жизни: евхаристией и таинствами. Рассматриваемый под этим углом зрения Дух Жизни есть Дух Передачи. “Восходя к Отцу Своему”, Христос завершил Свою миссию; однако Он вновь утверждает: “Я приду и возвещу вам” (Ин.13:13; Мф.13:18). В Теле Своем, которое созидается, Христос не отсутствует, но образ Его присутствия иной: Он вновь приходит и присутствует в Духе Святом. По словам святого Николая Кавасилы, “таинства – вот путь... дверь, которую Он открыл... и именно этим путем и через эту дверь Он возвращается к людям”. Христос возвращается в таинствах: это сакраментальное присутствие, призываемое в эпиклезе. Таким же образом и преемственность по отношению ко Христу в служении апостолов и Церкви зависит от прихода Утешителя. Дух свидетельствует, “напоминая” все, что Христос говорил. Он исполняет и завершает Его служение, осуществляя в людях человеческое естество Христа, охристовляя их. Во время Своей земной жизни именно Христос действует, а Дух присутствует внутри Его дел. Теперь же действует Дух, чтобы явить Христа внутри Своих действий. Эпоха Церкви есть эпоха Духа Святого, и она находится между двумя пришествиями Господа.
Церковь основана на историческом Христе, на Его деяниях и страстях во плоти, и хотя “еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен” (Ин.1:39), Его “посланничество” изначала было связано с закланием Агнца.
Владыка Кассиан помещает Пятидесятницу по евангелисту Иоанну на день Пасхи, что подчеркивает связь, которая соединяет Пятидесятницу с историческим Христом (замечательно представленную в Vezelay). Также и в праздновании праздников, Пасха и Пятидесятница являют собой одно литургическое время, которое простирается на Пасху Второго пришествия и брак Агнца, объединяя Христа исторического и Христа во славе. Но Святой Дух на протяжении времени Церкви “исполняет” все Христом (Еф.1:23). “Глава будет удовлетворена только тогда, когда тело станет совершенным, когда мы все станем едины и связаны вместе”, – объясняет святой Иоанн Златоуст. Церковь действительно есть расширение и полнота воплощенного Христа. К “данному” Христом добавляется “совершенное” людьми, ведомыми Святым Духом: Он “исполняет” свидетелей, поставляет епископов; отцы соборов, по их собственному свидетельству, собираются на соборы вместе с Духом Святым, который их ведет и просвещает. Все в Церкви харизматично в многообразии служений и даров, т. к. Святой Дух действует в эпиклезе таинств, в эпиклезе нашего охристовления и нашего усыновления Отцом. Деяния апостолов и деяния Церкви, простирающиеся до конца мира, составляют Евангелие Святого Духа. Наряду с организационными и иерархическими формами, которые образуют Тело, можно увидеть выходящие из этого ряда факты (апостол Павел – “апостол через вмешательство”, чрезвычайно, но не менее признанный апостольской коллегией). Наряду с упорядоченным посредничеством имеется непредсказуемое посредничество святости и мистической жизни, при котором благодать не может быть организована. Одновременно с догматическим богословием существует также живое богословие предания, наряду со структурой существует также и жизнь. Именно в этой целостности домостроительства воплощения Христа в жизни Церкви во всей Его полноте время Духа является эпохой предания со своим основным определением, как апостольским и открытым Второму пришествию. Учение согласуется с евхаристией, но евхаристия уже есть эон будущего, и в этой полноте она является критерием предания. Она судит любое состояние окостенения, “раввинизма”, всякое успокоение в истории, и она вдохновляет, осуществляя открытость самой истории, направляя ее шествие к эсхатону. Так в евхаристии актуализируется время воплощения (Ин.1:39), и преемство с историческим Христом уже переходит в славу Его пришествия.
Наряду с более или менее человеческими “преданиями” существует Предание – передача присутствия Христа, “исполненного Троицы”, которое едино в многообразии его форм. Откровение, данное единожды для всех, снова дается в каждый момент истории Церковью и, таким образом, это есть непрерывная преемственность единого действия, которая удостоверена Парадосисом (Преданием). Даже вне созванных Соборов постоянно действует эпиклеза соборности, то есть эпиклеза предания, непрерывной жизни Церкви. Некоторые из ее элементов уже стали нормативными (догматы, культ), другие же подлежат еще рефлексии и переходу к ним через принятие. Тело верных использует каждый миг, чтобы продемонстрировать свое согласие и свидетельствует о своем апостольстве в момент, избранный Духом.
Святой Игнатий, Послание к Магнезийцам (Magn.), XIII.
P.G. 36, 141 В.
Дионисий, О божественных именах, 13, P.G. 4, 412 С.
По словам Оригена, падение ангелов было следствием их заблуждения, что они насытились; их пресыщения благом, их желания перемен (О началах, I, 3, 8).
Святой Григорий Нисский. О жизни Моисея.
В. Schwarz, Der Irrtum in der Philosophie, Münster 1934.
Святой Дионисий, P.G. 3, 1001.
P.G. 9, 109 А.
P.G. 94, 800 Редакция «Азбуки Веры»
Святой Викентий Леринский, P.L. 50, 667.
Это – народ Божий во всей его совокупности, включая иерархию.
Mansi, t. XL (1909), pp. 407–408.
Против ересей. I, 10, 7.
Служба Трех святителей.
Например, весьма своеобразные системы мышления в русском богословии представляют Тареев, митр. Антоний, о. Сергий Булгаков, Тернавцев.
См. Dom Connolly; Ps. Augustin, Sermones de Symbolo, 240.
На греческом и латинском языках у Киммеля: Kimmel, Ienae 1843; новый перевод в Orientalia Christiana, vol. X, № 39, Rome-Paris 1927.
Реформаторы критиковали символы веры за то, что они не содержали идеи “оправдания верой”!
Против Праксия, 2, 30.
Const. Apost. VI, 14. Легенда была опровергнута гуманистом Лаврентием Валла (Laurent Valla) и Эразмом. См. более поздние работы Каспари (Caspari) и Каттенбуша (Kattenbusch) (1900), Оскара Кульмана (Oscar Cullmann, Les premières confessions de la foi chrétienne, Paris 1943) Келли (J.N. Kelly, Early Christian Creeds).
Против ересей, I, 9, 4.
Согласно Лионскому собору 1274 года, существует лишь один поток благодати – от Христа, Дух которого и есть Святой Дух. Для Востока благодать Сына дает нам досуп к благодати Святого Духа и энергиям, совершающим обожение и исходящим от Святой Троицы. Православие по существу триадоцентрично.
Александрийский пресвитер Арий, ученик Лукиана Антиохийского, учит, что Слово, чуждое сущности Отца, было Им во времени извлечено из небытия.
Единосущие есть основание спасительного обожения человека. “Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом” (Против язычников и о воплощении. Против ариан).
“О Святом Духе” святого Василия, пять “Богословских бесед” святого Григория Назианзина, “Поучения огласительные” святого Григория Нисского.
Церковными деятелями была развита теория “двойственной истины”, божественной и человеческой, богословской и философской. Позднее, выйдя из догматического плена, человеческое творчество освобождается от любых трансцендентных элементов, и в этом заключается драма безрелигиозного гуманизма. Например, творчество Шекспира поражает отсутствием в нем какой бы то ни было религиозной ноты.
P. Nautin, Je croix a l’Eglise saint, Etude sur l’histoire el la théologie du Symbole, Paris 1947.
Против ересей, XXIV, 1.
Hauler, LXXVI, 30, p. 117.
Против ересей, III, 24,1 .
Hauler, LXX, 27, р. 107.
См. цит. P. Nautin, р. 67, прим. 2.
Слова Ипполита (Hauler, LXXVII, 30, р. 117).
P.G. 151, 679–692, 717–762, 1273–1284. Решение о канонизации Григория Паламы приводится в P.G. 151, 693–716. Его учение освящено установлением празднования его памяти во вторую Неделю Великого поста. Оно было включено в Синодик Недели Православия.
Святой Ириней называет Сына и Святого Духа “двумя руками Бога” (Против ересей, IV, P.G. 7, 975 В).
Héfélé–Leclercq, Histoire des Conciles, Paris 1907–1921. Mansi. Sacrorum Conciliorum nova el amplissima collectio. Paris-Leipzig 1903–1927; Tardif, Histoire des sources du droit canonique, Paris 1887; Dictionnaire du Droit canonique, Paris.
Исповедь, II, 2.
О непосредственной связи между Священным Писанием и евхаристией учат все древние авторы. См., напр.: Климент Александрийский, Строматы, I, 1; Ориген, Беседа на Исход, 13, 3; Блаженный Августин, На Евангелие от Иоанна, 9; святой Иоанн Златоуст, Слово на Бытие, 6, 2; святой Григорий Назианзин, Слова, 45, 16. Святой Иероним: “Мы едим Его Тело и пьем Его Кровь в Божественной Евхаристии. Но также при чтении Священного Писания”. См. О. Casel, Le mystère du culte dans le christianisme, Paris 1946.
Ориген. P.G. 13, 1734.
Это выражение принадлежит Оригену (P.G. 12, 1265).
Если мы читаем Библию не в Церкви, мы неизбежно извлечем из Библии понятие, чуждое Церкви.
Всякая демифологизация обречена на подчинение изменчивости критического духа данной эпохи и лишена всякого критерия подлинности от Бога (Церкви). Вряд ли можно говорить, что “мифологические” элементы не угодны Богу.
См. Mgr Cassien, “L’Etude du Nouveau Testament dans l’Eglise Orthodoxe”, Bulletin de la Faculté libre de Théologie protestante de Paris. № 55, 1956.
P.G. 30, 121.
Святой Григорий Назианзин, Слова, XXXI, 25, 26.
Против ересей, I, 3. См. D. van den Eynde, Les normes de l’enseignement chrétien dans la littérature patristique des trois premiers siècles, Louvain 1933.
Николай Кавасила. О жизни во Христе, trad, de S. Broussaleux, Amay, p. 28. См. также: Семь слов о жизни во Христе, М., 1991.
Mgr Cassien, La Pentecôte Johannique, Valence 1939.
Беседа на Послание к Ефесянам, III, P.G. 62, 29.
P. Congar, “L’Eglise, le Saint-Esprit et le Corps apostolique réalisateur de l’œuvre du Christ”. Forma Gregis, Juin 1925.
Эфесский собор, Denzingen, 125; Святой Кирилл Александрийский, P.G. 77, 293.
Часть четвертая. Молитва Церкви
Глава I. КАТЕГОРИЯ СВЯЩЕННОГО. СВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ. СВЯЩЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО. ХРАМ
1. Категория священного В обыденной речи часто употребляются выражения “святая воля», “священный долг”, “святой закон”, “святой человек”. В ходе семантического развития термин “священный, святой” отрывается от своего корня и обретает нравственный смысл, который вовсе не охватывает его изначального онтологического значения.
Прежде всего, “священное” противопоставляется элементам этого мира и представляет собой вторжение того, что Р. Отто называет das ganz Andere – совсем иным, отличным от этого мира. Библия вносит главное уточнение: один Бог есть ὄντως – в действительности то, что Он есть, Святой; в то же время, тварь является таковой производным образом; священное и святое не является таковым по своей собственной природе, по сущности, а всегда через участие. Термин Кадош, ἅγιος, sacer, sanctus подразумевает отношение, соответствующее полной принадлежности Богу, и утверждает некое отстранение. Действие, которое освящает, выделяет вещь или существо из его эмпирических условий и связывает с нуминозным, что меняет его природу и тотчас сообщает чувство mysterium tremendum (священного трепета) перед наличием этого “нуминозного”. Это – не страх перед неизвестным, а мистический ужас, который очень характерен и который сопровождает каждое проявление трансцендентного, или его энергийное излучение, идущее изнутри реальностей этого мира: “Ужас Мой пошлю перед тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь”, – говорит Бог (Исх.13:27); или еще: “Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая” (Исх.1:5).
Так среди искаженных частей этого мира происходит удивительное явление реальности, которая “невинна”, т. к. она освящена, а это значит – очищена и возвращена в первоначальное состояние, к своему подлинному предназначению: быть чистым вместилищем божественного присутствия, Святое Божие почиет на нем и излучает свет. Действительно, “это место свято” через присутствие в нем Бога, как была свята та часть Храма, где находился ковчег Завета, как является таковым Священное Писание, т. к. оно заключает в себе присутствие Христа в Его слове, как свята вся Церковь, т. к. Бог пребывает в ней и делает ее “Домом Божиим”, говорит в ней и дает в ней себя в пищу. Целование мира во время служения литургии было названо “святым”, т. к. оно скрепляло единение в присутствующем здесь Христе. Ангелы, “вторые светы”, святы, т. к. они живут в божественном свете и отражают его. Пророки, апостолы, “святые Иерусалима” святы через харизмы своего служения. Через свою “выделенность” Израиль был ἔθνος ἄγιον, “святым народом”; и в домостроительстве нового Израиля каждый новокрещеный “миропомазуется”, запечатлевается дарами Святого Духа. Эти дары приобщают его ко Христу, чтобы он “соделался причастником Божественного естества” (2Пет.1:4) и через причастие освятился, стал бы “святым”. Епископы именуют друг друга “святой собрат”(sanctus frater), а патриарх именуется “Ваше Святейшество” не в силу его человеческого естества, а в силу его особого участия в священстве Христа, единственного Архиерея, единственного Святого.
Литургия несет в себе вполне ясное истолкование этого понятия. Прежде чем предложить евхаристическую трапезу, священник провозглашает: “Святая святым”, и собрание верных, словно пораженное этим грозным требованием, отвечает, исповедуя свое недостоинство: “Един свят, един Господь Иисус Христос”. Один единственный Святой по Своей природе – это Христос; Его члены святы лишь по своему соучастию в этой единственной святости. “Твой свет знаменуется на ликах святых Твоих”, – воспевает Церковь. “Христос возлюбил Церковь... чтобы освятить ее” (Еф.1:25–26), и “верные зовутся святыми по причине того Святого, в котором они соучаствуют”, – объясняет Николай Кавасила. Исайя (Ис.1:5–6) дает нам весьма точный образ этого: “Горе мне... ибо я человек с нечистыми устами... Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие удалено от тебя”. Человек был освящен через очищение, т. к. его коснулись высшие силы. Священник после причащения “творит воспоминание” видения Исайи: он целует край Чаши, – символ прободенного ребра Христа, – говоря при этом: “Се прикоснуся устнам моим, и отъимет беззакония моя и грехи моя очистит”. Ложка (лжица), которой священник преподает Святые Дары, называется по-гречески λάβις, клещи, те самые, о которых говорит Исайя, а духовные писатели, говоря о евхаристии, уточняют: “вы потребляете огонь”.
Из единого божественного источника (“будьте святы, как Я свят”) вытекает вся градация посвящений, или освящений через соучастие. Они совершают “депрофанацию” и “девульгаризацию” в самом бытии этого мира. Это действие “прорыва” нашего мира по существу свойственно таинствам и священнодействиям, которые учат, что все в христианской жизни потенциально является таинством, или священным, т. к. все предназначено для своего литургического завершения, для своего участия в тайне. Так, например, в праздники Преображения или Пасхи верующие приносят с собой яства для благословения, что распространяет евхаристический принцип приношения и освящения на всякую “пищу”. Назначение водной стихии – участие в тайне Богоявления; земли – принятие тела Господа во время покоя Великой субботы, а предназначение камня – привести к “запечатанному гробу” и камню, отваленному перед женами-мироносицами. Оливковое масло и вода находят свое завершение как элементы-проводники действия благодати на возрожденного человека; хлеб и виноград становятся Телом и Кровью Господа. Мы видим, что все связано с воплощением, все приводит к Господу как величественная литургия и синтез человеческого существования. Литургия приводит самые элементарные действия жизни – пить, есть, умываться, говорить, действовать, жить – к их подлинному предназначению: “Вещи, наконец, более не являются обстановкой нашей каторги, но относятся к нашему храму”.
Человек приучается жить в мире Бога, в его глубине, и он прочитывает в нем свое райское предназначение; вселенная выстраивается в космическую литургию, в храм Божьей славы. Это приводит к пониманию того, что все потенциально священно и нет ничего мирского, ничего безразличного, т. к. все имеет отношение к Богу (“литургическое поминание” означает, что она связывает нас с Отцом, напоминает каждому о памяти, о памяти Божьей). Тем не менее рядом со священным образуется его карикатура, ужасная причастность к “князю тьмы”, к демоническому. Вот почему святой Григорий Нисский категорически отрицает просто человеческое: чисто мирское не существует для него. Или человек есть “ангел света”, икона Бога, Его подобие, или “он носит маску зверя” и обезьянничает.
Литургия вводит в священный язык и в мир символов. И символ (крест, икона, храм) представляет участие в небесном мире прямо в его материальных очертаниях. Итак, часть времени или пространства становится иерофанией (священным явлением), вместилищем священного, при этом ничего не меняя для физических глаз в своем облике, который продолжает принимать участие в окружающей эмпирической среде. Но между священным и его материальным носителем существует согласие сущности (между веществом, используемым при таинстве, или человеческим существом и энергиями благодати), в пределе же это согласие переходит в единосущие и всеобъемлющий метаболизм (обмен веществ): евхаристические хлеб и вино не обозначают и не символизируют Тело и Кровь, но являются ими. Это чудо “тождественности по благодати”, о котором говорит святой Максим, ἡ κατὰ χὰριν αὐτότις; ученики же святого Арсения увидели его ὅλος ὡς πυ ρ (в виде огня), как светоносного человека; он не только воспринимал свет, он его излучал. Но в отношении таких предельных случаев Евангелие говорит: “Имеющий уши, да слышит”.
2. Священное время
А. Вопреки общепринятому мнению, время и пространство не являются чистыми формами. Пространство не является просто своего рода мешком, в который брошены атомы. Они также не являются и априорными трансцендентальными формами созерцания – субъективной сетью, которую наш разум как бы накидывает на предметы для их познания. Пространство и время существуют объективно, они являются мерой существования, одним из его измерений; их функция состоит в том, чтобы располагать, а также и оценивать предметы, которые существуют только в формах, присущих любому творению. Они свидетельствуют о состоянии здоровья вещей, об их онтологическом характере. Когда ангел Апокалипсиса провозглашает конец больного времени, он провозглашает конец математического времени, распавшегося на отдельные мгновения, конец незавершенной временной длительности и переход к завершенной длительности, к качественной полноте времени, в которой оно исполняется. Библейское учение было замечательно понято блаженным Августином, который утверждал, что мир и время были сотворены вместе, “мир был сотворен не во времени, но вместе со временем. Это позволяет сказать, что сам принцип времени положителен, что жизнь в раю и в Царстве Божьем существует в своем собственном времени, то есть согласно порядку, присущему последовательности событий. “Первый человек был сотворен так, что время протекало бы, даже если человек оставался бы неизменным”, – говорит Григорий Нисский. Вечность тварных существ – это не отсутствие времени, ни, тем более, наше время, усеченное по отношению к своему концу, а его положительная форма. Это – время, в котором полностью сохраняется прошлое, а настоящее открыто в бесконечность эонов: это есть “памятование о Царстве”, с которым соотносится все и которое всецело присутствует в настоящем с точки зрения вечности. Следовательно, нужно различать обыденное, зараженное, отрицательное время, связанное с грехопадением, и священное, искупленное время, устремленное ко спасению.
Б. Рассматривая наше настоящее время, прежде всего нужно сказать, что хотя его интервалы постоянны и тождественны, это есть только лишь абстрагирование по отношению к нашим часам. Мы не являемся простыми циферблатами, на которых вращаются и отмечают математические промежутки стрелки; мы не испытываем время, а живем им, что означает, что мы примиряемся с ним, и пережитое время представляет собой очень личное взаимодействие между его математической формой и экзистенциальным содержанием. Время оценивает нас, но мы также даем оценку времени, что предполагает весьма различную плотность его моментов и его возможность выйти в другое измерение.
Блаженный Августин в своей “Исповеди” гениально показал, что из трех частей времени ни одна не существует: будущее, которое еще не существует, переходит через настоящее, неуловимое в своей мимолетной быстроте мгновение, чтобы сразу же стать прошлым и исчезнуть в том, чего уже больше нет.
Первичная форма этого времени задана космическими периодами, это – циклическое время небесных светил, отображаемое нашими часами, его графический образ – это замкнутая на себя кривая, змея, кусающая себя за хвост, порочный безысходный круг непрестанных возвращений. “Нет ничего нового под солнцем”, – восклицает пессимист Екклезиаст. Замкнутое время, словно бог Хронос, питается своими собственными детьми – мгновениями. Оно холодно, математически хронометрирует “повторения” и вызывает ужас абсурдности, подобный ужасу Паскаля перед лицом пространственной бесконечности. Стрелки часов, постоянно находясь в движении, никуда не ведут.
“Да ведь теперешняя земля, может, сама-то миллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля – ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...” Но уже вторая форма, которую можно назвать историческим временем, длительностью по Бергсону, образ которой есть безгранично продолжающаяся линия, обладает различными мерами. Каждая эпоха содержит в себе свой собственный ритм, ускоренный или замедленный. Опыты по заживлению ран показывают, что существует биологическое время, очень субъективное, зависящее от возраста раненого, точно так же, как радость или страдание изменяют скорость течения времени: оно может быть неуловимо быстрым или бесконечно долгим.
Третья форма времени – экзистенциальная: каждое мгновение может изнутри открываться в другое измерение, что дает нам возможность переживать вечное как присутствующее в данном мгновении или как “вечное настоящее”. Это – священное, или литургическое, время. Его участие в совсем ином изменяет его природу. Вечность существует ни до, ни после времени, она является тем измерением, в котором может открыться время.
В. Святой Григорий Нисский для определения времени использует термин ἀκολουθία, что означает упорядоченную последовательность, которая регулирует развитие от “до” к “после” и направляет зародыш к его конечной цели. Но истинная конечная цель, будучи полнотой, не есть просто τέλος, конечная точка, а τέλειος, полнота совершенства. Эта истинная функция времени проявляется только при рассмотрении его в богословском плане. Это – богословие времени.
Именно во Христе время обретает свою ось. До прихода Христа история движется к Нему, мессиански направлена на Него и ведет к Нему, это – время вызревания, предвосхищений и ожидания. После воплощения все обретает свою глубину и управляется посредством категорий пустоты и наполненности, отсутствия и присутствия, неоконченности и завершенности, и тогда единственно истинным содержанием времени является присутствие Христа и распространение этого присутствия; словно на одном шарнире все видимо и невидимо вращается, стремясь к конечному завершению самого времени, которое одновременно уже есть и будет в конце. Эта “одновременность” ставит во всей своей полноте истинную проблему времени, которая является тайной сосуществования в одном человеке двух, живущих в разных временах. “Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется” (2Кор.1:16). Христос разорвал историческую непрерывность, но Он не упразднил само время, а только сделал его открытым. “Слово стало плотью”, – и будучи плотью, Он подчиняется этой непрерывности: “Младенец же возрастал и укреплялся духом”, как говорит Евангелие от Луки, евангелиста-историка (Лк.1:40). Но будучи Словом, Он доступен лишь вере; и вот для взора веры историческое время открывается в священное время, в совершенно иную последовательность событий: чудесное рождество, преображение, воскресение, вознесение, Пятидесятница и Второе пришествие. “Бог стал временным, чтобы мы, временные люди, стали вечными”, – говорит святой Ириней, и он тем самым показывает, что временное “из этого мира” достигает в вечности высшей точки.
Итак, Христос не уничтожает время, а исполняет его, наделяя его новой ценностью и искупая его. Истинные события не исчезают, а сохраняются в памяти Божьей (в молитве за усопших мы просим Бога “хранить их в Своей памяти”). Положительное время одерживает верх, нейтрализует отрицание, уничтожение и показывает, что человеческая вечность является не отсутствием времени, а осуществлением его полноты: на мессианском пире воссядут Авраам, Исаак и Иаков и люди всех исторических эпох. Но и историческое время в самом своем принципе не является также полностью отрицательным, его действенная положительная сторона заключается именно в самой его природе: будучи правильно ориентированным, оно является аналогом гомеопатического принципа, который использует возбудитель самого недуга: подобное лечится подобным. Здесь – возможность прервать развитие, повернуть обратно, дать умереть тем элементам прошлого, которые этого заслуживают, и возобновить жизнь. “Предоставить мертвым погребать своих мертвецов” (Мф.1:22) означает пройти через “второе рождение” крещения (Ин.1:3), которое позволяет умереть грешному прошлому. Это объясняет двойную интерпретацию истории святого Григория Нисского, являющейся у него одновременно процессом роста и процессом распада. Спасение заключается в изменении уровня. Так, например, крещение разрывает порочный круг и устанавливает другой порядок: закону смерти Бог противопоставил новый порядок вечной жизни. Сюда приложимо богословие апостола Павла о двух Адамах: первый вводит время погибели, а второй – время всеобщего восстановления, время спасения.
Порочное прошлое упразднено в крещении и покаянии, и будущий век уже присутствует в евхаристии, это – “направленное” время; в нем мы уже переживаем наш Восток, нашу Вечность.
Г. Вслед за Кьеркегором говорили об “обратимости времени” силою литургии. Время, однако, не обратимо. Более точно следовало бы говорить о возможности открывать время для того, что пребывает вечно. Если уже память дарует нам подобие присутствия прошлого в виде воспоминания, его застывшего образа, то литургическое поминание идет дальше и содержит в себе не только образы прошлого, но и действительное присутствие событий, что делает нас их современниками. Святой Григорий Нисский указывает на это, говоря о “порядке следования” и об “упорядоченной последовательности литургических праздников”. Каждое литургическое чтение Евангелия переносит нас в обстановку соответствующего события. “Во время оно”, священная формула, которая начинает каждое литургическое чтение Евангелия, означает “священное время” – in illo tempore, “в то время”, теперь, в современный момент. Во время празднования Рождества мы присутствуем при рождении Христа, и воскресший Христос является нам в Пасхальную ночь и делает из тех, кто празднует ее, очевидцев событий великого времени. Здесь больше нет следов мертвого времени с его повторениями, но все существует сразу для всех. “Мы приносим одну и ту же жертву, а не так, чтобы сегодня – одну, завтра – другую”, – говорит святой Иоанн Златоуст, а Феодор Мопсуэстийский усиленно подчеркивает разрыв между уровнями: “Это не есть что-то новое, но – литургия, которая совершается на небесах, и мы пребываем в Том, Кто пребывает на небесах”. Все святые вечери Церкви являются только одной вечной и единственной Вечерей, Тайной вечерей Христа в Сионской горнице. Один и тот же божественный акт одновременно свершился в определенный момент истории и постоянно предлагается в таинстве. И он имеет власть сделать время открытым и оказаться вне любого мгновения, будучи истинным содержанием всех мгновений времени.
В литургическом измерении времени каждый момент близок, т. к. его содержание присутствует во всех других. Так, например, в кондаке Вознесения говорится: “Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся... и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами”. И еще: “Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный”. И в молитве перед причастием: “Иже горе со Отцем седяй и зде нам невидимо спребываяй”.
Повторение свойственно человеку, который периодически вступает в общение с тем, что пребывает вечно. Мы это видим, например, в литургическом праздновании Нового года со всем его космологическим размахом. Святой Ефрем Сирин говорит: “Бог заново сотворил небеса, т. к. грешники стали поклоняться небесным светилам; Он заново сотворил мир, т. к. тот был поруган Адамом; Он создал новую тварь из Своего же плюновения”. Это последнее слово напоминает нам об исцелении слепорожденного и указывает на наличие в нем великого символа исцеления слепого времени. Конечно, собственно говоря, речь идет не о новом творении, а об обновлении времени в его полноте. Факт прохождения его в обратном порядке для того, чтобы оказаться в космогоническом моменте появления первого солнца во время первого утра, вновь связывает его с истинным предназначением и таким образом обновляет его, перестраивает, омолаживает его изнутри, – “обновляется, подобно орлу, юность твоя” (Пс.134:5). Этим объясняется тот факт, что космогония и все то, что является обновлением и истинным рождением, тесно связано с водным элементом, так же как и с идеей рождения и воскресения. Талмуд говорит: “Бог обладает тремя ключами: ключом дождя, ключом рождения и ключом воскресения из мертвых”.
Д. Религиозное значение, которое литургия придает датам астрономического календаря, выявляет их роль в качестве знамения и предвосхищения. Так, например, двенадцать дней между Рождеством и Богоявлением (с 25 декабря по 6 января) – это образ двенадцати месяцев года. (Крестьяне центральной Европы определяют число дождей и обильность урожая на двенадцать наступающих месяцев по этим двенадцати дням, так же как и евреи предсказывали количество осадков на каждый месяц по празднику Кущей.) Отцы Церкви учат, что суббота есть седьмой день иудейской недели, и воскресенье не заменяет ее, а представляет восьмой, или первый, день в абсолютном и уникальном смысле. В то время как дни недели изображают космическую неделю, замкнутую на себя, или совокупность истории в целом, напротив, день воскресения – воскресенье – есть восьмой день, еженедельная Пасха, который являет собой образ вечности (святой Василий Великий указывает на запрет коленопреклонения как знака покаяния, т. к. воскресный день – для стояния, для пребывания в эсхатологической позе, в выражении эпектаза, напряжения в ожидании Второго пришествия).
Сорок лет пребывания евреев в пустыне, сорок дней поста Христа, сорок дней Великого Поста – это дни ожидания перед тем, как достичь “обетованной земли”. Так, время Великого поста представляет собой в сжатом виде совокупность истории, время ожидания. Напротив, пятьдесят дней между Пасхой и Пятидесятницей можно рассматривать как пятьдесят воскресных дней (и отсюда следует запрет на коленопреклонения), время радости, образ уже наступившего будущего века.
Также и Рождество – это не только праздник, но “праздничное время”, когда начинает расти световой день, crescit lux, свет возсия. “Рождество и Богоявление являются солнечными проявлениями Христа как “Свет языков” и “Восток солнца”. “В будущем веке, – говорит Ориген, – все найдут исполнение в совершенном Человеке и все станут одним солнцем”. В то время как астрономический календарь “ориентирует” человека во время посевов и жатв, церковный календарь не ориентирован, но сам является Orient (Востоком), упорядоченным временем. Каждый Новый год представляет всемирную историю в сокращении, восстановленную в литургическом чине, и, с другой стороны, каждый день есть feria (праздник), открытый будущему веку.
Е. Крещаемый, при погружении, проходит через Всемирный потоп, через смерть порочного времени и возрождается для времени спасения. Молитва таинства миропомазания: “да во всяком деле и слове благоугождаяй Тебе”, – показывает, что человек потенциально изъят из времени погибели и, запечатленный дарами Святого Духа, посвящен, отмечен и предназначен в целостности своей жизни ко времени спасения. Вот почему, по словам евангелиста Иоанна, тот, кто следует за Христом, на суд не приходит (так как историческое прошлое уже уничтожено) и тот, кто ест Плоть Христа, уже имеет жизнь вечную и живет в священном времени. Ад, напротив, не может располагаться во времени спасения, в вечности. Будучи по своей сути отрицательным и субъективным временем, он не имеет онтологического места в положительном и всеобъемлющем времени Царства Божьего; он не может войти в его содержание.
Ж. Останавливая солнце во время перехода через воды Иордана, Иисус Навин совершает изменение уровня, переход ко времени спасения; слова “тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь” (Мф.1:14) означают такой же переход.
С помощью исихастской техники строят эти тесные врата и испытывают время иного качества. Оставляя более длинную паузу между выдохом и вдохом, человек живет в другом ритме, в другом времени. Время есть по существу “разрушение”, и Мейстер Экхарт отмечает, что не существует более серьезного препятствия на пути к союзу с Богом, чем время.
Однако в видении Пастыря Ермы, Церковь предстает вечно молодой, т. к. ее полнокровная жизнь – вне досягаемости времени. Календарь праздников и дней памяти святых придает совсем иное значение каждому промежутку времени, творит из него священное время и отвечает здесь, в этом мире, на нашу тоску по вечности. Таким образом, литургия предстает таинством вечности, которое собирает время в Слове – Хронократоре, Господине времени.
3. Священное пространство
То, чем является время для длительности, тем пространство является для протяженности. Пространство не однородно: существуют аморфные, хаотические пространства, и есть упорядоченное пространство, священное пространство. Мирское пространство подчинено закону внеположения и обособленности положения, который упорядочивает все существующее. Священное же пространство отменяет положение вещей относительно друг друга и осуществляет больше, чем единство простого сосуществования, но “единое” во Христе, единосущное.
Когда Христос говорит самарянке: “Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу” (Ин.1:21), Он говорит о Себе, как о священном месте, которое присутствует всюду и которое отменяет исключительность любого эмпирического места. Отныне каждое посещение храма уже является паломничеством в святые места. Этим объясняется множественность мест, каждое из которых сохраняет значение центра, именно потому что они являются не географическими, а космическими центрами, расположенными не по горизонтали, а по вертикали, объединяющей каждую точку с горним. Так, начиная с каждого храма, благословение хлеба, пшеницы, вина и елея освящает эти элементы по всей земле, так же как и благословение четырех концов света во время праздника Воздвижения Креста.
Это точки, в которых пересекаются все уровни: подземный, земной и небесный; их образами являются Святая гора, Космическое древо, Срединный столп, или Лестница. Таковы гора Фавор, чье название происходит, вероятно, от таббур, что означает “пуп”, также и гора Гаризим, называемая “пуп земли” (таббур эрец, Суд.1:7). Вот почему, по раввинистическому преданию, земля Израиля не была покрыта потопом. По христианскому преданию, в центре мира находится Голгофа, и именно здесь был сотворен Адам и был воздвигнут Крест, а у его подножия находилась могила Адама. Это часто встречающийся иконописный сюжет. Точно также корень космического дерева спускается до ада, а его вершина касается неба, при этом его ветви символизируют различные небесные уровни (апостол Павел был восхищен (вознесен) до третьего неба). Святой Максим Исповедник в “Мистагогии” подчеркивает всю трансцендентность космических уровней: “Ныне же будешь со Мною в раю – ибо то, что является для нас землей, для Него ничем не отличается от рая, Он вновь явился на этой земле и беседовал на ней со Своими учениками”.
Раввинистические писания приписывают Адаму гигантский рост, в то время как в апокрифах и в Пастыре Ермы гигант – это Христос, чья голова возвышается над небесами. Это можно понять в связи с тем, что Христос есть божественный архетип этих образов, т. к. Он – дерево жизни и космический центр. Ориген говорит: “Писание изображает Христа подобным дереву”. С другой стороны, многочисленные изображения – например, мозаика баптистерия в Геншир Мессауда – отождествляют Христа и Крест. Тот же символизм встречается в так называемых “живых” крестах: перекладины креста покрыты ветвями и оканчиваются человеческими руками: одна рука открывает небесную дверь, другая сокрушает двери ада. В день Воздвижения святого Креста мы слышим: “Древо жизни, насажденное на Голгофе (отождествление райского дерева и Креста), возвышающееся в середине земли... и освящающее вселенную до ее краев”, “высота и ширина Креста простираются, как небеса” (“Насажденное на Лобном месте Древо воистину жизни...” (2-я стихира на литии – Прим. перев.).
Блаженный Августин, в свою очередь, вопрошает: “И что это за гора, на которую мы восходим, если не Господь Иисус Христос”. Деяния апостола Филиппа называют Христа “огненным столпом”, στύλος πυρός, а в аскетических писаниях духовно совершенный воспроизводит тот же образ: “огненный столп, соединяющий небо и землю”.
Но библейский образ, который лучше всего выражает значение этих представлений, – это лестница Иакова. Ангелы восходят и нисходят по ней. Небо отверсто, и лестница опирается на центр земли, а поскольку Христос и есть эта лестница, то она возникает на каждом святом месте, в бесчисленных центрах. Иаков Серугский говорит: “Христос, находясь на кресте, опирался на землю, как на лестницу, полную ступеней”. Екатерина Сиенская видит Его в образе моста, воздвигнутого между небом и землей, словно радуга, как живое знамение Завета. Святой Ефрем говорит в своем гимне на Богоявление: “Братия, созерцайте столп, таящийся в воздухе, основание которого покоится на водах и который достигает врат небесных, как лестница, которую видел Иаков”.
И, наконец, это круг (ограда храмов и городов), обладающий защитной силой, т. к. он символически изображает вечность. Так, например, при звуках труб стены Иерихона рушатся, и город оказывается без небесной защиты. Точно так же, когда город находится в осаде, крестный ход со священниками, которые несут мощи или чудотворную икону, то есть святыню, обходит по верху стены: такая образная молитва призывает и усиливает защитную силу. То же значение можно видеть в каждой церковной процессии, совершаемой вокруг храма: она следует образу вечности и придает новое значение протяженности в священном пространстве. Если священное время утоляет глубокую тоску по вечности, то священное пространство отвечает жажде по потерянному раю. В этих предельных переходах через эмпирическое, которые совершаются с помощью священного, человек отчасти вновь обретает свое исходное предназначение и устремляется к его осуществлению.
4. Устройство священного: храм
А. Зритель, глядя на храм, может последовательно рассмотреть его различные части, определить его архитектурный стиль и оценить его художественную выразительность, но все равно он будет для него закрытой книгой. Чтобы каждый камень, каждая частица начали говорить и чтобы все вместе стало песнью, литургией, – нужно постичь грандиозную цельность идеи храма. Из окружения его выделяет, прежде всего, то, что он является организованным пространством. Чин освящения храма в большой степени говорит об этом. Он вырезает определенную поверхность, отделяет ее от мирского пространства, очищает ее и призывает в эпиклезе, входящей в чин, схождение Святого Духа, который преобразует любую местность в конкретное место богоявления, в святую гору, в космический центр и лестницу Иакова.
Епископ зажигает большую свечу, “первый свет”, и процессия, неся мощи мученика, обходит храм снаружи, очерчивая круг вечности. Став перед вратами, епископ произносит стихи 23 Псалма: “Возмите, врата, князи ваша и возмитеся, врата вечная, и внидет Царь Славы!” Хор изнутри здания, знаменуя собой пространство, которое еще не организовано, но готовится стать таковым, поет: “Кто есть сей Царь Славы?” Епископ мощами делает знак креста и возглашает: “Господь крепок и силен, Той есть Царь Славы!”
Когда епископ входит, то сам Бог становится обладателем этого места, преобразует его в Дом Божий, и литургия получает эпитет Божественной. Из этого священного центра, на который “Очи Божии отверсты день и ночь” (3Цар.1:29), через Сына будет неустанно возноситься к Отцу жертва и фимиам литургической молитвы. Затем епископ сооружает престол, устанавливает его, помазует его святым миром и окропляет крещенской водой, что сопровождается ангельской песнью “аллилуия”. Храм во всей своей целостности становится пластическим образом божественных небес на земле.
Алтарь (от alta-ara) означает “горнее место”; именно здесь находится святая гора Сион с ее космическим центром, святым престолом, который мистически изображает самого Господа. Святой Дионисий, говоря об этом священнодействии, замечает: “Именно на Самом Иисусе, как на алтаре... совершается освящение”.
Во время поставления во пресвитеры, в момент возложения рук, поставляемый прикасается своим челом к престолу, который символизирует Христа. На престол будет положена дарохранительница, содержащая Тело и Кровь Христову, что превращает его в гроб разверстый силою воскресения. Никто не может касаться его, кроме священнослужителей, и священник, входя в алтарь, делает земной поклон перед этим живым образом Христа. Но и сама материя престола, на котором располагается эта дарохранительница, преображена актом вложения в него мощей, нетленных останков мучеников. Это имеет основание в Апокалипсисе (Откр.1:9): ангел видит “под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели”. Николай Кавасила очень подробно развивает утверждение, что истинный алтарь – это и есть сами эти останки. Заранее можно сказать, что мощи, а значит и престол, есть σω μα πνευματικόν (духовное тело) грядущей Пасхи. Отсюда видно, что литургический центр построен при помощи материи Царствия Божьего, и священное пространство организуется вокруг частицы, принадлежащей горнему миру.
Б. С архитектурной точки зрения, вытянутый прямоугольник называется нефом (кораблем), и можно сказать, что ансамбль храма есть в точности корабль, обращенный и направленный к Востоку. Учение двенадцати апостолов, цитируя Псалом 67: “Воспойте Господеви, Возшедшему на небесе на востоке” (Пс.13:33–34) и Деяния апостолов: “Сей Иисус... приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” (Деян.1:11), – указывает на происхождение обычая молиться, обратившись к Востоку, в ожидании Второго пришествия Христа. Это объясняет то, что каждая молитва – это ожидание, если она хорошо “ориентирована” (игра слов: “ориентированный” буквально означает “обращенный к востоку” – Ред.), и, следовательно, в своем предельном стремлении она всегда имеет эсхатологическую природу.
Франц фон Дельгер показывает наличие образа креста в трех-апсидных базиликах и обнаруживает здесь присутствие символа Света и Жизни, Ζωή и φω ς, которые пересекаются в центральной букве этих двух слов: букве омега, эсхатологической букве греческого алфавита. Это еще сильнее подчеркивает архитектурное значение храма как корабля, плывущего в эсхатологическом измерении и держащего курс на Восток.
В. Высшая значимость места не позволяет непосредственно проникнуть и ввести в него мирской элемент; как настойчиво подчеркивается в литургическом песнопении, которое принято называть Херувимской песнью, на пороге храма “всякое ныне житейское отложим попечение”. Вхождение есть постепенное посвящение, направляемое топографическим расположением места. В былые времена храм был часто обнесен круговой стеной, в которой можно снова различить символ вечности и защиты, а также знак разграничения пространств. В монастырях часто можно было видеть рядом с храмами кладбище и гостиницу, показывающих таким образом единство усопших и живых, собранных вместе в одном и том же священном пространстве. Входя через главный вход, мы сразу же оказываемся в “совсем ином”, затем мы проходим через передний церковный двор и поднимаемся по ступеням паперти, что является частью нашего восхождения. Мы взбираемся на гору и входим после этого во внешний притвор, затем во внутренний (раньше это было местом, где стояли кающиеся, и местом заупокойных служб, а также трапезной для монахов). И только пройдя эту размеренную, исполненную дивного ритма подготовку, мы входим собственно в храм. И здесь перспектива, открывающаяся посредством составляющих частей, продолжает и завершает восхождение, – это дорога, ведущая к вершине святой горы.
Г. В восточной стороне нефа находится приподнятая площадка, солея, центральная часть которой называется амвоном, от ἀναβαί νω, “подниматься, восходить”. Это – горница, место причащения верных. “Безсмертныя трапезы на горнем месте высокими умы, вернии, приидите, насладимся”, – поет Церковь.
Царские врата ведут прямо к святому престолу, и вся эта часть называется “Горним местом”, собственно говоря, – Святой горой. Крест, возвышающийся позади престола, указывает на лестницу Иакова, по которой Бог нисходит на землю и которая принимает форму креста, вписанного в Троицу, образ лика Божьего, обращенного к миру, выражение Его несказанной любви. Между этим крестом и престолом находится семисвечник, свет которого говорит о силе даров Духа Святого, запечатлевающей человека, и о благодати Пятидесятницы, которая “освящает” вселенную.
Д. Организованное пространство храма окружено мирским пространством, и в той мере, в которой оно противостоит священному, это пространство является дьявольским. Вот почему храм в своей целостности воздвигается как самое мощное опровержение апокалиптического Зверя и как наиболее мощный призыв к миру, чтобы тот стал храмом, куда бы могло войти “всякое дыхание” и составить собор, Тело Христово. Крест, венчающий купол, и сам купол организовывают пространство. Своими линиями купол передает нисходящее движение божественной любви, и его сферическая форма объединяет всех людей в собрание, в евхаристическую общину. Находясь под куполом, мы чувствуем себя защищенными, избавленными от ужаса, вызванного дурной бесконечностью; точно так же и крест, если мы продолжим в бесконечность линии его геометрической фигуры, содержит в себе всю совокупность организованного пространства, актуальной бесконечности. Маковки православных церквей могут служить образом пламенной молитвы, через которую мир дольний приобщается миру горнему. Это языки пламени, и многоглавая церковь подобна пылающему светильнику. Сияние этого пламени проникает внутрь купола и озаряет своды, словно небо, сходящее на землю, в центральном образе Пантократора, держащего в Своей руке судьбы всех и каждого человека в отдельности.
Удлиненные и устремленные вверх фигуры на иконах и фресках указывают на порыв вверх. Все, что является сугубо индивидуальным, здесь расцветает и в то же время упорядочивается через причастие и соборность. Все соединено в литургическом космосе, где “всякое дыхание хвалит Господа”, и “сверхбиологические” радость и покой проповедуют и возвещают о вечной жизни, которая начинается уже в этом мире.
Священное искусство православных Церквей до такой степени стремится к соединению всего сущего в Таинстве литургии, что и вне богослужения все в храме находится в ожидании святых тайн. Само это ожидание уже священно, т. к. оно все наполнено Божьим присутствием, – в этом состоит служение иконы.
Литургическое время и священное пространство вместе обусловливают действие, литургическое служение, в котором Царствие Божие является в грядущем Втором пришествии.
Глава II. ВВЕДЕНИЕ В ИКОНУ
1. Богословие славы Божьей“Мы же все... как в зеркале, взирая на славу Господню...” (2Кор.1:18). В эту славу облечена правда Божия; именно потому что Господь есть Истина, Он “воцарися, в лепоту облечеся”. И когда Он являет Свое лицо, свет этого лица исторгает из сердца Его твари славословие, воспевающее Его Царство, силу и славу. Бог “озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” (2Кор.1:6). Он творит из сердца орган не только для познания славы Божией, но и для отражения ее: “Знаменуется свет Твой на ликах святых Твоих”, – поет Церковь.
Икона является таким же славословием, она источает славу Божию и воспевает ее присущими ей средствами. Истинная красота не нуждается в доказательствах, она является свидетельством, воздвигнутым как иконописный аргумент божественной истины. Умопостигаемое содержание икон является догматическим, и поэтому прекрасна не сама икона как произведение искусства, а ее истина. Икона никоим образом не может быть “красивой”, – она прекрасна, но требуется духовная зрелость, чтобы это признать.
Свет есть атрибут божественной славы. Нимбы, окружающие иконописные лики, являются вовсе не отличительными признаками святости, а сиянием их светоносности. Для святых слова “вы – свет мира” являются онтологически определяющими. Правда каждого существа говорит через чистоту его отражения: наивысший дар благодати для всего тварного – быть образом, зеркалом нетварного. Этот уровень вдохновения предполагает харизматическое служение “святых иконописцев” и ведет от просто искусства к церковному искусству. Видение иконописцев является следствием веры, о которой апостол Павел говорил, что она есть “уверенность в невидимом” (Евр.13:1). Они экспериментально работают с этим невидимым, с “внутренней формой” существа, и это внутреннее зависит от “Фаворской” категории, от просвещающего духа. На иконе никогда не бывает источника света, свет является ее сюжетом, т. к. солнце не нуждается в освещении. Можно сказать, что иконописец пишет с помощью Фаворского света. Знаменательный факт: изображение преображения обычно является первой иконой каждого монаха-иконописца, – чтоб Христос “зажег Свой свет в его сердце”. Рукопись с горы Афон предписывает: “пусть он помолится со слезами, чтобы Христос вошел в его душу. Пусть он пойдет к священнику, чтобы тот помолился о нем и прочел тропарь Преображения”. Правила Соборов побуждают иконописца “трудиться со страхом Божьим, т. к. это есть божественное искусство”.
2. Мартиролог иконы
Martyrum signum est maximi caritatis – знак мученика есть милость Вышнего. Церковь особо почитает “раненых друзей Жениха”, и иконопись глубоко связана с этим “облаком свидетелей” – мучеников. Она представляет их неподвижными, их очи широко раскрыты на “пламя вещей”. Можно сказать, что это – огненные языки Пятидесятницы в человеческом облике. Здесь заключено нечто большее, чем просто сходство. Сама икона является мучеником и несет на себе следы своего крещения огнем. Кровь мучеников смешивается с частями разбитых икон, светоносными обломками в эпоху ожесточенной борьбы иконоборцев. Низложенный патриарх Герман заявляет, снимая свой омофор: “Без утверждения Собора ты, Император, ничего не можешь изменить в вере”. Папа Григорий II говорит, в свою очередь, Льву Исавру: “Догматы Церкви тебя не касаются... оставь свои безумства”. Речь идет не о простых иллюстрациях. Рассуждая об иконе, касались христологического догмата. Так, показательно, что ересь иконоборчества сразу же ополчается против монашества и посягает на божественное материнство Богородицы. Рационализация тайны никогда не останавливается на полпути. Почитание Евангелия, Креста и икон составляет одно целое с литургической тайной божественного присутствия, о котором говорит Церковь со дна святой Чаши.
3. Догматическое значение VII Вселенского собора
Ветхозаветный закон запрещал изображения, т. к. они ставили под угрозу почитание единого Бога, который есть Дух. На Востоке чувство бесконечного выражалось орнаментальным искусством геометрических форм. Мусульманское искусство без образов, арабески или многоугольный декор еще более усилит представление о радикальной трансцендентности Бога.
Но к началу христианской эпохи уже сам иудаизм является менее строгим. Дело в том, что в отличие от человека с его затемненным образом, у которого подобие Богу переходит в несходство, только ангельский мир остается чистым, – настолько, что его изображение даже предписано Богом (Исх.13:18–22; 3Цар.1:23–32). Это божественное распоряжение имеет большое значение; оно говорит о том, что небесный мир духов может найти свое художественное выражение, т. к. он обладает человеческим обликом. Так Ветхий Завет оставил нам скульптурную икону херувимов на ковчеге Завета.
Христос избавляет людей от идолопоклонства не негативно, запрещая любое изображение, а позитивно, являя подлинный человеческий образ Бога. Так как одна лишь божественность Христа не поддается никакому способу представления, а одна лишь человеческая природа, отделенная от божественной, ничего более не значит, то в связи с этим гений отцов Седьмого Вселенского собора провозглашает, что “сама Его человеческая природа есть образ Божественности”. “Видевший Меня видел Отца”. Видимое утверждается в значении иконы, образа невидимого.
Библейское основание иконы заключается в сотворении человека по образу Божиему, что являет определенное соответствие между божественным и человеческим и объясняет единство двух природ во Христе. Бог может смотреть на себя в человеке и отражаться в нем, как в зеркале, т. к. человек сотворен по Его образу. Бог говорит человеческим языком. Он также имеет человеческий облик. И, конечно, наилучшая икона Бога – это человек; так, во время богослужения священник приветствует каждением верующих, как и тех, кто изображен на иконах, – Церковь воздает честь образу Божьему в человеке.
4. Богословие выражения
Сходное действие откровения делает из иконы “зримое евангелие”, живописное толкование Евангелия. Утверждению иконоборцев: “Изобразительное искусство не имеет основания в домостроительстве спасения” – орос Седьмого Вселенского собора отвечает:
Елико бо часто чрез изображение на иконах видимы бывают, потолику взирающа на оныя подвизаемы бывают воспоминати и любити первообразных им, и чествовати их лобызанием и почитательным поклонением (прокинез) не истинным, по вере нашей богопоклонением (латриа), еже подобает единому Божественному естеству” – “Горе тем, кто поклоняется образам!” Аргумент святых отцов представляет интерес: икона есть выражение, подобие существующего, идол же, напротив, есть подражание несуществующему, обман, призрак. Поклоняться иконе, как идолу, значит разрушать ее, т. к. заключать представляемую личность в деревянную доску означает творить из нее идола и делать эту личность несуществующей.
Икона никоим образом не является воплощением, она – даже не место, а видимый знак невидимого лучезарного божественного присутствия. “Образ несет имя изображаемого, а не его природу”. Следовательно, в иконе не “вписана”, ни, тем более, “описана” никакая онтология, но изображено имя и, соответственно, засвидетельствовано о нем в его самом реальном, но по существу метапространственном сиянии. Данное пространство, если следовать иконе, не становится “тюрьмой” для вещей, но приобщает к присутствию и освящается им. Икона не имеет собственного существования, она только приводит к тем, кто существует. Подводя предварительные итоги святоотеческой мысли, скажем, что икона имеет педагогическую функцию обучения, и она есть постоянный призыв к Богу, возбуждающий желание подражать. Эти три первых блага отвечают истинной нужде: “даже достигший совершенства нуждается в образе, как он нуждается в книге для записанного Евангелия”. Иконоборчество ведет к отрицанию видимой Церкви: “И прежде всего, разве Тело и Кровь Господа не материальны?” Но сущность иконы познается только через богословие присутствия – и именно здесь Запад отрывается от Востока.
5. Судьба иконы на Западе
“Каролингские книги”, исходя из крайне неудачного искажения смысла латинского текста Седьмого Вселенского собора, называют его ineptissimae sinodi (глупейшим собором). Иконы служат только для украшения, неважно – иметь их или не иметь. Франкфуртский (794 г.) и Парижский (852 г.) соборы объявляют, что они не имеют никакого отношения принадлежности к своим первообразам, к тому же “не живописью Христос спас нас”... и не книгой, как можно было бы добавить. Что-то от этого отношения остается и сейчас, возможно объясняя тупики, возникающие вокруг религиозного искусства. Даже вторжения прошлого, какими бы грандиозными они ни были, не смогут одержать верх, т. к. богословские определения, касающиеся икон, ограничиваются только утилитарной стороной: педагогическим значением обучения и утешением.
Если искусство вплоть до XI и XII веков и характеризуется повсюду одной и той же атмосферой и, показывая сотворенный мир как “красочную книгу”, открывает невидимое, то это происходит потому, что оно, к счастью, отстает от богословской мысли. Отсюда – чудо Шартра, чудо романского искусства, итальянской иконописи и, позднее, – провидческий гений Фра Анджелико, Симоне Мартини и еще многих других. В XIII веке уже остается мало от “византийской манеры”. Джотто, Дуччо, Чимабуэ отказываются от иррациональной реальности мира “умопостигаемого”. Они вводят оптическую искусственность (перспективу глубины, освещение), и это уже более не является искусством трансцендентного. Искусство порывает с “канонами”, обретает свою независимость, и в этом – секуляризация XIV века. Персонажи – даже ангелы – являются до предела реальными индивидуумами, сотворенными из плоти и крови. Они одеты, как все вокруг, и так же ведут себя, так что образ становится современником художника. Еще немного – и священный сюжет становится лишь поводом, чтобы умело изобразить пейзаж или строение тела. Когда художник начинает угождать восторгам души, духовный диалог умолкает и уступает место эмоции, церковное искусство вырождается в просто религиозное искусство. Это – полностью человеческое искусство: от направленности на трансцендентное оно переходит к портрету, пейзажу и орнаменту.
Тридентский собор в очень умеренных выражениях определяет честь, оказываемую изображениям, и объясняет их полезность, регламентируя использование образов. Изображения Бога, как комментирует Боссюэ, “должны быть редкими ввиду указаний Собора, который дает епископам право запрещать их в случае необходимости”. Подлинная проблема церковной живописи осталась неразрешена, и поэтому более простое решение – трехмерные статуи – одерживает верх над бесконечно более таинственной двухмерной поверхностью.
Лютер терпит икону в качестве иллюстрации; Кальвин признает только коллективные “исторические сцены”. Для протестантов, по сведениям современного комментатора, не существует истинной проповеди через искусство, т. к. искусство не обладает реальным значением.
6. Богословие присутствия
Начиная с эпохи крестовых походов, пораженный видением Святой земли и гроба Господня, Запад мистически вращается вокруг Креста. В пределе, долгое созерцание алтаря Грюнвальда (уже почти проповедь Лютера) потрясает, но сообщает трагическое ощущение отсутствия Бога. Восток же, который никогда не покидал Палестину, свою родину, углубляет свое догматическое видение и вращается вокруг славы Божией. Византийский Вседержитель, хотя Он и отличается от смиренного евангельского Христа, потрясает Своим присутствием, наполняющим все.
Отметим самое главное: икона для Востока является одним из тайнодействий божественного присутствия, и ее освящение сообщает ей чудотворный характер: “Проводник благодати освящающей добродетели”, местопребывание “фаний”. Седьмой Вселенский собор четко заявляет:
Как через размышление над Священным Писанием, так и через представление иконы... мы воспоминаем о всех первообразах и приводимся к ним. И собор 860 г. добавляет:
То, о чем книга говорит нам через слово, икона сообщает нам с помощью красок и делает это для нас присутствующим. “Когда мои мысли мучают меня и мешают мне наслаждаться чтением, я прихожу в Церковь... Мой взор захвачен и приводит мою душу к хвале Богу. Я созерцаю мужество мученика... его пыл воспламеняет меня... я падаю ниц, чтобы поклониться Богу и молить Его через ходатайство мученика” (святой Иоанн Дамаскин). Так мученик предстает здесь в роли ходатая и того, через кого можно приобщиться к Богу.
Конечно, икона не обладает собственной реальностью в самой себе – в деревянной доске, – но это именно потому, что она приобретает все свое значение от причастия “совсем иному”. Она не может ничего заключать в себе самой, а становится схематической точкой приложения излучения божественного присутствия, и это присутствие никак не локализовано. Икона только свидетельствует о нем – “как если бы мы созерцали его лицом к лицу”.
Отсутствие объема исключает всякую материализацию; если в западном благочестии статуя может оживать, то с восточной иконой этого никогда не произойдет, т. к. она вызывает сияющее божественное присутствие за пределами своей собственной материи. Ее ценность тесно связана с литургическим богословием божественного присутствия, которое определенно отделяет икону от картины, написанной на религиозный сюжет. Любое художественное произведение помещается внутри замкнутого треугольника: художник, его произведение, зритель. Художник творит свое произведение и возбуждает эмоции в душе зрителя, триада оказывается замкнутой в эстетической имманентности. И если переживания передают религиозный опыт, то они являются только следствием субъективной способности того или иного наблюдателя испытывать этот опыт и в любом другом месте. Святой Хуан де ла Крус (Иоанн Креста) выражает нечто очень западное, когда помещает иконы среди “эмоциональных благ, которые действуют на восприятие”. Однако церковное искусство как раз противопоставляет определенную величественную суровость и аскетическую строгость своей манеры тому, что приятно и нежно, любому музыкальному аккорду романтических душ.
Икона своим сакраментальным характером разрушает треугольник и саму его имманентность. Она утверждает независимость и от художника, и от зрителя, вызывая при этом не эмоцию, а явление четвертого элемента по отношению к треугольнику: явление трансцендентного, о присутствии которого она свидетельствует. Художник отходит на второй план перед преданием, которое говорит здесь, произведение искусства становится источником божественного присутствия, теофанией, перед которой невозможно оставаться зрителем, но нужно пасть ниц в благоговении и молитве.
Каждая картина фиксирует, зрительно воспроизводит что-то, чего более не существует (как вспоминаемая конкретная ситуация), и через это свидетельствует об отсутствии или несуществовании того, что изображено (то, что столь поразительно и волнующе в любой фотографии), – время необратимо, невозможно дважды увидеть одно и то же лицо.
Икона дает только самое необходимое из “событийной” стороны и, беря ее за исходную точку, расстается с искусственностью копии, которая всегда частична и эфемерна, и “являет”: являет оригинал, делает ощутимым его присутствие в полноте всех его архетипных элементов. Икона удовлетворяет единственно подлинному библейскому желанию: желанию абсолютно нового, абсолютно желанного, желанию прихода Царствия Божия; она обращается и уже свидетельствует в этом мире о некой форме Второго пришествия. Парадоксальнейшим образом иконопись создает видимое тело Церкви, но в действительности оно есть невидимое Церкви, место его явления. Апофатическое богословие и аскетизм запрещают создание какого-либо образа и работу воображения в мистической жизни, однако они утверждают и предписывают почитание икон. И действительно, так как икона в своем символизме соприкасается со своим собственным апофатизмом, она отменяет какую бы то ни было иллюстрацию, она никогда не изображает трансцендентное, она его не “овеществляет”, изображая божественное присутствие; и ее строгие правила предохраняют духовное от всякой объективации в чувственном. Все, что находится по сю сторону этой огненной границы, не есть более икона и не есть более чудо. Здесь мы совершаем наиболее чудовищные подмены священного, отмеченные самым сомнительным духом. В этом вся разница между Библией и школьным учебником богословия, между таинством, как действием, и докладом о таинстве. Когда человеческое воображение не просвещено благодатью, оно удручающе бедно, словно бумажные цветы, лишенные утренней росы”. Безумная попытка изобразить Святой Дух являет нам Бога Отца с чертами убеленного сединами старца, а Богородицу – в виде привлекательной женщины.
7. Знаки и символы
Знак информирует, сообщает, указывает (вывеска магазина, километровый столб). Символ находится в отношениях принадлежности и сущностной причастности к символизируемому, символизируемое присутствует в своем собственном символе.
Мы встречаем в искусстве катакомб чисто “знаковое” искусство. Его цель проста и непосредственна: оно возвещает спасение, и с помощью тайных знаков изображает средства к его достижению. Их можно разбить на три группы: 1) все, что относится к воде, – Ноев ковчег, Иона, Моисей, рыбы, якорь; 2) все, что относится к хлебу и вину, – умножение хлебов, хлебные колосья, виноградная лоза; и, наконец, 3) образы спасения и спасенных – отроки в пещи, Даниил среди львов, птица феникс, воскресший Лазарь, Пастырь добрый. Фигуры нужны только для того, чтобы выразить действие спасения: например, мертвый воскресает, погибающий спасается. Налицо полнейшее пренебрежение любой художественной формой и отсутствие всякого богословского истолкования. Добрый Пастырь вовсе не изображает Христа, но говорит нам: Спаситель действительно спасает. Даниил во рву львином соединяется с Орантой, которая указывает на спасенную душу. Это – краткие и поразительные утверждения, говорящие через рисунок о спасении посредством таинств крещения и евхаристии. Греческая надпись, современная катакомбам, верно объясняет их живопись:
Я, Аверкий, ученик святого Пастыря, пасу стада в горах и на равнине... Везде вера вела меня и везде она питала меня Рыбой Источника, великой, чистой, которую выловила Дева и предлагает в пищу друзьям. У Нее есть также чудесное Вино, смешанное с Водой, которое Она дает вместе с Хлебом... Пусть каждый из тех, кто мыслит так же, как и я, и понимает эти слова, помолится за Аверкия. Все сходится к одному напоминанию: нет вечной жизни вне Христа и Его таинств. Все сведено к единственному знаку, и все есть радость, т. к. воскресение из мертвых начертано на саркофагах (“терзающие плоть” побеждены). Отсутствие какого-либо искусства знаменует решающий момент в его собственной судьбе. Его вершина, еще совсем близкая, – античное искусство, – оказывается ненужным в данный момент. Оно отрекается от себя, проходит через свою собственную смерть, погружается в воды крещения и, обозначенное и записанное с помощью катакомбных надписей, выходит из крещальной купели в самом начале IV века в никогда прежде не виданной форме иконы. Это – искусство, воскресшее во Христе: ни знак, ни картина, но икона, символ божественного присутствия и видение догмата, откровение вечности.
8. Икона и литургия
Все части храма – архитектурные линии, фрески, иконы – составляют единое целое с литургическим священнодействием, и это, может быть, является самым главным, т. к. абсолютно невозможно понять икону вне этого целого. Собственно сама литургия во всем своем содержании есть икона всего домостроительства спасения.
Во время пения Херувимской: “Иже Херувимы тайно образующе (“Мы, таинственно изображая херувимов...”) и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе”, – мы вполне реально находимся в божественной литургии. Христу помогают “многоочитии” ангелы с бесчисленным множеством глаз и несметным числом шелестящих крыльев. Божественная Троица участвует в Таинстве, и люди вовлечены в него до такой степени, что становятся иконами херувимов. Литургия, совершаемая здесь, “долу”, является иконой небесной литургии, и люди представляют из себя иконы ангельского служения поклонения и молитвы. Все есть приобщение и присутствие. Каждая частичка тварного существа из глубины своего собственного существования произносит евхаристическую молитву: “Твоя от Твоих Тебе приносяще”. В этом грандиозном единстве верующий созерцает тайну Божию, видит своих старших собратьев, апостолов, мучеников, святых, как реально присутствующих, он соучаствует вместе с ними в небесном эоне; служа литургию вместе с ангелами, он воспевает Дух Красоты: “В Твоих святых иконах мы созерцаем небесные скинии и исполняемся священной радостью”.
Купол, увенчанный крестом, указывает на нашу причастность к небесному миру. Небо проникает внутрь, наполняет купол и являет Вседержителя среди ангелов божественного Присутствия. Икона, называемая “Праведники в руце Божией”, изображает этих праведников, устремленных к раскрытой деснице Вседержителя, чтобы составить там священный собор. Растения поднимаются вверх по колоннам и расцветают там райскими цветами, животные бродят у их подножья. Властным движением Божия десница направляет все вместе к сердцу литургии – к иконе “Трапеза Господня” над Царскими вратами.
В глубине центральной апсиды главное место занимает изображение Богородицы, называемое Оранта, или “Нерушимая стена”. Она, Одигитрия (Путеводительница) – это земная Церковь, которая “ведет” всех людей, чтобы соединить их в Теле Христовом. Икона смотрит на Восток. Крест, помещенный на стене алтаря, отмечает сторону, откуда придет Христос во славе, чтобы занять трон, изображенный над алтарем, – трон Судии, но также и Жениха, празднующего Свой мистический брак с невестой-Церковью. Икона “Собор” изображает собрание ангелов. Предвечный Сын в тройном кольце сфер образует абсолютный центр. Это – небесная литургия, и ангелы являют Христа-Первосвященника, чтобы для верующих “воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого” (2Кор.1:4). Космическая радость окружает Богородицу и переходит в ожидание Царства Божия. И, таким образом, в Церкви в каждый момент службы и даже вне ее все находится в ожидании святых тайн, в ожидании евхаристии. Столь сильное ощущение бесконечной жизни исходит от этих образов, устремленных к небесной литургии.
9. Божественное искусство
Все искусство заключено в жизни форм, но церковное искусство касается форм невидимого, жизни литургических форм. Икона есть чудо веры. Самая совершенная техника и смелость новых ритмов всегда волнительны, но сами по себе они остаются “человеческим материалом”, религией, связанной с человеческим, с мимолетным. Сила иконы исходит из ее содержания, она являет Духа. Иконопись приобщает нас к сверхчувственному; эмпирическая реальность бледнеет при соприкосновении с первообразами божественной мысли. Этот характер “божественного искусства” объясняет кажущуюся строгость канонов, которым она подчиняется. Они дополняют аскетическую подготовку, чтобы сформировать воображение и направить его на догматически безупречные видения. Консерватизм означает постоянство архетипов, и именно оно предполагает самую широкую свободу воображения для того, чтобы найти наилучшую форму выражения и самое богатое истолкование. “Руководство иконописцам”, сборник правил церковного искусства, спасает икону от безвкусицы и защищает ее от субъективных форм благочестия и от изменчивости ненадежного вкуса.
Архитектура имеет дело с пространством, литургическое поминание – со временем, икона – с невидимым. Таким образом, подлинное значение иконы связано с представлением “сущностей”, с откровением скрытого духовного образа. Она не является абстрактной и, будучи образом, обладает совсем не портретным сходством. Она обращается к духовному взору, чтобы мы смогли созерцать “духовные тела”, о которых говорит апостол Павел. Полностью удаляется все то, что является душевным украшением, драматическим жестом, позой или волнением. Каждая икона восходит к иконе Спасителя, называемой Спасом “ахейропойэтос” (нерукотворным), “Пресвятым Ликом”, который ангелы держат на пелене и являют людям. Это именно не портрет Иисуса, а икона, являющая Его присутствие. Точно так же событийная сторона сведена к самому необходимому для напоминания, т. к. здесь представлено ее метаисторическое значение. Мученики не держат орудий своей казни, они уже за пределами земной истории – они присутствуют в ней, но иным образом. Икона показывает в святом Божий замысел о нем. Так, по словам святого Иоанна Лествичника, отшельник являет “земной образ ангела”. Церковное искусство не развоплощает, а дематериализует сущности и являет материю прозрачной, послушной в служении духу.
Светское искусство следует оптическим законам, которые набрасывают свою сеть на предметы, соотнося их друг с другом для создания однородного видения мира вещей. Это – законы падшего мира, внешнего и разделенного. Если есть единство действия, значит имеется временная сетка, если существует единство перспективы, то существует и пространственная сетка; заранее, a priori сформированная сетка ставится между глазом и предметом. Это есть “точка зрения”, полная оптических иллюзий, полезная для повседневной жизни, но это – не полный взгляд и не соединение всех точек зрения. Самый удивительный обман заключается в создании глубины картины при помощи видимой игры линий, которые сближаются при удалении от зрителя в направлении совершенно искусственной глубины. Кубизм и современное искусство пытаются освободиться от этих законов; но их анализ разрушает и располагает одно возле другого, а не перестраивает. Иконописцы не отвергают ничего из “технических приемов”, но никогда не делают их условием своего собственного искусства. Такое искусство совершенно безразлично к материальной реальности, – такой, как она представляется обычному зрению, оно сообщает зрителю свои собственные принципы и учит его истинному видению. Это – целая законченная наука, которая позволяет ощутить, почти “осязать” мир “умопостижимого”. Таким образом, отношения между реальными размерами существ и предметов совсем не входят в икону, т. к. она не изображает природу, а набрасывает ее схематический контур и показывает ее отраженной во внутреннем мире при ее подчиненности человеческому духу. Она совершенно свободно обращается с пространством и временем и оставляет далеко позади себя все дерзания абстрактных художников. Все развертывается вне пространства-тюрьмы, расположение лиц и их величина определяются духовными очами, в соответствии с их собственным и независимым значением. Плоская фактура дает возможность расположить каждую часть сообразно ей самой при сохранении ритма, присущего композиции.
Есть иконы с обратной перспективой, где линии сходятся к зрителю, создавая впечатление, будто персонажи выходят из иконы и движутся ему навстречу. Вместо зрения телесными глазами, где зрителю противостоит “точка схода” перспективы падшего пространства, здесь присутствует видение оком сердца духовного пространства, которое расширяется в бесконечность (в благую бесконечность, которая расширяет, а не в дурную бесконечность точки схода, которая замыкает). Обратная перспектива как раз берет за исходную точку сердце того, кто созерцает икону. Тяжесть и объем исчезают, и золотистые линии, пронизывающие все, словно лучи энергии, ведущей к обожению, одухотворяют тела. Homo terrenus (человек земной) становится homo caelestis (человеком небесным), легким, подвижным и окрыленным. Тела словно вплавлены в эфирное золото божественного света. Золотой фон заменяет пространство трех измерений. Однако свобода составлять любую фигуру независимо от других придает чудесную гибкость в подчинении всего центру композиции. В храме тела следуют линиям сводов и претерпевают изменения, по необходимости удлиняясь и устремляясь к центральной точке. Именно кафоличность соединяет и организует все в единое собрание.
Отсутствие привычных форм удивительно приближает духовное измерение, истинную глубину духа. Тело намечено лишь слегка, о нем скорее можно догадаться по одеяниям, образующим строгие складки. Их почти прямолинейная сухость не привлекает внимание на анатомию, а направляет взгляд на внутреннее. Кроме того, все определяется ликом. Иконописец начинает с головы, – именно она задает размер и положение тела и определяет остальную часть композиции. Даже космические элементы принимают человеческий образ, т. к. человек является космическим словом. Очень большие глаза с неподвижным взглядом созерцают горнее. Тонкие губы лишены всякой чувственности (напоминающей о страстях и еде), они нужны для того, чтобы воспевать хвалу, причащаться и давать целование мира. Нос представлен всего лишь очень тонкой кривой, лоб – большой и высокий, при этом его легкое искажение подчеркивает элемент преобладания созерцательности в мышлении. Темный цвет ликов устраняет всякую реалистичность и чувственность. Фронтальное расположение не отвлекает внимание на душевный драматизм позы и жеста. Профиль прекращает общение, быстро приводя к отсутствию, расположение же лицом к лицу погружает взгляд в глаза зрителя и немедленно соединяет в общении. Неподвижность тел, которая никогда не является статической, сосредоточивает весь динамизм во взгляде лика. Любое проявление беспокойства, заботы, лихорадочности жестикуляций исчезает перед внутренним миром. Напротив, грешники и бесы показаны в профиль и проявляют крайнюю степень суетности – неспособности к созерцанию. Пейзаж намечен с помощью геометрических форм самым кратким образом. Будучи скорее подразумеваемым в качестве космического присутствия, он является фоном, на котором выделяется человек-pneuma (дух). Растения и здания сами по себе не обладают ценностью, но оттеняют положение тел и служат символике композиции.
Цвета никогда не бывают ни тусклыми, ни темными. За исключением некоторых (золото, пурпур, голубая лазурь и т.п.), они могут меняться, следуя контурам и их теме. Они поражают, становятся звучными и удивляют своей радостной насыщенностью. Бледно-голубой, ярко-красный, светло-зеленый, фисташковый, ультрамариновый, пурпурный и алый тона образуют множество оттенков, которые перекликаются друг с другом и в бесконечной игре цветов отражают божественный свет. Преображение струится золотом, но там, где человеческая природа Христа выдвинута на первый план, Его кенозис обозначен другими цветами. Существует целая наука света. Нет места ни светотени, ни возникновению рельефности за счет теней, т. к. в мире иконы солнце не заходит, здесь царит день без сумерек, или сияющий полдень воплощения без теней и без мрака. Любой оттенок служит единственно цветовому контрасту, а не созданию иллюзии определенного освещения или взгляда с какой-либо точки. Так, мазками различной плотности художник отделяет главное от второстепенного. В целом он следует методу постепенного “высветления”, направленного от темного к светлому. Источник света отсутствует, т. к. свет находится внутри иконы и она сама освещает все детали своей собственной композиции.
Внешняя неподвижность фигур очень парадоксальна, т. к. именно она создает сильное впечатление того, что внутри все находится в движении: “Продвигаемся, потому что остановились”, “колодец воды живой”, “неподвижное движение”, – икона замечательно иллюстрирует эти парадоксы мистического языка и бессилие всякого описания. Материальный план представляется сосредоточенным в ожидании вести, и только взгляд передает все напряжение жизненных энергий.
“Божественное искусство” предполагает благодать, пророческую харизму:
Знающим о пророческих видениях то, что Само Божество начертало их и запечатлело, и принимающим их и верящим в то, что увидев, поведал пророческий лик, и держащимся Апостольского предания, перешедшего к Отцам, как писаного так и неписаного, и по этой причине изображающим и почитающим Святое – вечная память. 10. Современное искусство и актуальность иконы
Современный кризис религиозного искусства является не эстетическим, а религиозным. От королевского портала Шартра до Микеланджело, от иконы Рублева до русских школ итальянского письма XVII века можно констатировать нарастающую утрату чувства священного. Священное переходит в эстетически “прекрасное”, религиозная сущность отступает на второй план перед повествовательным, событийным элементом, перед приятным на вид, перед портретным сходством и усложненностью. За неимением священного появляются произведения искусства на религиозный сюжет.
Существует также интеллектуальное иконоборчество, которое делает из Библии Коран. Это – кризис роста, чувствительность, находящаяся еще в поисках своего равновесия. Апофатизмт – отрицание всякой формы выражения – ничего не значит, если он не уравновешивается катафатической, положительной формой, которая тогда приобретает истинный смысл. Психологические и социологические теории искусства объясняют в нем только то, что не связано с художеством. С другой стороны, всякое подчинение воспитательной роли губительно, и ведет к помпезному реализму советского искусства. Речь идет о том, чтобы понимать не человеческие истоки творчества, но то, почему оно является чудом, почему оно не выводимо из своих материальных предпосылок, которые являются лишь “останками случайного” в завершенном произведении. Ибо имеется внутренняя конечная цель и ее таинственное рождение.
Феноменологический метод очень успешно избегает субъективности эмоций, которые никоим образом не могут стать мерой прекрасного. Действительно, искусство являет “сущности”, вводит в них и тем самым являет человека ему самому и осуществляет его, пробуждая в нем неинтеллектуальное a priori. Реальность никогда не является представляемо-имитируемой, но выражаемой. Так, искусство несет в себе свою собственную выразительную правду. В музыке нет ни понятий, ни изображения, и, однако, ее мир поразительно правдив. Теперь приходится усомниться в утверждении Гегеля о смерти искусства перед лицом мысли. Как раз напротив, искусство идет дальше, чем мысль; можно даже сказать, что в вечном конфликте между философией истины и философией добра искусство осуществляет уникальный синтез. Окольным путем, несмотря на боязнь платонизма, возвращается метафизика: уже признается, что произведение искусства не имеет, а само является метафизическим смыслом. Феноменологический метод в искусстве приводит к метафизике в действии, к красоте. Все сильнее и сильнее утверждается “чистая учредительная деятельность” через участие искусства в трансцендентном существовании. При этом говорят о “сверхэкзистенциальной ауре”, которая его окружает. Сюрреалисты – поэты и художники – изобретают мир, лишая этот объективный мир реальности, но именно для того, чтобы признать как очевидность существование другого эона за пределами этого мира. Таким образом, искусство должно привести к жажде трансцендентного, к его предчувствию, к его ожиданию – и при этом эрос останавливается на его пороге. Нужно еще что-то для того, чтобы оно явилось. Здесь искусство превзойдено искусством.
Однако сегодня нужно еще провести различие между формой и бесформенным, между эфемерными фантазиями и формированием священного стиля атеизма... “Активное небытие” экзистенциализма оказывает свою идеологическую поддержку. Искусство внешне освобождается от всякого “канона” и стремится к высокому званию “теургического”, – в смысле магических заклинательных сил и ложных трансценденций (ложных метафизических слоев). С этим связана мода на негритянские маски и мексиканская магия крови, упоительная власть мескалина, оккультная и масонская символика антицеркви; композиции, навеянные железобетоном, атомом и ракетами, пластические образы, отражающие чистую скорость, скульптуры из железной проволоки. Мощное давление факторов, определяющих “липкую и удушливую” вселенную, отбрасывает к хрупким убежищам и неоправданным алиби. Огромная тоска в сердце замкнутого существования изливается в современном танце, как в одержимом дьяволом марше, который никуда не ведет.
Ложные миражи отринуты, но обвинитель удаляется с чувством своей собственной призрачности – как “Виновный судья” Камю... Ясность разорванного сознания, или “оптимистическая твердость”, открывает лишь бесконечное одиночество, для которого любой взгляд другого является помехой и ограничением. Оно рождается в онтологическом разрыве между этим миром, ускользающим от всякого взгляда, и библейским миром, находящимся под взором Божьим. “Светильник тела есть око... если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?” (Лк.13:34–35). В этом заключена вся философия искусства. Глаз не только схватывает, он излучает и освещает. Это – страшная свобода каждого художника преобразовывать мир по своему образу, проецировать на него опустошенный пейзаж, мрак своей собственной души, навязывать другим видение огромного отхожего места, в котором копошатся безобразные чудовища.
Последние художественные выставки показывают, что искусные разложения Пикассо или манерные игры Сальвадора Дали превзойдены и кажутся уже архаичными и вышедшими из моды, т. к. современные формы долго не живут. Современное искусство – это ритм чистых форм и цветов без всякого содержания. Так, живопись сближается с современной музыкой без мелодии, означающей только опустошенность (ср. с “конкретной” музыкой). Искусство, лишенное содержания, умственное по своему существу, упивается неистощимым фонтаном имманентных форм без символа и знака, – и вследствие этого неизбежно пустых. Подлинное искусство выражает невыразимое иным способом, оно всегда есть связь, откровение и присутствие. Сводить его к новому языку без корней в прошлом – эсперанто в живописи, – без насыщенной смыслом культуры, без слова, – это значит превращать его в чистое звучание, в развлечение. Или же это – крик ужаса, который становится ложным вследствие самого выражения, т. к. стремление эстетически выразить ужас есть бессмыслица. Чем более пуста чистая форма, тем она бесконечнее в своих комбинациях. Напротив, как только она призвана сказать “что”, единственная форма совпадает со своим содержанием до такой степени, что она предвосхищает и передает его суть в самой своей структуре, придавая ему то подобающее обличье, которое называется красотой. Отсутствие мелодии в музыке, человеческого сюжета в искусстве, разрушение границ, безграничность выражений демонстрируют ужасную узость, ограниченность души; это – проявление во внешнем невыносимого внутреннего убожества. Безграничность в границах замкнутого мира ни за какие пределы в действительности не выходит. Это искусство “закрытых дверей”, арабески, которые даже не обладают свойственным исламу величием передачи страшной трансцендентности Бога. В противоположность этому, безграничность Бога принимает очень определенную форму в воплощении – ограниченность человеческими формами. Торжественность святых, их почти одеревенелая неподвижность и их внешняя ограниченность выражают истинную безграничность их духа. “От образа Христова мы возводим очи нашего духа к безграничному образу Бога”. “Естеством неописанный Божественным Твоим сый, на последняя Владыко воплошься, изволил еси описоватися; плоти бо приятием, и свойства вся сея взял еси” (Служба первой недели Великого поста). В этой трансцендентности-имманентности присутствует Бог; но и все человеческое также присутствует в ней.
Современное искусство, однако, весьма показательно как явление. Его титанизм в рост человека принес свободу от всех предрассудков, он разрушил страхи последних веков, и в этом заключена его освежающая сила. Он также убил дурной вкус XIX века. Внешняя форма побеждена. Но здесь, совсем как во времена катакомб, искусство касается своего имманентного предела, и вследствие внутренней диалектики неизбежно становится перед решающим выбором, не между жизнью и смертью, а между “жить, чтобы умереть” или “умереть, чтобы жить”. Никакая эволюция здесь невозможна, т. к. ключ от секрета связей потерян, и разрыв между трансцендентным церковным и “имманентным религиозным” настолько радикален, что не позволяет просто эволюционировать из одного плана в другой. Доступ к внутренней, эонической форме преграждает ангел с пламенным мечом. Надо пройти через крещение – а это смерть, – чтобы воскреснуть в свете, уже не в евангельском, земном, кенотическом, а в апокалиптическом сиянии человеческого лика Бога, уже более не являющегося ликом кроткого Иисуса, но страшным и сияющим человеческим образом Троичного Бога.
Усложняет положение искусства то, что сама иконопись еще не вышла из своего собственного кризиса четырехкратной секуляризации. После нового открытия иконы в конце XIX века искусство “копиистов” остановило его на мертвой точке, сделало из иконописи окаменелое искусство, не имеющее будущего. Современный иконописец должен знать все технические приемы, соответствующие его эпохе, и именно изнутри своего времени он должен созерцать “совсем иное”. “Быть в положении” иконописца сегодня требует интуитивного проникновения в новый тип святости, в единство, излучающее безграничное сострадание в меру благоутробия Христова и приобщения к “братству распятых”. Из харизматического вдохновения и из пророчеств последних времен должно возникнуть совершенно новое эсхатологическое истолкование судьбы. Царь пришел, но Его Царствие должно прийти, и в этом состоит последняя тайна “пшеничного зерна”: переход мира к его внутренней, царственной форме. Его возрождение заключается ни в технической современности, ни исключительно в прошлом, но, главным образом, в грядущей славе. Новая икона обретет свои истоки и замкнет этот священный круг на Евангелии славы Второго пришествия.
Литургия указывает нам сегодня еще более, чем в прошлом, что искусство распадается не потому, что оно является детищем своего века и оно грешно, но потому, что оно является демоническим в своем отречении от своих священнических функций, в своем люциферианском отказе совершить таинство, – осуществить искусство в богоявлении. В этом состоит служение Утешителя: в самой глубине смертной тьмы, посреди кладбищ попранных надежд, установить икону – ангела присутствия. Человек и Дух смотрят в одном и том же направлении, к “Востоку, нисходящему с неба”. Человеку, “работнику последнего часа”, предстоит понять свое призвание “священника и пророка небесных тайн”, как прекрасно говорил святой Макарий Египетский.
Для того, чтобы прочувствовать богатство иконософского видения и понять, каким образом икона является словом в красках, мы даем очень краткий комментарий к знаменитой иконе Святой Троицы Рублева.
11. Толкование “Троицы” Рублева
1. В 1515 г. московский Успенский собор был украшен великолепными иконами, написанными учениками великого мастера Рублева. Когда митрополит, епископы и верующие вошли в Церковь, все единодушно воскликнули: “Воистину разверзлись небеса и явилось величие Божие”. Легко понять это чувство перед иконой Святой Троицы, иконой икон, созданной монахом Андреем Рублевым в 1425 г. Примерно полтора века спустя Стоглавый собор провозглашает ее образцом иконописи и всех изображений Пресвятой Троицы. В 1904 г. реставрационная комиссия снимает металлические оклады, и после работ по освобождению от позднейших наслоений икона предстает в таком блеске, что члены комиссии были буквально потрясены. Можно с уверенностью сказать, что нигде не существует ничего подобного по мощи богословского синтеза, по богатству символики и по несравнимой художественной красоте.
2. Можно различить три наложенных друг на друга плана. На первом месте стоит воспоминание из библейского рассказа о посещении тремя странниками Авраама (Быт.13:1–15). Литургическое толкование говорит: “Блаженный Аврааме, ты видел Их, ты принял Божество единое и троичное”. И уже отсутствие изображений Авраама и Сары призывает нас проникнуть еще глубже и перейти ко второму плану, плану “божественного домостроительства”. Трое небесных странников образуют “Предвечный совет”, и пейзаж изменяет значение: шатер Авраама становится дворцом-храмом; дуб Мамврийский – древом жизни; космос – схематическим срезом природы, легким знаком ее присутствия. И телец на блюде уступает место евхаристической чаше. Трое ангелов, легких и стройных, имеют чересчур удлиненные тела (в четырнадцать раз больше головы, а не в семь, как при нормальной пропорции). Крылья ангелов, так же, как и схематическая манера трактовки пейзажа, передают непосредственное впечатление чего-то нематериального, отсутствия какой-либо земной тяжести. Обратная перспектива упраздняет расстояние, глубину, где все исчезает вдали, и за счет противоположного эффекта приближает фигуры, показывая, что Бог присутствует здесь и что Он – повсюду. Живая легкость ансамбля – секрет гения Рублева – создает окрыленное видение.
Трое ведут беседу – ее темой, должно быть, являются слова из Евангелия от Иоанна: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного”. Но слово Божие всегда есть действие – и оно принимает очертание чаши.
О третьем внутрибожественном плане можно только догадываться, поскольку он является трансцендентным и недоступным. Тем не менее он присутствует в силу того, что домостроительство спасения проистекает из внутренней жизни Бога.
3. Бог есть любовь сам в себе, в Своей троичной сущности, и Его любовь к миру является только отражением Его троичной любви. Самопожертвование, являющееся вовсе не лишением, а выражением преизбыточествующей любви, представлено в виде чаши; и ангелы собираются вокруг божественной трапезы. Последние работы раскрыли содержание чаши. Позднейший слой, изображавший виноградную гроздь, скрывал первоначальное изображение: агнца, который соотносит небесную Трапезу со словами из Апокалипсиса: Агнец, закланный от создания мира. Любовь, жертва, заклание предшествуют акту творения мира, лежат в его истоке. Трое ангелов пребывают в состоянии покоя, это – высший мир существа в самом себе, и этот покой является “опьяняющим” – это есть подлинный экстаз, “уход в себя самого”. Настоящий парадокс заключается уже в этом экстазе, который пребывает в своей собственной глубине. Святой Григорий Нисский хорошо раскрывает его тайну: “Самое парадоксальное из всех вещей – это то, что покой и движение – одно и то же”.
Движение исходит от левой ноги правого ангела, продолжается в наклоне его головы, переходит к среднему ангелу, – неудержимо увлекая за собой космос: скалу и дерево – и завершается в вертикальном положении левого Ангела, в котором входит в покой, словно обретя пристанище. Наряду с этим круговым движением, завершенность которого управляет всем остальным, как вечность управляет временем, вертикаль храма и жезлов демонстрирует стремление земного к небесному – туда, где порыв находит свою конечную цель.
4. Это видение Бога сияет запредельной истиной догмата. Рублевское изображение ангелов выявляет их единство и равенство, и можно было бы принять одного ангела за другого, при этом различие вытекает из расположения каждого по отношению к другим, – однако здесь нет ни повторения, ни смешения. Сияющее золото на иконах всегда обозначает божественность, ее избыток; крылья ангелов обнимают, покрывают все своим размахом, и внутренние контуры крыльев нежно-голубого цвета подчеркивают единство и небесный характер единой природы. Один Бог и три совершенно равных Лица, что выражается одинаковыми жезлами, знаками царской власти, которой обладает каждый ангел. Божественный образ троичного единства смотрит на нас, преодолевая наши разделения и наши раздоры. Эта икона является властным призывом, который действует, исходя из одной своей реальности и через свое простое существование. 5. Геометрическими формами композиции являются прямоугольник, крест, треугольник и круг. Они задают структуру образа изнутри, и их нужно заметить. По представлениям этой эпохи, земля была восьмиугольной, и прямоугольник есть священный знак земли, который мы видим на нижней части стола. Верхняя часть стола также прямоугольна; в этом мы находим обозначение четырех сторон света или четырех основных точек, которые у святых отцов своим числом символизировали четыре Евангелия в их полноте, к которой нельзя ничего прибавить, от которой нельзя ничего отнять, это – знак универсальности Слова. Эта верхняя часть стола-алтаря представляет Библию, приносящую чашу, плод Слова. Если продолжить линию древа жизни (расположенного за центральным ангелом), то видно, как оно спускается, пересекает стол и погружает свои корни в прямоугольник земли, ведь оно возвещено Словом и питается содержимым чаши. Здесь мы находим объяснение его тайны: почему древо несло на себе плоды вечной жизни и почему оно было древом жизни. В Навечерие Рождества мы слышим: “Пламенное оружие плещи дает и Херувим отступает от древа жизни”, т. к. его плоды даны в евхаристии. Руки ангелов сходятся к знаку земли, который является точкой приложения божественной Любви. Мир находится вне Бога, как существо другой природы, но он включен в священный круг “причастия Отцу”, он следует круговому движению, оказываясь наверху, на небе, в облике скалы, и это круговое движение завершается для мира во дворце-храме. Этот храм является как бы продолжением Ангела-Христа, Его воплощения. Он является Его космическим телом, Церковью, невестой Агнца, соединенной с Ним “неслиянно и нераздельно”. Храм пребывает в неподвижности покоя Великой субботы – цели троичного движения. Цикл космической литургии замкнут. Это – эсхатологическое видение Нового Иерусалима. Позолоченная часть храма, которая выдвигается вперед словно сила заступничества, символизирует материнское заступничество Богородицы и священства святых, она изображает омофор Пресвятой Девы, Покров.
Именно из древа жизни, согласно преданию, был взят материал для креста Христова. И его фигура является незримым, но совершенно очевидным основанием композиции. Нимб, светящийся круг Отца, чаша и знак земли находятся на одной и той же вертикальной линии, разделяющей икону пополам и пересекающейся с горизонтальной линией, которая соединяет светящиеся круги боковых ангелов, и образует крест. Таким образом, крест вписан в священный круг божественной жизни, являясь живой осью троичной любви. “Отец есть любовь распинающая, Сын есть любовь распинаемая, Святой Дух есть крест любви, его непобедимая сила” (см. у свт. Филарета Московского – Прим. перев.). Движение обходит перекладины креста, и они, словно распростертые руки Христа, обнимают вселенную: “И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе” (Ин.13:32). Сын и Святой Дух – две руки Отца. Если соединить крайние точки стола с точкой, которая находится прямо над головой среднего ангела, то видно, что ангелы расположены в точности внутри равностороннего треугольника. Он означает единство и равенство Троицы, где вершиной является πηγαία Θεότης (неточное Божество, Божество-источник – Прим. перев.). Отец. И, наконец, линия, которую можно провести, следуя внешним контурам трех ангелов, образует идеальный круг, обозначающий божественную вечность. Центр этого круга находится в руке Отца, Вседержителя.
6. В позе Отца есть что-то монументальное, от Него исходит величественный мир и неподвижность, чистое действие, завершенность, статический принцип вечности. В то же время, в самом поразительном контрасте, вздымающаяся волна движения правой руки, ее мощная кривая, которая соответствует такой же силе наклона шеи и головы, выражает динамический принцип. Неизреченное в тайне Божией заключено в этом соединении неподвижности и движения, соединении Абсолюта философов, чистого Акта богословов и Бога живого Библии, “Отца нашего, сущего на небесех”. Божественное могущество, как его исповедует наш Символ веры (“Верую во единого Бога Отца Вседержителя”) есть отеческое могущество любви Отца, отраженное во взоре среднего ангела. Он есть Любовь, и именно поэтому Он может явить себя только в единстве, и может быть познан лишь как единство. “Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня” (Ин.13:6), и с другой стороны: “Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец” (Ин.1:44). Это вовсе не евангельская узость или исключительность, но самое потрясающее откровение самой природы любви. Невозможно обладать никаким знанием о Боге вне связи между человеком и Богом, и эта связь всегда троичная и приобщает к единству общения между Отцом и Сыном. Это дает понять, почему Отец никогда не являет себя непосредственно. Он есть Источник, и именно поэтому Он есть Безмолвие. Он являет себя вечно, но именно двуединство Сына и Святого Духа являет Его. Икона изображает это согласие, живым средоточием которого является чаша.
Линии с правой стороны от центрального ангела усиливаются по мере того, как они приближаются к левому ангелу. На символическом языке линий выпуклые кривые всегда означают выражение, речь, перемещение, откровение; и, напротив, вогнутые линии означают послушание, внимание, самоотречение, восприимчивость. Отец обращен к Своему Сыну. Он говорит. Движение, которое охватывает Его существо, есть экстаз. И Он целиком выражается в Сыне: “Отец во Мне... Все, что имеет Отец, есть Мое” (Ин.13:15).
7. Сын слушает, параболические линии Его одежды выражают высшую степень внимания, самоотречение. Он также отказывается от себя, чтобы быть только Словом Своего Отца: “Слова, которые говорю Я вам, Я говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела”. Его правая рука воспроизводит жест Отца: благословение. Два перста, выделяющиеся на белизне стола-Библии, возвещают путь спасительного соединения во Христе двух природ, введение человеческого мира в общение с Отцом. 8. Опущенная рука правого ангела указывает направление благословения – мир; она словно покрывает, защищает, “почиет” (по выражению библейского рассказа о творении). Над прямоугольником мира эта рука – словно распростертые крылья чистой голубицы. В мягкости линий ангела справа есть что-то материнское. Он является Утешителем, но Он также является и Духом, Духом Жизни. Он есть Тот, кто дает жизнь, и из которого происходит всякая жизнь. Он есть третий член божественной любви, Дух Любви. Его положение несколько отличается от положения двух других ангелов. Своим наклоном и порывом всего своего существа Он становится посреди Отца и Сына, Он есть Дух единства и взаимопроникновения. Это ясно продемонстрировано тем замечательным фактом, что движение начинается от Него. Именно в Его дуновении Отец переходит в Своего Сына, Сын принимает Своего Отца, и Слово звучит. Как говорит святой Иоанн Дамаскин, “через Святого Духа мы познаем Христа, Сына Божия, и через Сына мы созерцаем Отца”. Так, во время Богоявления именно в движении голубя Отец обращается к Сыну.
9. Краски в иконописи обладают своим собственным языком. У Рублева они достигают несравненного богатства, полного музыкального созвучия всей гаммы самых тонких оттенков, которые звучат во всех деталях композиции. Однако здесь нет эффекта многокрасочности, ничто не нарушает глубину божественной сосредоточенности. Тень отсутствует, и каждый фрагмент не освещен, а излучает свой собственный свет, который струится из тайных корней. Насыщенность красок центральной фигуры контрастирует с белизной стола и отражается в шелковистых переливах ангелов, находящихся по сторонам от него. Темный пурпур (божественная любовь) и насыщенный голубой (небесная истина) со сверкающим золотом крыльев (божественное изобилие) образуют совершенное созвучие, которое продолжается и повторяется со смягченной тональностью, словно оттененное откровение или постепенное приобщение: слегка розовый и сиреневый слева, более мягкий голубой и серебристо-зеленый справа. Золото сидений божественного подножия говорит об изобилии троичной жизни. Голубой, называемый “рублевским голубцом”, передает цвет неба Троицы и рая, становясь все более и более светлым, – он словно небесный свет самой иконы. Таким образом, Отец, неприступный в насыщенности Своих красок, во мраке Своего света, открывается смягченным, доступным в сияющем облаке Сына и Святого Духа. Издали эта композиция производит впечатление красно-голубого пламени. Все пламенеет в яркой южной атмосфере: “Тот, кто близок ко Мне, близок к огню”.
Рука Отца заключает в себе начало и конец, она распростерта над чашей. Агнец, закланный от создания мира, и Агнец-Храм Нового Иерусалима, Тайная вечеря Христа и Его обетование пить от плода виноградного в Царстве Отца включают время в вечность. Чаша сияет в яркой белизне Слова, которое отражает в себе все краски Истины, это – излучение божественного сердца, взаимный дар трех божественных Лиц.
10. Мощный призыв слышится от иконы: “Да будут едино, как Мы едино” (Ин.13:22). Человек создан по образу троичного Бога, и в самой его природе вписана Церковь-общение как его предельная истина. Все люди призваны соединиться вокруг единой чаши, вознестись на высоту сердца Божьего и приобщиться мессианской Трапезе, стать единым храмом-агнцем. “Сия же есть жизнь вечная (Дух Святой), да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. Видение завершается в этой эсхатологической тональности: оно предвосхищает Царство Небесное, все озаренное нездешним светом, все озаренное чистой и бескорыстной радостью, радостью божественной, просто потому, что Троица существует, что мы любимы и что все благодатно. Душа в изумлении замолкает. Мистики никогда не говорят о вершинах, одно лишь молчание открывает их внутренний свет.
Глава III. БОГОСЛУЖЕНИЕ
1. ВведениеЕсли православные Церкви так полны света, тепла, уюта, то это потому, что каждая пядь церковных стен оживлена и представляет небо, приводя человека к общению со своими старшими собратьями: ангелами, пророками, апостолами, мучениками и святыми, – человек воистину посещает Бога и небо. Через икону, богослужение, обряды, которые совершенно естественным образом входят в подробности повседневной жизни, Библия становится удивительно живой, а небо – совсем близким, родным, почти осязаемым. Это своего рода “теоматериализм”, видение природы в Боге, которое делает каждую вещь прозрачной, позволяя ощутить незримое божественное присутствие. Долгое соприкосновение с этим присутствием порождает неутолимое стремление к чистому и абсолютному; горящие свечи передают огонь веры, а жития святых, воспеваемых в песнопениях и изображенных на иконах, учат, что божественные призывы, содержащиеся в святых Евангелиях, вполне осуществимы и обращены ко всем.
В органической непрерывности разных планов облако фимиама продолжает движение воздетых рук священника, который “собирает” вселенский порыв душ к приобщению Богу. Таким же образом и благословение крестом четырех концов света склоняет весь материальный мир под освящающую энергию благодати. На православной вечерне благословение хлеба, пшеницы, вина и елея освящает плодородное начало земли и учит человека тому, что земля, которую он обрабатывает, свята, и что плоды, которые он извлекает из недр почвы, являются не только химическими соединениями, но и живым даром, который участвует в евхаристической тайне, и что даже плодородие земли непосредственно связано не только с удобрениями и сезонами, но также и с духовностью человека.
Преломляя хлеб, человек читает молитву благословения: принятие пищи всегда является напоминанием о евхаристической тайне. Соприкасаясь с духом, материя становится мягкой и податливой; из ее инертной, тяжелой массы исходит красота, вся запечатленная знамениями и трепещущая жизнью. Человек призван извлечь из вещей самую прекрасную из молитв: храм. “Се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершенна дориносится. Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем.”
2. Литургическая молитва, тип молитвы
Слово “литургия” означает “общее дело”: λειτουρία = ἔργον του λαου . Если индивидуальная молитва исходит из потребностей данного момента, то литургическая молитва проистекает всегда из целостности истины, преодолевает любые частности и сентиментальные излишества и формирует соборное сознание. Полная здоровых переживаний и глубокой эмоциональной жизни, она отсеивает любое субъективное вдохновение и устанавливает свою законченную форму, ставшую совершенной за многие столетия ее жизни в благодати.
Литургия учит истинным отношениям между человеком и общиной, между членом и телом: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”. В литургических службах эти слова выделяются как пережитые, они помогают нам отрешиться от самих себя, сделать своею молитву всего человечества. Рядом с нашими судьбами оказываются все человеческие судьбы. Ектении, словно могучие волны, увлекают верующих за пределы самих себя и семейного круга к собравшимся вместе, затем к отсутствующим, – к тем, кто путешествует и подвергается опасности на земле, на море и в воздухе, к страждущим, к одержимым недугом и умирающим. Затем молитва объемлет тех, в чьих руках порядок и власть, город и страну, нации и народы, наконец, все человечество в целом; она испрашивает изобилие плодов земных и мирные времена. Молитва завершается призванием мира всего мира и всеобщего единения.
Именно в этом согласии человек, обновленный и возрожденный этим милосердным динамизмом, обретает свою собственную правду и подлинную суть вещей. Одиночество разрушено, и даже природа, погруженная в ожидание своего освобождения, расцветает в космической литургии: “Деревья, травы, птицы, земля, море, воздух, свет, – все они мне говорили, что существуют для человека, что они свидетельствуют о любви Божией к человеку, все молились, все воспевало Славу Божию”.
Так литургия дает возможность пережить евангельскую истину, говорящую о том, что спасение только одной души, в забвении о других, оказывается невозможным. Литургическое местоимение, “я”, никогда не стоит в единственном числе. Священнику не дозволено совершать литургию одному, требуется, по крайней мере, чтобы присутствовал второй человек, и в его лице – весь мир. Таким образом, литургическая молитва выступает в качестве канона, меры всякой молитвы. Святые отцы говорили просто “молитва”, подразумевая при этом евхаристическую литургию.
Собрание священнослужителей и верных образует единое литургическое тело, в котором каждый выполняет свою собственную функцию. И это человеческое единство объясняет, почему православие никогда не допускало употребления в Церкви музыкальных инструментов и использования звуков без слов: потому что оно справедливо полагает, что только один человеческий голос может достойно отвечать на Слово Божие и что “хор”, поющий единым сердцем, является наиболее соответствующим выражением Тела, единого с хором ангелов.
3. Материя литургии
Вся совокупность литургических служб составлена из отрывков из Священного Писания, их парафраз и комментариев к ним. В дополнение к псалмам и чтениям из Ветхого Завета Новый Завет прочитывается весь целиком в течение года согласно установленному порядку. Кроме того, в службу включаются ектении и различные песнопения и священные молитвы, имеющие историческое и догматическое содержание.
Центром суточного круга является евхаристическое богослужение, и он подготавливает ее; это – часы, вечерня, повечерие, полунощница, утреня. Годовой круг следует за всеми событиями жизни Господа. Седмичный круг вводит в дневные службы специальные моменты воспоминания: в среду и пятницу – страстей и смерти Господа; в понедельник – небесных, ангельских сил; во вторник – святого Иоанна Крестителя; в четверг – апостолов; в субботу – Богородицы. Книга, называемая Типикон, устанавливает порядок подвижных частей каждой службы. Вся совокупность служб образует настоящее литургическое богословие, ни с чем не сравнимое по своему богатству. Здесь мы находим все самое жизненное и самое ясное из учения святых отцов. Нас сразу захватывает это уверенное, чудесно составленное движение, которое охватывает все части откровения и отвечает на все запросы духовной жизни. Лирический и эмоциональный элемент привит к учительному началу, в котором любое индивидуалистическое, раскольническое стремление постоянно сглаживается, и истина предстает в равновесии всех своих элементов.
4. Вечное и временное
История развертывается во времени и остается в памяти. Эта способность становиться выше раздробленности времени лежит в основе литургического “воспоминания”, но его тайна идет гораздо дальше. Во время литургии, ее священной силой, мы переносимся в точку, где вечность пересекается со временем, и в этой точке мы становимся действительными современниками библейских событий от событий книги Бытия до Второго пришествия; мы переживаем их конкретно, как их очевидцы. Во время литургии, когда мы слышим: “Сие есть Тело Мое”, – это слова Самого Христа, звучащие через века. Речь идет вовсе не о человеческом повторении, но о том, что через литургическую современность мы приобщаемся, выходя за пределы времени, к пребывающему раз и навсегда для всех, и тогда служба приобретает значение божественной жизни, местом которой становится храм. Христиане первых веков, со столь свойственным этой эпохе реализмом, естественным образом созерцали невидимый мир, храм, преисполненный горним: “Ныне силы небесные с нами невидимо служат”. Они видели множество ангелов, а в совершающем службу – олицетворенного Христа. Тогда становится понятным этот священный трепет, это бесконечное благоговение, это мощное ощущение того, что “место сие свято есть”, драгоценное предание, передаваемое из поколения в поколение со времени начала христианства.
Когда открываются Царские врата, Царство Божие уже посреди нас. Небо нисходит на землю, и человек соединяется с ангельским хором, чтобы достойно встретить грядущего: “Царь бо царствующих приходит”.
Во время рождественской службы мы не вспоминаем о рождестве, но в действительности присутствуем при этом событии – Христос рождается перед нами; а в Пасхальную ночь воскресение происходит на глазах у верующих, и это сообщает им апостольское достоинство очевидцев. Также и чтение Евангелия во время службы приобретает силу самого события.
5. Драматическое действо
Литургия является мистерией (таинством), которая развертывается на священной сцене храма и вовлекает в свое действо собрание верных. Это – диалогическая драма, руководимая священником в сослужении дьякона, вестника, или глашатая, и χορός, хора верных. В этой “общественной службе”, или “общем деле”, народ приносит свою жертву Богу, и Бог освящает ее Своей благодатью и Своим присутствием. Подвижная перегородка, образуемая вратами иконостаса, устанавливает различные степени доступа к небесному. Находясь между алтарем и нефом, дьякон, словно ангел-вестник, возвещает о том, что готовится, и управляет общим действом, он начинает литургический диалог, управляет общими молитвами и устанавливает образ действия всех и каждого в отдельности.
Весьма утонченное психологическое и эстетическое чувство согласуется с небесным содержанием, так что они находятся в том же музыкальном ключе. Например, песнопение “Свят, Свят, Свят” отмечает момент, когда народ соединяется с ангельским хором и воспевает гимн, который был ему дан откровением. Если и встречаются повторения других песнопений (например, “Трисвятого”), то это относится к гимну, уникальному по своей широте, и более не встречается. Также можно отметить умеренность, требуемую литургией. Текст из Даниила (Дан.1:41) (“И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем лица Твоего”) регулируется чудесной строгостью стиля и становится “῎Ανω σχω μεν τὰς καρδίας”, Sursum corda, Горé имеи́м сердца. Действие сосредоточивается вокруг “входов” (“Малого” и “Великого” во время литургии) и таким образом усиливает внимание и степень участия. Тексты (2Цар.1:24; 3Цар.1:7; Деян.13:24; Лк.13:24) ссылаются на важность, которую всегда придавали входам. Тот, кто умеет “достойно” входить и выходить, способен держать в своих руках свою судьбу и судьбу всего мира.
В целом литургия является сценическим представлением библейских событий и исторического бытия Христа. Священный символизм очень насыщен, и верующие являются одновременно свидетелями и участниками этой литургической драмы. “Совершающие богослужение знают, что то, что происходит в литургии, есть образ эпизодов, связанных с пришествием Спасителя и домостроительством спасения”. “Вся целостность тайноводства есть как бы представление единого тела, а именно домостроительства жизни Господа, выставляющее перед нашими глазами от начала до конца все части этого тела в их взаимозависимости и гармонии”.
Во время вечерни мы присутствуем на событиях, начинающихся с сотворения мира. Начальный возглас не является явно троичным: “Благословен Бог наш”, но служба будет вести от Ветхого Завета к Новому и закончится Трисвятым и молитвой Троице. Открываются Царские врата, подобно небесам, отверстым в рай. Священник обходит Церковь, предшествуемый дьяконом, несущим зажженную свечу. Фимиам символизирует Дух, который носился над бездной в момент творения, а пламя свечи – слова “Да будет свет!”
Псалом 103 (Пс.134), в котором творение поет хвалу своему Творцу, переносит нас в то время, когда человек, еще не удрученный тяжестью греха, мог радостно идти навстречу своему Господу. На следующей ступени псалмы (Пс.134:140, 141) указывают на грехопадение и изгнание из рая. Царские врата затворяются.
В одиночестве, перед лицом своего греха, человек молится, чтобы Господь вновь обратил Свой лик к нему: “Господи, воззвах к Тебе”. В драматическом диалоге, в котором встречаются оба Завета, хор и чтец чередуют возгласы отчаяния с радостью об обетованиях. Тогда Бог снисходит к миру, и тайна воплощения возвещается в песнопении, называемом Догматик. Священник выходит из алтаря, провозглашая: “Премудрость”, что является приветствием Слову, грядущему в мир.
Сразу же за этим следует волнующий гимн, приписываемый мученику Афинагору, который исповедовал свою веру при императоре Марке Аврелии, примерно в 169 г.: “Свете тихий” – φω ς ἱλαρόν. Христос был явлен миру, и мы видели тихий свет “святыя Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго”. Потом следует песнь Симеона Богоприимца, – и ветхозаветное человечество исчезает, уступая место новозаветному. Вечерня заканчивается архангельским приветствием благодатной Деве Марии, и в объятиях человечества покоится Спаситель мира. Таким образом, вечерня, как и утреня, вводит в евхаристическое богослужение.
6. Евхаристия
Исторически богослужение создается вокруг трапезы Господней. Апокалипсис дает нам видение того, что происходит одновременно на земле и на небе во время литургии:
И увидел... стоял Агнец как бы закланный... и я видел и слышал голос многих Ангелов... которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять славу и благословение. И всякое создание, слышал я, говорило: Агнцу слава и держава во веки веков... И четыре животных... говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились (Откр.1:6, 11–14). Космический, человеческий и ангельский планы объединяются в единой литургии:
Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на Небо возвел еси и Царство Твое даровал еси будущее.
Начало соединяется с концом, книге Бытия отвечает Апокалипсис. Действительно, мир был сотворен ради мессианской трапезы: “И показал мне (Ангел) чистую реку воды жизни... и по ту и по другую сторону реки, древо жизни” (Откр.13:1–2). В этом видении будущего Царства святые отцы угадывают образ вечной евхаристии; но уже здесь на земле “ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную” (Ин.1:54). Евхаристия в мире уже есть совсем иная вещь, чем мир: “Да приидет благодать и да прейдет мир сей”, – восклицает евхаристическая молитва из Учения Двенадцати апостолов. Перед лицом эсхатологической вести время предстает во всей своей целостности: воплощение, искупление, воскресение и Второе пришествие возвещаются из глубины той же самой чаши. В этом заключается сущность христианства: тайна божественной жизни помещается в тайну человеческой жизни, “да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе” (Ин.13:21).
Вот почему основание Церкви в день Пятидесятницы сразу же сопровождается явлением ее природы: “И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя хлеб, принимали пищу в веселии... хваля Бога” (Деян.1:46). Это выражение становится евхаристическим стилем самой жизни: “Все же верующие были вместе и имели все общее” (Деян.1:44). Через Хлеб-Христа, верующие становятся самим этим хлебом, самой этой единой и троичной любовью, священнической молитвой переживаемой человеком.
Мы далеки здесь от одного лишь воспоминания. Каждый раз, когда православный верующий приступает к святой Вечере, он произносит: “Вечери Твоея Тайныя днесь. Сыне Божий, причастника мя приими”. Воспоминание воспроизводит, а литургическое памятование призывает к участию в единственном, которое пребывает. Святой Иоанн Златоуст говорит: “Каждая евхаристия была уже предложена один раз и никогда не истощалась. Агнец Божий, всегда едомый и никогда не съедаемый”. И Николай Кавасила говорит: “Хлеб становится Агнцем”.
Изменчивая материя мира соприкасается с горним и становится его частицей. Святой Игнатий и святой Иоанн Златоуст называют евхаристию “телом Божиим”, “закваской и хлебом бессмертия”. Теперь можно понять весь смысл слов: “Ядущий Мою Плоть имеет жизнь вечную” (Ин.1:54, 56). Именно здесь сокрыта главная тайна Церкви:
Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во все составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костьми вкупе... вразуми и просвяти мя. До IX века благоговение перед тайной евхаристии было так велико, что по этому поводу не возникало никаких вопросов. После святого Амвросия (О Таинствах) лишь в IX и XI веках на Западе первый раз ставится вопрос “что” и “как”. В последующих спорах глагол “быть” принимает смысл глагола “означать”. “Сие есть Тело Мое” становится “Сие означает Тело Мое”. Но Православная Церковь никогда не ставила евхаристического вопроса, просто потому, что она не допускала использования глагола “означать”. Оставаясь верной священному тексту Писания и определенно останавливаясь перед тайной, она громогласно утверждает тождество, вещающее: “Сие есть Тело Мое”, – и принимает его во всей полноте как несказанное чудо божественной любви. Напротив, восточное предание богато размышлениями об эпиклезе и духовном смысле евхаристии.
7. Чудо евхаристии
Отец Сергий Булгаков в своем фундаментальном исследовании “Евхаристический догмат” (Опубл. в журнале Путь, 1930, №20, 21) ясно излагает православное учение. Если на браке в Кане вода превращается в вино, то в этом случае одна материя мира сего уступает место другой, но принадлежащей той же природе мира сего, – и чудо является физическим. Евхаристические хлеб и вино становятся реальностью не от мира сего, преображаются в нее, – в этом случае чудо является метафизическим. Евхаристическая антиномия распинает наш ум: она выходит за пределы закона тождества, не нарушая его, т. к. здесь имеет место тождество различного и различие тождественного. Это вовсе не превращение в границах мира сего, а метафизическое μεταβολή, метафизический transensus (изменение) и совпадение трансцендентного и имманентного. Вот почему вино Каны доступно чувствам, но Кровь евхаристии является предметом веры: “Верую и исповедую... яко сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя”. И вера непосредственно утверждает достоверный реализм, обладающий непосредственным воздействием: “Да будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи... во исцеление души и тела... во оставление грехов и в жизнь вечную”.
Учение святого Фомы о трансубстанциации (пресуществлении), так же как и учение Лютера о консубстанциации (сосуществовании) догматизируют философское понятие отношений между субстанцией (сущностью) и акциденциями (случайными свойствами). Чудо заключается в постоянстве акциденций, связанных с другой субстанцией (транссубстанциация), или в проникновении в хлеб, который являет обе реальности (консубстанциация): хлеб, который заменяет или к которому добавляется духовное или телесное присутствие = субстанция. Субстанция есть Christus totus et integer (Христос весь и всецелый). Не покидая небо, Он оказывается, однако, на земле и образует евхаристическую субстанцию. С точки зрения небесного тела Христа, транссубстанциация и компанациация (т. е. присутствие под видом хлеба – Прим. перев.) являются лишь разночтениями одного и того же – сущностного присутствия Христа в виде и под видом хлеба (in pane, sub pane, сит pane – в хлебе, под хлебом, с хлебом) или под акциденциями или формами хлеба. Но одно – преложение хлеба в небесную плоть, чтобы быть потребленным, и совсем другое – присутствие Христа в частицах и, значит, Его сошествие на землю, откуда вытекает логическое следствие: культ поклонения физическому, земному присутствию Христа и, значит, отрицание вознесения.
Небесное тело Христа более не принадлежит миру сему. Он не находится “везде”, т. к. Он вне пространства и над ним, Он не пространственен, но может находиться по Своей воле в любой определенной точке пространства и являться в ней. Эта локализация необходима нам, т. к. иначе мы бы не могли причащаться невидимому. Но небесное тело не находится ни под видом хлеба, ни в хлебе (консубстанциация), ни на месте хлеба (транссубстанциация), но оно есть этот хлеб: “Сие самое есть Плоть Моя”. По словам святого Иринея, посредством эпиклезы евхаристический хлеб не скрывает в себе иное присутствие, но соединяет небесную пищу и земную, отождествляя их, и в этом заключается чудо. Священник погружает Агнца в Его Кровь, и это – живое Тело, а не знак или иллюзия акциденций. Это, тем более, и не повторное воплощение Христа в частицах, но полное преложение (метаболе) и субстанции, и акциденций в небесную плоть. Речь идет не о сохранении акциденций хлеба, а о сохранении неспособности наших глаз созерцать небесную плоть, неспособности, сохраняющей иллюзию внешней видимости. Ошибка учения заключается в том, что оно занимается объектом, а не субъектом, хлебом, а не человеком. Не нужно анализировать чудо чуть ли не с химической точки зрения, в зависимости от наших чувств; скорее нужно обвинять наши чувства в том, что они не замечают истинное чудо – небесную реальность. Существует аналогия с чудом преображения Спасителя на горе Фавор. Совсем не Христос изменяется, а глаза апостолов открываются на мгновение. Святой Иоанн Дамаскин говорит: “Эпиклеза совершает то, что доступно только вере”. Следовательно, бесполезно философствовать сверх этого. Западные богословы в своих учениях пытаются проникнуть в сердце чуда и объяснить то, что оно значит; восточные же смотрят глазами веры и видят с самого начала Плоть и Кровь и ничего более.
Евхаристия дана “в пищу”, чтобы быть потребленной. Поклонение Святым Дарам овеществляет явление небесного и противоречит вознесению. Православие не выставляет даров, но хранит их только для причащения. Поклонение в ходе литургии является составляющей частью литургического поклонения тайне Христовой. Мы преклоняем колени не перед Дарами, а перед Святым Духом в этих Дарах, перед литургическим пришествием Христа, которое являет Святой Дух и которое не имеет более той же самой реальности вне литургии.
Святой Иоанн Дамаскин выражает учение Церкви, говоря: “Вовсе не тело, вознесшееся на небеса, нисходит оттуда, но хлеб и вино превращаются в плоть и кровь и становятся именно одним и тем же”. Также и в Послании Восточных Патриархов говорится: “Хлеб становится одним с Телом, пребывающим на Небесах”.
Епископ Арзамасский Вениамин в “Новом Престоле” говорит о трех проскомидиях, трех приношениях во время литургии: первое приношение совершает мир, который возлагает на жертвенник хлеб и вино; второе – это перенесение этих пред-освященных даров на престол; и, наконец, третье – это перенесение даров с видимого алтаря на невидимый алтарь Святой Троицы, вознесение на небо через призывание (эпиклезу) и их преложение в Тело и Кровь Христовы, вновь приносимые на видимый алтарь храма. Таким образом, хлеб и вино соединяются с небесной реальностью Христа и становятся его частицей: “Это не бесконечно повторяемое заклание Агнца, а хлеб, который становится Агнцем”.
После освящения Хлеб есть большее, чем хлеб. Не сам человек субъективно, силой своей веры, совершает чудо в своих устах. Сакраментальное действие всегда вне-субъективно; человек потребляет субъективно то, что существует объективно – к своему спасению или в свое осуждение.
Божественное присутствие в евхаристии подчинено чину “ядите и пийте”, тем самым, оно появляется вследствие потребления. Христос присутствует и дается тому, кто причащается во время литургии (причащение больных является продолжением литургии, но совсем не внелитургическим актом). Если икона – это место лучезарного присутствия, и поклонение здесь уместно, то Святые Дары являют небесно-телесное присутствие Божие единственно для потребления.
8. Жертвенный характер евхаристии
“Сие есть предложение истинное”, – провозглашает литургия, и проскомидия представляет в очень реалистической манере это предложение, эту жертву. Время не играет никакой роли и не вносит никакой действительной трудности. Трапеза Господня, преподанная апостолам до распятия, и каждая нынешняя евхаристия являются одной и той же Трапезой, восходящей к Агнцу, закланному до создания мира и времени. Речь идет не о вездесущии или вездесущности, т. к. небесное, евхаристическое Тело является вневременным и внепространственным, оно не находится везде и всегда, но может являться в любом месте и в любой момент времени. Лучшее объяснение дано Николаем Кавасилой: “Состояние заклания, которое нормально должно было быть приложимо к хлебу, в результате изменения считается существующим уже более не в хлебе, который исчез, но в теле Иисуса Христа, в которое хлеб превратился... Эта жертва совершается не через нынешнее заклание Агнца, а через превращение хлеба в уже закланного Агнца. Изменение повторяется, но то, во что произошло превращение, остается единственным и тем же”.
Уже в предобразном чине язычества и Ветхого Завета отождествление с принесенной жертвой осуществлялось в акте потребления. Жизнь жертвы переходит в жизнь жреца и народа. В евхаристическом отождествлении мы умираем со Христом и воскресаем вместе с Ним. Христос является жертвой и Спасителем, Он является нам как “наша жертва”, но чудо “единого, а не многократного приношения” касается личностным образом каждой конкретной ситуации во времени. То, что есть один раз для всех и объективно не воспроизводится, субъективно осуществляется для каждого причастника, т. к. это есть единое тело: “Освяти нас, как Ты уже столько раз освящал людей нашего рода”, – т. к. жертва является единственной “за всех и за вся” (молитва литургии). Это – воспоминание не о платоновских идеях, а о конкретном событии единственного приношения. Мы его “поминаем” через участие (евхаристическое действие по-славянски так и называется: “при-частие”). Слова “сие творите в Мое воспоминание” говорят о божественной памяти, которая делает каждое действие вечно присутствующим и возвещает конец мира сего и Второе пришествие: “Вы – благословенные Отца Моего”. “День Господень”, день евхаристии – это день суда и день брака Агнца (двойное значение иконы Деисус). Христос является одновременно жертвой и жертвующим, тем, кто жертвует, и тем, кто принимает жертву: “Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся” (молитва перед эпиклезой). Полнота такова, “что невозможно идти дальше, невозможно ничего к этому прибавить”, – настойчиво подчеркивает Николай Кавасила (О жизни во Христе, р. 98.).
9. Эпиклеза
Молитва “о принесенных и освященных Честных Дарех” соединяет в немногих словах суть евангельского чуда: “Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я во святый, и пренебесный, и мысленный Свой жертвенник, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа”.
Николай Кавасила видит в обряде зеона (или теплоты) евхаристическую Пятидесятницу. Слова, которые сопровождают этот обряд, – “Теплота веры исполнь Духа Святаго” – подтверждают эпиклезу, следуя за анафорой.
Сердцем каждого таинства оказывается действие ее собственной Пятидесятницы, сошествие Святого Духа. Это есть исповедание православной веры роли Святого Духа в домостроительстве спасения и троичной гармонии. Христос-Слово произносит установительные слова, и эпиклеза просит Отца ниспослать Святого Духа как освящающую силу на дары и на Церковь.
В антиохийских анафорах, восходящих ко времени не позднее чем конец IV – начало V века, уже содержится призывание Святого Духа, дабы Он явился превратить хлеб и вино в Тело и Кровь Христову. Может быть, ересь пневматомаков (духоборов) побудила к особому выявлению действия Святого Духа, но это особенно соответствовало все более и более развивающемуся восточному богословию Утешителя. На Западе только мозарабская литургия сохраняет византийское влияние. Чтобы лучше осознать глубокие причины конфликта (который отделяет восточное предание от западного и суть которого заключается не только в евхаристической эпиклезе, но в эпиклезе как выражении богословия Святого Духа), нужно понять, что для греков евхаристический канон является одним целым, неотделимым от единой тайны, и что никоим образом невозможно разделить его на элементы, чтобы выделить из него квазиизолированный центральный момент. В то время как у латинян verba substantialia освящения, учредительные слова Христа, произносятся священником in persona Christi (от лица Христа), что придает им непосредственно освящающее значение, для греков подобное определение священнодействия – in persona Christi, – отождествляющее священника со Христом, было абсолютно неизвестно, даже немыслимо. Для них священник призывает Святого Духа именно для того, чтобы слова Христа, воспроизводимые и цитируемые священником, обрели всю действенность слова-действия Божия.
Восточные отцы, параллельно онтологическим связям Слова с человеческой природой Христа, устанавливают динамическую связь Святого Духа, который свидетельствует о человеческой природе и являет ее, т. к. Он на ней почиет как помазание. Человеческая природа онтологически продолжает существовать, обретая поддержку в ипостаси Христа, но она освящена и сияет божественной энергией через динамизм Святого Духа. Христос есть воплощенное Слово, но Он действует и являет Отца в Святом Духе и через Него (динамис, сила Всевышнего по определению: Лк.1и Рим.13:19). Пришествие Христа в евхаристии совершается в Духе Святом и через Его пришествие (Ин.13:17), которое совершает метаболе (преложение) Святых Даров и самого причастника. Полное одухотворение природы – φύσις – Спасителя продолжается в тех, кто приобщается Его “святой Плоти”. Будучи единокровными, единоплотяными, они не только преобразуются по образу Христову, но действительно охристовлены (Кол.1:9). Это – перенос и вливание жизненной, обоживающей энергии, откуда и происходит часто встречающееся у святых отцов наименование: ῟φάρμακον ἀθανασίας, средство, или закваска, бессмертия. Причащающийся “преобразуется в Царскую сущность”. По словам святого Иоанна Златоуста, речь идет не о “задатке”, а об огне божественной любви, к которой мы приобщаемся. В этом заключается скрытый смысл перихорезы. По словам епископа Таврического Иннокентия, “мы причащаемся Христу, но и Христос причащается нам”. Бог воплощается в человеке, и человек одухотворяется в Боге. Воплощению, очеловечиванию Бога, отвечает одухотворение, обожение человека. Любви Отца уже отвечает любовь Сына Человеческого, и “мы поминаем Господа” (литургическое поминовение), потому что “Он поминает нас” (божественная память). “И Дух и Невеста говорят: гряди, Господи!” В этом заключается высший смысл эпиклезы, которая ведет к πνευματικὸν γάμος, к мистическому браку Христа со всякой душой. Деисус изображает этот брак: брачный Агнец находится между Невестой-Церковью и Паранимфом, другом Жениха; ангелы и апостолы являются гостями и свидетелями. Как говорит об этом Феодорит Киррский, “потребляя Плоть Жениха и Его Кровь, мы вступаем в брачную koïnonia (общение)”.
Христианская литургия заимствует существующие до нее обряды. Так, например, собрание Слова, первая часть литургии, происходит от субботней утренней службы в синагоге, центром которой является чтение Библии, а евхаристическое собрание соответствует вечерней семейной трапезе в пятницу или трапезе Хабуры (братства) с чашей благословения. В конце трапезы, после благодарения, следовало призывание, то есть эпиклеза, в которой говорилось об эсхатологическом пришествии Илии, воссоздании царства Давида, восстановлении Храма и утверждении всех в вере. Слово ἐκκλεσία имеет тот же корень, что и kahal в древнееврейском языке. Но в Новом Завете собрание Яхве (Господа) переходит в народ Божий, соединенный во Христе. Собрание созывается глашатаями Небесного Царя. Апостолы-епископы (κήρυκες, глашатаи) возвещают о призыве Слова, и люди собираются, чтобы слушать проповедь и потреблять одно и то же Слово-евхаристию. Так субъектом и объектом литургического служения является Бог. Слово созывает всех и дается в пищу. Эта божественная инициатива преобладает в службе от начала до конца и помогает понять, что схема службы, чин литургии, не является независимым. Будучи божественной, литургия несет отпечаток вечности и не принадлежит свободному человеческому вдохновению. Согласно преданию, она восходит к апостолам. В рамках поклонения и благодарения богослужение является по существу теоцентричным.
Можно непосредственно видеть тесную связь двух частей литургии. Литургия оглашенных есть литургия Слова. На престоле в центре поставлено Евангелие. Чтение Апостола (“шалиах, апостолос для человека является как бы его двойником” – афоризм из Мишны) предшествует чтению Евангелия, после которого следует проповедь. Литургия верных – это служение евхаристии, во время которой в центре ставится чаша. Видно, насколько немыслимо никакое разделение или противопоставление. “И сказал Бог... и стало так” – то, что возвестило Слово, непосредственно осуществляется, совершается в чаше, которая есть осуществленное в ней Слово. Это – “Слово, ставшее плотью”, и Его действие немедленно – “преложение” верующих в “царскую сущность”.
10. Литургия
Структура литургии
I. Проскомидия
1. Приготовление даров, – хлеба и вина, – предназначенных к жертве. II. Литургия оглашенных
1. Великая ектения: длинная просительная молитва в форме диалога между дьяконом и народом, завершающаяся троичным славословием. 2. Псалом 102. 3. Малая ектения. 4. Псалом 145. 5. Тропарь Единородный Сыне. 6. Пение Блаженств. 7. Малый Вход. 8. Песнопение “Приидите, поклонимся”. 9. Трисвятое. 10. Апостол. 11. Евангелие. 12. Сугубая ектения. 13. Молитва об оглашенных и их отпуск. III. Литургия верных
Перед Анафорой:
1. Молитва верных. 2. Херувимская. 3. Молитва Приношения. 4. Великий Вход. 5. Просительная ектения Приношения. 6. “Возлюбим друг друга”. 7. Лобызание мира. 8. Символ веры. Анафора, или Евхаристический канон:
Призыв ко вниманию: “Станем со страхом”.
А. Великая Евхаристическая молитва:
1. Достойно и праведно есть. 2. Свят, Свят, Свят. 3. Воспоминание о Тайной вечере. Б. Освящение:
1. Установительные слова. 2. Приношение Тела и Крови, песнопение: “Тебе поем”. 3. Эпиклеза, или призывание Святого Духа. В. Великая молитва:
1. Поминание святых и Диптихов (поминовение живых и усопших), прославление Богородицы (“Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу”). 2. Повторная просительная ектения, тайная молитва священника. 3. Отче наш. Г. Возношение, раздробление и причащение:
1. Благословение, молитва главопреклонная. 2. Святая Святым. 3. Раздробление и поминовение. 4. Приготовительная молитва. 5. Причащение священника и дьякона. 6. Благословение чашей верных. 7. Причащение верных. 8. Молитва благодарственная. 9. Перенесение Святых Даров на жертвенник. 10. Отпуск верных и раздача антидора, или освященного хлеба. Собственно литургия (или месса) представляет три части из домостроительства спасения. Первая часть показывает мессианскую связь между предысторией и историей; вторая, Литургия оглашенных, воспроизводит совокупность служения Христа; и третья, Литургия верных, представляет страсти, смерть, воскресение, вознесение, Второе пришествие и вечное Царство Христа. Хорошо видно, что литургия воспроизводит “всю тайну домостроительства”, как об этом говорит Феодор Андидский, и что она является “повторением всего домостроительства спасения”, по словам святого Феодора Студита.
Проскомидия
Уже первая часть, или проскомидия, приготовление хлеба и вина, является весьма сжатой небольшой реалистической драмой, которая воспроизводит заклание Агнца, передавая, таким образом, вкратце образ жертвоприношения, которое будет совершаться во время литургии.
Священник берет приготовленный хлеб и трижды чертит копием знак креста, затем вонзает его в правую сторону и надрезает, произнося: “Яко овча на заколение ведеся” (Ис.13:7). Он делает такой же надрез с левой стороны: “И яко Агнец непорочен, прямо стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст Своих” (Ис.13:7).
После двух других надрезов священник вынимает частицу, называемую с этого момента Агнцем, и произносит: “Яко вземлется от земли живот Его”. Он кладет на дискос эту частицу в перевернутом положении, что означает кеносис. Дьякон говорит: “Пожри, Владыко”. Священник делает глубокий надрез на частице в форме креста, говоря: “Жрется Агнец Божий, вземляй грех мира, за мирский живот и спасение”. Потом он переворачивает частицу, и дьякон говорит: “Прободи, Владыко». Священник пронзает копием хлеб сверху с правой стороны, цитируя: “Един от воин копием ребро Его прободе, и абие изыде кровь и вода” (Ин.13:34).
Дьякон вливает в потир вино и немного воды и произносит: “Благослови, Владыко, святое соединение”. Отделив другую частицу, священник кладет ее с правой стороны от Агнца, произнося: “Предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенны одеяна, преукрашенна” (Пс.13:10). Следующая частица служит для поминания Предтечи и ангелов (и это – икона Деисус, брак Агнца), затем следуют частицы, представляющие пророков, апостолов, святых, частицы за живых и усопших, причем каждый представлен поименно.
Таким образом, на жертвенном дискосе строится совершенный образ Церкви в ее вселенском измерении, которая объемлет небо и землю, которая включает в себя отсутствующих и даже умерших: “Как Ты Сам знаешь, способом, известным лишь Тебе одному”.
Это образ Тела Христова: целокупное причастие в целокупном Теле. Это видение явно переходит границы времени. Во время каждения дьякон произносит: “Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в рай же с разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный”. Это – видение всего свершившегося: “вся, яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие”.
Это видение мира в Боге, когда этот мир весь целиком становится богоявлением, присутствием троичного Бога в творении. Все свершилось и все соединилось в богочеловеческом соборе. Вне времени, до начала истории, в Агнце конец уже соединяется с началом. Таким образом сконцентрированный реализм проскомидии возвышает нас до небесного пролога, о котором говорит Апокалипсис: “Агнец, закланный от создания мира” (Откр.13и 1Пет.1:19).
От вечности, от предсуществования, литургическое действие низводит нас теперь в ход истории. Агнец входит в историю, является в определенной точке пространства и времени, принимает облик младенца, и это есть Рождество. Священник покрывает дискос с частицами, устанавливая сверху металлическую звездицу и произносит: “И пришедши, звезда ста верху, идеже бе Отроча“ (Мф.1:9).
Молитва, обращенная к Святому Духу – “Царю Небесный, Утешителю...” (эквивалентная Veni Sancte Spiritus–Прииди, Святый Душе) – является общей эпиклезой на пороге таинства.
Литургия оглашенных
В начале второй части дьякон становится перед Царскими вратами и произносит: “Благослови, Владыко”. Священник провозглашает славословие-благословение: “Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа...”; оно с самого начала переносит нас в Царство Святой Троицы. Дьякон призывает тот высший порядок, который носит название шалом, мир, и возносит от лица всей великой общины совместную молитву: “Миром Господу помолимся...” – ῟Εν ἐιρήνη, – откуда наименование irenika (мирные), данное этим ектениям.
Хор поет псалмы 102 и 145, (Пс.134:145) так называемые “изобразительные” – τὰ τυπικά, – которые повествуют об ожидании ветхозаветного народа, устремленного к обетованному спасению. Эта часть заканчивается торжественным гимном самому спасению – Единородному Сыну, – в котором исповедуется суть христианской веры согласно догмату Халкидонского собора. Далее, пение Блаженств напоминает о качествах души, живущей под благодатью.
Врата алтаря отверзаются, как отверзается Царство Божие с приходом Иисуса, – это Малый вход. Священник торжественно несет перед собой (лицом) Евангелие, ему предшествует служитель с зажженной свечой. Этот чин являет Христа, возвещающего Свое слово, которому предшествует святой Иоанн Креститель, “светильник, горящий и светящий” (Ин.1:35).
“Молитва входа” упоминает ангелов, которые служат на небесах предвечную литургию и которые сейчас соединяются с верными для совместного служения:
Владыко Господи, Боже наш, уставивый на небесах чины и воинства ангел и архангел в служение Твоея славы! Сотвори со входом нашим входу святых ангел быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение... Последнее слово усиливает смысл этого действия как поклонения и объясняет это как вторжение небесного в земное во время Малого и Великого входа. Ангелы служат на небесах предвечную литургию и участвуют в литургии людей, которая является лишь включением во время непрестанного поклонения, нормального условия существования всякой твари. Это – сильно развитая иконописная тема, называемая “Божественной литургией”, изображающая Христа в архиерейских одеждах, в алтаре, окруженным сослужащими ангелами, облаченных священниками и дьяконами.
“Благословен вход святых Твоих”, – говорит священник. Это есть призыв к поклонению Богу всеми силами святости Церкви. Святые и все люди именно по причине своего причастия святости Божией и все ангелы, – все собрание, – служа литургию, преклоняют колени. Так Святой Бог, сокрытый в самой тайне Своего сияния, словно в облаке, принимает поклонение от всех сил Его собственной святости, “сияющей на ликах святых”.
После благословения входа дьякон поднимает Евангелие и провозглашает: “Премудрость!” Это призыв к верным отбросить все то, что может отвлечь их внимание, и призывает полностью предаться поклонению. Хор поет: “Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий, во святых дивен сый...” При архиерейской службе это момент, когда епископ приступает к своим священническим, литургическим, обязанностям: он знаменует начало литургии, сконцентрированную в акте поклонения. Следуют песнопения, которые поминают именно в этот момент святых дня и почитаемых в этой Церкви. Значение всего этого собрания грандиозно по своей глубине: все соединено в акте коленопреклонения, это пришествие Христа, окруженного множеством свидетелей и служителей Его славы, это святость Божья, сияющая в ее человеческом принципе, собрание святых.
Дьякон преклоняет голову и говорит, обращаясь к священнику: “Благослови время Трисвятого”. Священник благословляет со словами: “Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем... ныне и присно...” “Всему свое время, и время всякой вещи под небом”, – говорит Екклезиаст (Еккл.1:1). Бог “все соделал прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их“ (Еккл.1:11).
Таким образом, существует еще литургическое время Трисвятого, время поклонения. Священник произносит молитву Трисвятого пения:
Боже святый, Иже во святых почиваяй. Иже трисвятым гласом от Серафимов воспеваемый и от Херувимов славословимый, и от всякия небесныя Силы поклоняемый... сподобивый нас, смиренных и недостойных раб Твоих, и в час сей стати перед славою Святаго Твоего Жертвенника и должное Тебе поклонение и славословие приносити! Сам, Владыко, приими и от уст нас, грешных, Трисвятую песнь... Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу... Священник делает трижды земной поклон, произнося Трисвятое, а хор поет его: “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас”; врата открываются для приятия тайны троичного Бога, откуда во всей глубине литургического поклонения исходит Христос и является перед верными.
Перед концом пения дьякон произносит: “с силою” (динамис), – призыв удвоить рвение, чтобы гимн зазвучал как можно полнее. Если литургия совершается архиерейским чином, епископ выходит на амвон во время пения, держа в левой руке дикирий (светильник с двумя скрещенными свечами, символизирующий сияющую тайну двух природ во Христе), а в правой трикирий (светильник с тремя свечами, символизирующий трисолнечный свет), и благословляет народ, скрестив так христологический и троичный образы. Так в точке скрещения достигается предельная насыщенность изображения несказанной божественной святости. Затем следует “чин или благословение Горнего места”, которое символизирует престол Трисвятого Бога, которому возносится пение Трисвятого.
Христос уничтожил вражду, рассеял мрак, и Его слово звучит при чтении Посланий (этому отрывку, взятому из Деяний или из Посланий дано наименование Апостол) и Евангелия дня. Литургия оглашенных содержит свою эпиклезу: молитва перед чтением Евангелия испрашивает дар просвещения, в согласии с текстом Лк.13:45; Ин.13:26; Ин.13:13: “Тогда отверз им ум к уразумению Писаний...”, “Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое...”, “Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину”. Это евхаристическое преложение чтения Священного Писания в Слово Божие, библейская евхаристия оглашенных. По древнему обычаю, после чтения следовала епископская проповедь, или поучение. Ектении завершали эту часть, вовлекая присутствующих в свой вселенский порыв. И вот тогда дьякон возглашал: “Оглашенные, изыдите”. Тогда кающиеся и оглашенные покидали храм, и начиналась Литургия верных.
Литургия верных
Во время Литургии верных присутствующие являются свидетелями воскресшего Христа, и возвещается Царство Божие. Царские врата являются сакраментальными, символизируя Христа, в соответствии со словами: “Я есмь дверь” (Ин.13:7). Они отворяются только через крещение и помазание Святым Духом. Ветхий человек умирает на пороге Храма, и новый человек, воскресший во Христе, входит и становится посреди Храма Славы Божией.
“Станем со страхом”, “Премудрость”, – призывает дьякон, и хор, входя в ту же духовную тональность, начинает петь Херувимскую:
Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Душа очищается, вторит пению небесных сил; все струны напряжены в ожидании пришествия.
Великий вход, или перенесение предложенных Даров, является литургическим изображением входа Христа в Иерусалим. Коленопреклоненные верные изображают сопровождение Христа-Царя, священника и жертвы, который сам появляется среди верных. Это все представляет иконографическую тему Божественной литургии.
Песнопение Великой субботы еще яснее являет величие Входа:
Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы ангельстии, со всяким Началом и Властию, многоочитии Херувими и шестикрилатии Серафими, лица закрывающе и вопиюще: аллилуия, аллилуия, аллилуия. Когда процессия возвращается в алтарь, священник взывает молением благоразумного разбойника: “Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем”. Потом от ставит чашу на престол, произнося:
Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьми, во гробе нове, покрыв, положи... Это – страсти и смерть. Большой воздух покрывает Святые Дары, как плащаница, а об ароматах напоминает каждение. Царские врата затворяются, как закрылись двери гроба. Наступает момент приношения и Евхаристического канона. Завеса вновь отдергивается, словно под напором торжествующей жизни, как будут всегда отворяться двери под напором живой веры; ангел с пламенным мечом отступает от древа жизни. Эти разверстые небеса знаменуют явление страшной тайны и призывают душу открыться, – для того, чтобы, отдавшись целиком, она приняла Бога целиком. Молитва приношения предвосхищает эпиклезу: “...и вселитися Духу благодати Твоея благому в нас, и на предлежащих Дарех сих, и на всех людех Твоих”. И в сосредоточенной тишине раздаются слова дьякона: “Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы”.
Только укоренившись в любви и в подлинном единстве веры, вместе со всеми святыми, человек участвует в тайне божественной жизни; лишь любовь может познать Любовь, божественный Собор, Святую Троицу. И вот почему именно от целования мира, скрепляющего самый потрясающий акт единства во Христе, исходит пение Символа веры, возвещая эту Любовь, которая нисходит, которая приносит себя в жертву, которая страдает и которая спасает. Слова, сопровождающие целование мира, ясно выражают его смысл: “Христос посреди нас... Церковь стала единым телом и наше лобзание есть залог этого единства, вражда удалилась, и любовь наполнила все”. Видимое и невидимое Церкви соединяются друг с другом и меняют саму природу вещей. Во время пения Символа веры служащий священник медленно колеблет воздух над чашей и дискосом, символизируя сошествие Святого Духа.
“Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити”, – взывает дьякон. Приближается самый священный момент: “Sursum corda! Гopé имеим сердца!” – “Имамы ко Господу”. Отбросив влечения мира, с возвышенным сердцем, подлинно свободный человек может теперь отдаться своему порыву. “Благодарим Господа”, – призывает священник. Хвалебному в прямом смысле действию, т. е. “евхаристии”, Εὐχαριστήσωμεν τω @ Κυρίῳ, хор отвечает этим действием благодарения, которое переходит границы простой благодарности, становясь поклонением, созерцанием, восхождением, и сияет как подлинная троичная евхаристия: “Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней”. Жертва, содержащаяся в единственном действии Христа, является троичной.
Молитва вступления (префацио) соединяет все имена Божии в нашем благодарении и завершается Ангельской песнью. “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф”. Благодарение ангелов в синагогальном богослужении завершалось словами: “Благословенна слава Господа от места своего” (Иез.1:12). Литургия заменяет эти слова на “Благословен грядущий во имя Господне” (Пс.134). Раввины в эпоху после пленения учили, что, где двое или трое собираются, чтобы читать Библию, там слава Божия, Шехина, оказывается посреди них. Христос ссылается на это изречение, и именно в этом смысле нужно понимать слова “Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”. Шехина, таинственное присутствие троичного Бога, наполняет храм.
Жертвоприношение возвещается через воспоминание, анамнезис, который следует сразу за установительными словами Тайной вечери: “Сие есть Тело Мое... Сия есть Кровь Моя”. После напоминания о великих тайнах – страстях, смерти, воскресении, вознесении, Втором пришествии – священник произносит формулу приношения: “Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся”.
В сирийской литургии апостола Иакова слова священника прекрасно выражают крайнее напряжение духа:
Сколь величествен сей час и сколь страшен сей миг, братия мои! Ибо Дух Святой животворящий, сходя с высот небес и почия на сей евхаристии, освящает ее... Станьте со страхом, молитесь, дабы с вами был мир и заступление Бога Отца нашего. Велегласно трегубо рцем: Господи, помилуй! Ответ коленопреклоненных верных соединяет в себе всю евхаристию: “Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш”. Это – момент освящения Даров, эпиклеза, молитва, испрашивающая пришествие Святого Духа для чуда евхаристии: “Низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащия Дары сия. И сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего... А еже в Чаше сей, честную Кровь Христа Твоего... Преложив Духом Твоим Святым (μεταβαλὼν τῲν Πνεύματι Σου τω @ Αγίῳ)”. “Аминь, аминь, аминь” звучит, словно троичная печать на свершившемся чуде. Соединяющая сила Христа объемлет вселенную, творит из нее Церковь: “Соедини нас друг ко другу”. Троякое поминание святых, усопших и живых присоединяется к эпиклезе и ко всеобщему приношению “о всех и за вся”. Это – великая молитва Церкви о заступлении. “Помяни, Господи, всех зде нами поминаемых... и на вся ны милости Твоя низпосли”.
Словно дети, все соединены в едином приношении перед Отцом. “И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа...” “Сподоби нас причаститися небесных Твоих и страшных Таин”, – молится еще священник; и для этого и прежде всего он совершает торжественное призывание Отца, сокрытого в лучезарном облаке троичного Бога: “И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати: “Отче наш...”
Дьякон опоясывается своим орарем, образующим “Андреевский крест” по спине и груди, изображая серафимов, которые своими крыльями закрывают лица перед неизмеримой тайной божественной любви. Этот жест призывает собравшихся к поклонению.
Ожидание причащения разрешается в величественном пении молитвы Господней. То, что эта молитва таким образом помещена непосредственно перед Трапезой, показывает, что хлеб насущный, надсущный (ἐπιούσιον), есть евхаристический хлеб. Момент соединения совсем близок, и чувство собственного не-достоинства, misterium tremendum (страшной тайны), охватывает собравшихся: “Святая святым”, – говорит священник, поднимая Агнец, Хлеб жизни; и каждый из собравшихся исповедует: “Един Свят, един Господь, Иисус Христос...” Верные собираются, словно жены-мироносицы у гроба. В безмолвии распахиваются настежь Царские врата, символизируя архангела Гавриила, отваливающего камень от гроба. Держа в руках чашу, священник предстает перед преклонившими колени верными. Это-явление воскресшего Христа, пришедшего дать Жизнь вечную. Гроб и смерть сокрушены. Заря воскресения омывает все в своем незаходимом свете.
“Со страхом Божиим и верою приступите”. Причастие свидетельствует о реальном и постоянном присутствии Христа, – и так до конца света. Но одновременно возношение чаши после причащения, клубы фимиама, окружающие Святые Дары, перенесенные на жертвенник для потребления (“Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их” (Деян.1:9), символизируют вознесение Христа на небеса, откуда уже падают лучи-предвестники света Второго пришествия и нового Иерусалима. Это – эсхатологическое завершение литургии, ее трапеза является мессианской, верные собрались вокруг, взирая на Того, кто грядет: “О Пасха велия и священнейшая Христе... Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего”. “Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя”, – молится священник.
Миссия Христа исполнена: “...Христе, Боже наш, исполнивый все отеческое смотрение, исполни радости и веселия сердца наша”.
Именно миру предстоит стать единым Христом: “Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть... Буди имя Господне благословенно отныне и до века”.
Литургия завершается последним благословением и раздачей антидора, благословленного хлеба, в воспоминание о древних агапах. Церковь продолжает этой евлогией (благословением) свое литургическое действие, которое раздвигает стены храма до края света. Верный уносит с собой как приношение миру это харизматическое свидетельство единства и любви.
Именно теперь, вкусив и напившись от источника, сам человек является как бы чашей, наполненной присутствием Христа и предложенной людям и миру.
Литургия является не средством, но образом жизни, который основывается на самом себе; это выявляет ее теоцентрический характер. В литургии человек устремляет свой взор не на себя, а на Бога, на Его величие. Во время литургии речь идет не столько о самоусовершенствовании, сколько о том, чтобы открыться Божьему свету. И именно эта радость бескорыстным образом, исподволь отражается на природе человека и меняет ее. Поскольку человек ничего не добавляет к величию Божьему, к Его единственному присутствию, оно действует само по себе. Должны существовать мгновения, когда человек не ищет, любой ценой, цели для всего, – мгновения поклонения, когда его существо беспрепятственно расцветает, подобно царю Давиду, пляшущему перед ковчегом, – и пусть моралисты с тяжеловесной серьезностью хором поют ту же песню, что и Мелхола.
Не нужно все время сгибаться под своей нищетой, мучиться из-за своих грехов, но в день Господень – не в этом ли заключается дар Его благодати? – нужно отдохнуть на несколько мгновений, исполнившись чистой и прозрачной радостью.
“Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?” (Мф.1:15)... “А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась” (Ин.1:29).
И вот, эти друзья являются свидетелями “страшных тайн”, настолько страшных и великих, что, согласно литургическому образу, ангелы трепещут, закрывают свои лица и “удивляются” перед исполнением божественных определений. И это удивление есть начало премудрости, этого всевоспринимающего и всецело открытого для принятия истины изумления, когда истина приходит к человеку и дается ему в виде чистого дара.
В литургии человек обретает Царствие Божие. Оно приблизилось, оно уже среди людей, посреди и внутри них, остальное будет им дано в благопотребное время и выше всякой меры. Ища Царствия Божия, человек слушается своего Господа и становится Его сыном. И, когда он его обретает, радуется, как тот, кто “нашел жемчужину”, как тот, кто “нашел сокровище”, – и радость его совершенна.
Глава IV. ТАИНСТВА
1. Введение“Таинства – вот путь, который начертал нам Господь, дверь, которую Он нам открыл... Вновь проходя по этому пути и через эту дверь, Он возвращается к людям”. Христос возвращается в таинственном домостроительстве Святого Духа, которое продолжает Его видимое присутствие в истории. Но к тому же таинства Церкви занимают место чудес, совершенных во время воплощения. Более классическим является определение, данное в “Исповедании православной веры”: “Таинство есть священнодействие, в котором под видимым знаком верующему сообщается невидимая благодать Божия”.
Единство видимого и невидимого свойственно самой природе Церкви. Будучи непрестанной Пятидесятницей, Церковь изливает преизбыток благодати через все формы своей жизни. Но установление таинств (их “законной” стороны с канонической правильностью, как “действительную” и как “действенную” стороны освящающей благодати) устанавливает порядок, который ставит пределы всякому сектантскому беспорядочному “пятидесятничеству”, и в то же время предлагает незыблемое, объективное и всеобщее основание благодатной жизни. Дух веет, где хочет, но в таинствах, при наличии условий, предлагаемых Церковью, и по обетованию Господа, дары Святого Духа безусловно сообщаются, и Церковь удостоверяет это.
Школьное богословие испытало латинское влияние при утверждении числа таинств, равного семи: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, елеосвящение, священство и брак. Сформировавшись на Западе к XII веку, это учение подтверждается на Тридентском соборе и проникает на Восток. Но уже в XIII веке седмерица таинств упоминается в “Исповедании” Михаила Палеолога и цитируется на провозгласившем унию Лионском соборе (1274 г.). Полемика с протестантскими богословами во времена Константинопольского патриарха Иеремии II (†1595 г.) ведет к такому же утверждению цифры семь (кальвиниствующий Кирилл Лукарис принимал лишь два из них). Послание Восточных патриархов приводит то же самое число семь и уточняет: “ни больше ни меньше”, – что объясняется полемической направленностью письма. Но еще в XV веке митрополит Эфесский Иоасаф называет десять таинств, святой Дионисий же говорит о шести, а святой Иоанн Дамаскин упоминает только два. Некоторые тексты включают посвящение в монахи, панихиду, великое освящение воды. Часто у святых отцов “крещение” означало совокупность трех великих таинств.
В широком смысле все в христианской жизни церковно и, следовательно, имеет таинственную природу, т. к. “Я излию от Духа Моего на всякую плоть” (Деян.1:17), – все является харизмой, даром служения Богу и Церкви. Хотя личная святость, деяния веры, мученичества или милосердия, а также освящение всякой формы существования и бытия и находятся в Церкви, они образуют невыразимую, неорганизуемую, необъективируемую область и поэтому не требуют и не несут никакой объективной печати согласия с Телом Христовым. Более того, можно сказать, что здесь “каждому дается проявление Духа на пользу” (1Кор.13:7).
Существует также большое число священнодействий (sacramentalia): освящение храма, крестов и икон, воды, плодов земных, отпевание и монашеский постриг, благословение священником вне и во время богослужения, крестное знамение, молитва. Все эти обряды также сообщают благодать Святого Духа.
Отец Николай Афанасьев вносит важное уточнение. Каждое таинство заключает в себе освящающее действие, но не каждое освящающее действие есть таинство. Таинство включает в себя откровение Божьей воли о том, чтобы это действие имело место, само тайнодействие, и в-третьих, свидетельство Церкви о его рецепции, которое подтверждает передачу и принятие дара. Так, по древнему обычаю, возглас “аксиос” всего народа сопровождал каждый сакраментальный акт, и все таинства вели к евхаристии, которая является исполнением свидетельства Церкви о духоносной реальности каждого таинства. Подобный консенсус есть внутреннее дело Церкви. Таинство всегда совершается в Церкви, Церковью и для Церкви; оно исключает всякую индивидуализацию, которая изолирует действие и того, кто его принимает. Каждое таинство отражается в Теле всех верных. Каждое крещение и миропомазание является рождением в Церкви, которая обогащается еще одним членом; каждое прощение, отпущение грехов, поистине “возвращает” кающегося в Церковь, в “общение святых”; во всякой евхаристии: “нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святого причастие” (литургия Василия Великого); “после чего мы поминаем небо, землю и море, солнце и луну, светила и всякую тварь разумную и неразумную, видимую и невидимую, и ангелов и архангелов”. Хиротония во епископа удостоверяется евхаристией, явлением Церкви. Муж и жена в своей новой, супружеской жизни прежде всего становятся членами евхаристического собрания. Так каждое таинство переходит границы частного, стремясь к своему вселенскому звучанию, и дары являются для всех.
Будучи продолжающейся Пятидесятницей, продолжающимся действием откровения Святого Духа, Церковь непрестанно являет свою тождественность со Христом, который есть Путь, Истина и Жизнь, что делает саму Церковь таинством Истины и Жизни. Харизма удостоверения Истины обусловливает деяния соборов. Их догматические определения близки по природе к таинствам. И формула “изволися Духу Святому и нам” осуществляется в два этапа: сначала – “изволися нам”, и затем следует рецепция всего тела Церкви, или провозглашенный консенсус, когда этот собор признан Вселенским: “изволися Духу Святому”. Собор является Вселенским потому, что через него говорил Дух Истины.
“Наше учение согласно с евхаристией”. Каждое таинство восходит к установлению евхаристии, включается в него. Нет смысла искать для каждого таинства ясно выраженных установительных слов Господа. Конечно, ссылка на Священное Писание всегда необходима, но каждое таинство восходит к силе таинства таинств, которым является Церковь-евхаристия. В таинствах действует отнюдь не формальная или юридическая сторона. Если по уважительным причинам в совершении таинства нарушаются канонические условия, то “благодать, восполняющая человеческую немощь”, и включение в евхаристию может свидетельствовать о сошествии Святого Духа и о получении дара. Вот почему по древнему обычаю каждое таинство было органической частью евхаристической литургии и завершалось трапезой Господней.
Каждому таинству предшествует своя эпиклеза, и тем самым оно являет домостроительство Святого Духа:
Как евхаристический хлеб становится, через призвание (эпиклезу), Телом Христовым, так же и миро через призывание (эпиклезу) стало даром Христа, посылающего Святого Духа, через присутствие Его божества. Таинство, μυστήριον, есть тайная, сокрытая вещь. “Тайны Христовы сокрыты от непосвященных, даже от пророков, т. к. Христос передавал их только в притчах”. То же относится и к таинству, т. к. если таинство совершает Бог, то Он совершает его через действие священника. “Когда священник крестит, то крестит не он, но Бог, невидимое присутствие Которого касается главы крещаемого”. “Бог действует через священников, даже недостойных, ради спасения народа”, – утверждает святой Иоанн Златоуст. Разумеется, высокие моральные качества священнослужителя всегда желательны, но не требуются категорически; равно как и вера того, кто принимает дар, никоим образом не влияет на объективную действенность таинства: оно действует всегда ко спасению или к осуждению, – в зависимости от веры. Таинства являются не только знаками, которые подтверждают божественные обетования, или средствами оживить веру и упование; они не только дают, но и заключают в себе благодать и являются проводниками, или помощниками, в приобретении бессмертия, то есть одновременно инструментами спасения и самим спасением.
2. Евхаристия
Учебники богословия называют евхаристию одним из таинств. Они тем самым искажают древнее предание и неизбежно приводят к ошибке, состоящей в том, что “матерью всех таинств” теперь считается не евхаристия, а священство.
Однако установление священства включено в установление Тайной вечери, т. к. епископ прежде всего является тем, кто имеет власть удостоверять: “Слово стало плотью”, и “сие самое есть Плоть и Кровь Господня”, – и действуя во имя Христово, он является тем, кто превращает собрание в евхаристическое служение и явление Церкви Божьей. Тем не менее свидетельство не может быть важней Того, о ком свидетельствуется. Здесь невозможно никакое сравнение: евхаристия – это ни самое важное, ни самое главное среди таинств, но в ней Церковь исполняется и проявляется, и каждое таинство зависит от евхаристии и совершается ее силою, которая собственно и есть сила Церкви. Церковь там, где совершается евхаристия, и членом Церкви является тот, кто принимает в ней участие, т. к. именно в евхаристии Христос “с нами до скончания века”, согласно с Его собственным обетованием. Отлучение же, напротив, прежде всего лишает доступа к чаше, отстраняет от koïnonia (общения).
Верные через причастие становятся единокровными и со-телесными Христу, “превращаются в Царскую субстанцию” (Николай Кавасила), в небесное тело Христово, что позволяет отцу Сергию Булгакову утверждать: “В нынешнем эоне Церковь, как Тело Христово, в своей последней реальности (хотя и невидимой) является тем евхаристическим телом, в которое превращаются евхаристические дары”. Это один из смыслов выражения апостола Павла: “тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге” (Еф.1:9). Если бы матерью таинств было бы священство, то Римский первосвященник со своей вселенской юрисдикцией главенствовал бы над евхаристией, и целое, воипостазированное в папе, главенствовало бы над его частями – поместными церквами. Однако евхаристия как источник всех форм благодати лежит в основе евхаристического понимания Церкви и позволяет видеть в каждой поместной Церкви, возглавляемой своим епископом, “Церковь Божию”. Церковь есть всетаинство, и она совершает каждое таинство посредством своей силы, потому что она есть евхаристия, и все в ней заключено, и “нельзя идти дальше...” “Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго”,-свидетельствует Церковь в сияющем явлении ее полноты в конце литургии.
3. Благодать
В своей Проповеди на Пятидесятницу святой Григорий Назианзин отмечает: “Мы празднуем пришествие Святого Духа, окончательное исполнение обетования... Дела Христа по плоти завершаются... Дела Святого Духа начинаются”. Однако если, по словам святого Василия, “Святой Дух в каждом действии составляет нераздельное единство с Отцом и с Сыном”, то святой Ириней видит домостроительство спасения, исходящее от Отца через Сына к Святому Духу: от сотворения, через воплощение, все обращено к Пятидесятнице. И именно в это первое утро Церкви движение оказывается повернутым вспять: в эпоху Церкви Дух ведет и соединяет всех верных с Телом Христовым, которое Христос предаст в конце времен в руки Отца. Тайна спасения христологична, но не все-Христова; эпиклеза продолжает быть действием, предваряющим охристовление. Так время Церкви открывается к усвоению спасения через освящающую силу Духа – через благодать. В день Богоявления, Голубь в Своем сошествии выражает порыв отеческой любви, в котором Отец устремляется к Сыну и посылает Ему Своего Духа: “Я ныне родил Тебя”. Принять в себя Голубя, открыться Святому Духу означает открыться рождению Иисуса в наших душах. В этом рождестве заключен порыв Голубя, который несет нас ко Христу, когда тварь “рождает” своего Творца (тайна, открывающая во вселенной Богородицу), и, таким образом, “Творец оказывается в сердце творения”. Святой Дух совершает это рождество Христово, охристовление человека.
Gratia, χάρις, благодать есть сила Божья: “Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый” (Деян.1:8). Божественный носитель этой силы – это “Дух благодати” (Евр.13:29). Кенозис Святого Духа препятствует любому концептуальному определению благодати, и школьное богословие в основном занято ее феноменологией и очень мало – ее онтологией. Послание Восточных патриархов различает благодать предварительную, просвещающую, которая обращена ко всякому человеку, и благодать освящающую и оправдывающую. Именно эта последняя действует в таинствах и осуществляет обожение.
Сотворение по образу Божьему предопределяет и, следовательно, предрасполагает человеческую природу к союзу с Богом, открывает ее внутреннему действию благодати. Это соответствие является основополагающим, т. к. оно сохраняет в неприкосновенности человеческую свободу выбора. Благодать обусловлена свободой, которая находит в ней свое содержание, свое что, и благодать предполагает свободу, которая является ее как. Вне этого взаимодействия и взаимодополнения, евангельскому благовестию грозит опасность превратиться в мусульманскую суровость Корана.
Вследствие грехопадения действие Святого Духа сделалось внешним по отношению к природе (ветхозаветный порядок, при котором Святой Дух говорит через пророков, но не находится внутри, т. е. Он как бы касается окружности, но не проникает внутрь ее), и именно в посвящении на Иордане Он сходит на человеческое естество Христа, наполняя его. И именно в день Пятидесятницы Он становится действующим внутри человеческой природы. С этого времени “Святой Дух ближе к нам, чем мы сами”, согласно святоотеческому изречению. Халкидонский собор указывает в человечестве Христа на человеческую природу (второй Адам). Догмат о двух волях во Христе учит об их взаимодействии; человеческая воля свободно следует божественной воле, “неслиянно и нераздельно” и без какого-либо автоматического подчинения. Это взаимодействие создает структуру нашей предвечно данной личности – по словам святого Максима, она является “тождеством по благодати”, – которая тем меньше принадлежит себе, чем больше она превосходит себя. В этом заключается вся тайна человеческого существа, его небесное, литургическое предназначение, которое обретает свою правду и свой мир только в Боге. Призыв идет не извне, чтобы потрясти и заставить, а из самого существа человека (богочеловеческого в силу божественного образа); он отождествляется со своим самым глубоким желанием и становится свободным обретением его начального и конечного предназначения. Это – творческая благодать: человек, согласно отцам Церкви, сотворен с благодатью, уже заключенной в самом акте творения. Полностью человеческой чистой природы не существует; будучи нейтральной, она могла бы только стремиться к демонической автономии; однако ей не дано освободиться от своей богоподобной структуры; даже во зле человек сохраняет свою свободу, извращенную благодать, все равно остающуюся даром, упоением бога зла; и даже если человек может превратиться в дьявольскую обезьяну, эта последняя обладает реальностью, лишь поскольку в ней сокрыт образ. Всякое отрицание всегда вторично, всегда подчинено утверждению, в Боге есть только да, по словам апостола Павла. “Сын Человеческий”, “Небесный Человек”, сошедший с небес, говорит словами, покрытыми тайной человеческого образа в Боге, и этот образ предполагает воплощение, даже вне зависимости от грехопадения, как акт, который завершает творение. Воплощение ведет к Пятидесятнице, ко времени Церкви, к эпохе участия в божественном через многочисленные формы благодати.
Предваряющая благодать делает природу восприимчивой к “веянью Духа Святаго”, она “открывает внимание” и таким образом полностью сохраняет свободу выбора (Деян.13:14); “если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему” (Откр.1:20). Получив от Святого Духа дар способности внимать, человек может теперь сформулировать “да будет”, решающее для его судьбы.
4. Тайна предопределения
Наряду с царским путем таинств нельзя отрицать “благодать через вмешательство”, подобно той, какой является апостольство Павла. Несомненно, существует “природный” Ветхий Завет (Рим.1:18–21), предложенный язычникам, и святые отцы упоминают о преобразовательных явлениях Слова, происходивших до воплощения. Так, космический завет славы Божией руководит святыми язычниками, о которых говорит Библия.
Можно определить отношения между Богом и Его творением, исходя из категории причинности. И именно в этом заключается латинский подход. Бог является первопричиной, божественным двигателем, который порождает движение, жизнь, существование, – и все восходит к первопричине. В этом случае человеческая свобода является лишь вторичной, инструментальной причиной; она происходит от первичной и ею определяется. Если вторая грешит, то это потому, что первая это допускает. Причинный детерминизм фатально располагается во времени, первичное движение неизбежно оказывается в нем, что делает первопричину универсальной предсуществующей причиной всего, и приставка “пред” вводит время в вечность Бога. Человек неизбежно оказывается лишь объектом божественного действия. В причинном плане еще неопределенная идея блаженного Августина доводится железной логикой юриста Кальвина до своего логического конца: praedestinatio ad gloriam, reprobatio ad gehennam (предопределение к славе, осуждение на геенну). Круг замыкается на себе, и выйти из него невозможно.
Для Востока Бог является не первопричиной, но Творцом. Именно сотворение “по образу” помещает свободу вне всякого принципа механической причинности, и святоотеческое понятие о человеке как autexousia (власти над собой) описывает именно его таинственную способность преодолевать всякую природную необходимость и даже стремиться при этом преодолении к божественной свободе, оказываясь microtheos (малым богом). Можно даже высказать совершенно парадоксальное утверждение, что сам Человеколюбец Бог гораздо более обусловлен Своим творением и Своими заветами (“Клялся Господь и не раскается” (Пс.134:4), чем тварь своим Творцом. Воплощение предстает как неизбежный ответ Бога на Свою собственную предпосылку: богоподобие Своего творения. И именно грехопадение человека показывает титанический размах его свободы, которая сама определяет свою судьбу. Дьявол не солгал, говоря: “будете, как боги”. Человек сотворил нечто, чего раньше никогда не было, он сотворил и ввел зло в свою безгрешную природу. Более того, человек определяет форму воплощения как распятую Любовь. Божественная кровь была пролита как раз для того, чтобы сохранить свободу в условиях действия благодати, т. к. Бог, по словам святых отцов, “не может никого заставить любить Себя”.
Но всякая автономность, доведенная до разрыва как своего предела, направлена против природы, т. к. она замыкает человека в его низшей природе, ужесточает его “самость”, разрушает его богоподобную онтологию. Напротив, там, где человек перестает рассматривать себя в своей чистой субъективности и видит себя находящимся в связи с божественным Другим, там, где он открывает себя существующим по благодати, как личность предвечно данную, он разрушает всякую адскую изолированность и преодолевает ее в стремлении к радости друга Жениха и к “да будет” Рабы Господней.
“Стою у двери и стучу”, – говорит Господь, и Он стучится к Своему собственному образу в человеке и в кенозисе действительно ждет и ничего не предопределяет. Повеления Бога и даже предсказания Апокалипсиса могут явить свой условный характер (См. Иер.13:7–10, 13:2–3, 13.): человеческая свобода может их изменить. Человеческое “да будет”, его молитва, чудеса его веры, “абсолютно новое” святости вводят синергическую причинность, стоящую выше всякой предварительной необходимости общего закона. Это – “творческая причинность”, абсолютно новая причина, не связанная с предыдущими следствиями, которая порождает новое следствие и переходит границы, стремясь к брачным отношениям, при которых царственно господствует свободная любовь и где всякое подчинение и всякая зависимость теряют свое значение и переходят в “совсем иное”. Вся тайна иконы Деисус заключена именно в том, что она дает одновременно образ суда и образ брака Агнца.
На своем подлинном уровне вера никогда не является просто согласием, но диалогом, ненавязчиво предлагаемым приглашением и призывом, почти неуловимым, никогда не принуждающим, т. к. Бог убеждает “не воинством и не силою, но Духом Своим” (Зах.1:6). Бог находится “в сердце Своего творения”, более того, внутри сердца Своего творения, что “искупает” духовные отношения, освобождая их от категорий нашего времени. Порочность предопределения, предзнания состоит в том, что они вносят в существование Бога-Творца временные “до” и “после”; первопричина помещается, таким образом, во времени, предвидит и, следовательно, предопределяет, обусловливая все. Однако божественная вечность и религиозная вера, основанные на свободе, не содержат ложных разделений, свойственных нашему времени. Вводя предлогом “пред” категории прошлого и будущего, мы искажаем “вечное настоящее” Бога и саму способность веры переходить границы всякого “пред” при стремлении к этому божественному настоящему и, следовательно, возможность доступа для временного существа к тому, что находится вне времени. Более того, можно сказать, что свобода содержит лишь свою внутреннюю необходимость, которая состоит в том, чтобы проявляться в выборе. Ее глубина заключает в себе самый страшный выбор – выступить против Бога. Невозможно лишь определить себя вне отношения к Богу. Только назначение образа Божьего дает подлинный ответ на любой вопрос Теодицеи и объясняет происхождение зла: даже до какого-либо искушения “бытие по образу Божию” предполагает определенное абстрактное, теоретическое знание о зле, – такое, какое имеется в самом Боге, как следствие Его всеведения. Оно объясняет первый выбор Люцифера до всякого конкретного существования зла и показывает, что даже в этом состоянии невинности свобода сохраняется неприкосновенной, и именно Бог оберегает ее от Своего собственного всемогущества.
Согласно святоотеческой мысли, Люцифер – “Денница” (Ис.13:12) – был действительным alter ego Бога, он оказался в совершенно особой близости и приближении, существующем между Богом и Его тварным образом. Именно его воля-любовь, первоначально направленная на само существо Бога, – останавливается на совершенно теоретической идее зла и отклоняется, извращаясь в результате смены объекта: вместо Единого она направляется на атрибуты Бога, любовь к Богу становится вожделением Его славы. Подобие переходит в преступное желание равенства-тождественности, и это и есть грехопадение. Вместо того, чтобы быть чистым отражением божественной славы, извращение склоняет к тому, чтобы принадлежать только себе, к обладанию обожествленного “себя”.
Понятие “Бога-первопричины” помещает Бога в этот мир, заключает Его в нем. Однако обращаться к Богу – и литургическое воспоминание учит нас этому – никак не означает установления причинного отношения, но отношения подобия; Архетип отмечает Своей печатью – свободой – тип, что заставляет его выйти за пределы всякого определения.
Время включается в вечность; оно может выйти из нее и противопоставить себя ей в абсурдности адского повторения, – так же как оно может снова войти в нее, поскольку “прежде, нежели был Авраам, Я есмь” (Ин.1:58). Начало, первый “момент” времени – “в начале” (in principio) книги Бытия, по словам святого Василия, является мгновением, которое само по себе вневременно, но развитие которого производит время. Благодаря этому, становится невозможным разговор о событиях, “предшествующих” этому моменту, но это позволяет рассматривать и даже предвосхищать уже расширение и прорыв времени в вечность творений.
Воскресенье является действительно “первым днем” целокупного времени, оно является единственно первым – μία, т. к. оно является восьмым днем недели, следующим после седьмого дня евреев, за пределами космической недели и истории. Оно есть его начало и конец; оно есть мгновение, в котором вечность породила время, и оно есть мгновение Второго пришествия, когда вечность вновь принимает в себя время. За неимением более глубокого понятия об отношениях между временем и вечностью, за неимением более четкого учения о сотворении ad imaginem (по образу), вместо учения о причинном творении ex nihilo (из ничего) Запад, перед лицом грозного тезиса о двойном предопределении, останавливается на пол пути и говорит, в лучшем случае, об одном предопределении ко спасению. Как бы то ни было, это – учение об относительном спасении, ставшее эсхатологией. Рабство греху превращается в подчинение благодати, т. к. первичная свобода выбора стала трансцендентной. Перед лицом непреодолимых трудностей подобного упрощения классическая ссылка на невыразимую тайну здесь в действительности не приемлема. Произвол божественного выбора избранных и проклятых не имеет по-настоящему ничего таинственного.
В обычных толкованиях текста Послания к Римлянам (Рим.1:9), предопределение обусловливается предвидением Бога, и местоимение “мы” из Еф.1:3–12 и из других мест понимается в ограниченном и совершенно произвольном смысле только “избранных”. Однако у апостола Павла “призванные” и “христиане” являются синонимами. С другой стороны, апостол Павел часто использует антропоморфные и временные понятия, его терминология порой весьма расплывчата и неадекватна его мысли. Но основополагающим для его мысли является в высшей степени волюнтаристское богословие. Основная тема Послания к Римлянам – это спасение верой и жизнью, исполненной благодати и соответствующей вере. Главное и основное противопоставление апостола Павла – не между верой и делами, а между делами веры и делами закона. В более глубоком смысле, вне всякого вероучительного предубеждения, предопределение является только условной формой для обозначения тайны “любви Божией”, т. к. любовь определяет – предопределяет – Бога, а не человека, если желательно употребить это понятие. Весьма характерно, что в тексте Рим.1(“Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного человека сделаются праведными многие”) греческие термины παρακοή (непослушание) и ὑπακοή (послушание) крайне редки даже в классическом греческом языке. Их редкость указывает на необычный смысл. Бездне непослушания отвечает бездна послушания. Нарушение границ является не юридическим, а онтологическим. Послушание Христа есть послушание Слова Своему Отцу. Через свою несказанную глубину оно ведет к адамовой обнаженности, к “другому человечеству”, по словам святого Григория Нисского, т. е. к изменению человеческого существа.
В Рим.1апостол Павел говорит об историософской тайне Израиля, и так же, как в случае Иакова и Исава (тема, столь любимая деятелями Реформации), речь идет скорее о парадоксах Провидения, об исторической теме, о метаисторическом смысле истории, чем о спасении. Точно так же образ горшечника являет только один из многочисленных аспектов божественной премудрости, но никоим образом не описывает все отношения между Богом и человеком. У апостола Павла было достаточно чувства истинной тайны, чтобы не соскользнуть в подобное упрощение. Конечно, “это Бог производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению”, но антиномия немедленно восстанавливается: “Со страхом и трепетом совершайте свое спасение” (Флп.1:12). По словам святых отцов, добродетели принадлежат Богу, но пот и труд, страх и трепет принадлежат людям: “Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы (всех) помиловать” (Рим.13:32). Всякой ограничивающей рационализации Павел отвечает исповеданием истинной тайны: “неисповедимы пути Его”. Человеку подобает почтить их молчанием. Docta ignorantia (ученое незнание) противостоит любому прибежищу невежества. Промысел Творца, “чтобы все люди спаслись” (1Тим.1:4; Рим.1:32), бесконечно более таинственен и более непостижим, чем двойное предопределение, столь по-человечески бедное со своей прямолинейной логикой. “Комплекс избранности” говорит о болезненном состоянии, которое свидетельствует о несчастном сознании, страшащемся ада.
5. Таинство крещения. Вступление в Церковь
Слушатели апостола Петра спрашивают, что они должны делать. “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа” (Деян.1:3). Ясно видно, что от упразднения прошлого мы переходим здесь к харизматизму настоящего, которое ведет к Царству Божьему. Вступление в это Царство-Церковь включает переход через смерть и второе рождение “от воды и Духа” (Ин.1:5). Новообращенный получает печать, σφραγίς, принадлежности к народу Божьему, объединенному во Христе и живущему в новом эоне-евхаристии. Возрождение “водой и Духом” означает единую последовательность “посвящения в христианство”, в которой соединены в “букет спасения” “три главнейших таинства”: крещение, миропомазание и евхаристия.
Обычай крещения детей основывается на словах Господа: “пустите детей приходить ко Мне” (Мк.13:14) и на крещении апостолами “домов” или семей “целиком”, что подразумевает включение туда и детей (1.Кор 1:16). На этом твердо стоит предание: Ориген, Ириней, Тертуллиан свидетельствуют о том, что во II веке Церковь крестила детей, и к III веку это уже является обычной практикой. В эпоху святого Киприана мы видим, что крещение совершается даже ранее восьмого дня после рождения. Во времена апостолов проповедь была обращена ко взрослым, с тем чтобы образовать поколение членов Церкви; и проблема возникает только в следующем поколении. Именно исторический контекст предания разъясняет этот вопрос.
Крещение соответствует обрезанию (Кол.1:11) и заменяет его своим собственным non manufacta (нерукотворным) знаком anagenesis (возрождения) и принадлежности к новому эону. “Покайтесь и веруйте в Евангелие” (Мк.1:15), акт веры предшествует действию Святого Духа и как условие участия в евхаристии следует за ним. Этому требованию веры отвечает библейское понятие глубинной связи поколений: детей ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно от духовной целокупности родителей или даже дальних предков (в случае неверующих родителей). Во всех случаях крестные родители и духовная семья Церкви исповедуют веру, необходимую для совершения таинства. Тем не менее, как общее правило, в сакраментальном домостроительстве главную роль играет то, что исходит свыше, от Бога, человеку остается лишь открыться, для того чтобы принять энергию благодати. Состояние его сознания, его способность к пониманию всегда и безусловно являются совершенно несоизмеримыми с невыразимостью события. Тайна остается и останется непостижимой для любого человеческого возраста; от ангельской невинности ребенка она переходит к “трепету души перед вратами рая”. Влекомый верою Церкви, человек может лишь сказать: “Верую, Господи! помоги моему неверию” (Мк.1:24). Человеческое полностью подчинено теоцентрическому принципу священного, его богоявлению, откуда его название: μυστηριον. Карфагенский собор V века заявляет: “Взрослые и дети равны перед Богом”; они находятся на одном уровне чистоты восприятия. Знание, которое человек может при этом получить, не является понятийным, но оно дается как очевидность. Тем не менее, оно совсем не является принудительным и предполагает определенное взаимодействие восприятия и активного исповедания. Совершенно бескорыстное божественное явление может встретить отказ. Но приоритет всегда принадлежит предвосхищающей любви Божией: “Творец склонился над землей и встретился со Своим образом”.
Святой Дух есть πανάγιον (Всесвятой), ипостазированная святость, не через присвоение, но по самой Своей природе. “Он является качеством божественной святости”, – уточняет святой Кирилл Александрийский, – что делает Его самим началом освящения, непосредственно достигающим твари. И тварь не обладает никаким даром, который бы не исходил от Святого Духа (святой Василий). В освященной душе Святой Дух присутствует сущностно (святой Кирилл). Будучи Подателем, Он входит в человека и делает его “даром Отцу”. Дело, задуманное Отцом, совершенное Сыном, завершается Святым Духом. Святой Дух воссоздает человеческое существо, и делая его сначала духоносным, а затем христоносным, подобным Христу. Он есть ἅγιον и ζωοποίν, но также и ἐφκαντορικός: являющий Отца и Сына и соединяющий нас с Ними. Святой Кирилл Александрийский видит в этом дар божественного усыновления. Святой Дух преобразует таинства во вместилище, которое заключает в себе и распространяет веяния божественной благодати до такой степени, что Николай Кавасила в своем труде о таинствах может так перефразировать текст Деян.13:28: “Ибо мы этими священными знаками живем, движемся и существуем”.
Символизм
Крещение есть “баня пакибытия”, и через это – ἀναγέννεσις (возрождение): полное переустройство человеческого существа, при котором его плазма принимает подлинный облик по образу Божьему. Это – восстановление нашей адамовой природы, воссозданной и воссоединенной во Христе через Его подвиг спасения. Смерть-погребение и жизнь-воскресение Христа символически выражаются в крещении. Термин βαπτίζω означает “погружать, окунать”, и древний обычай настаивает на единственном истинном способе крещения – через погружение, и Ерм говорит о “сошествии в воду”. Очень глубокая связь с сошествием в ад полностью исчезает при обычае крещения через обливание или через окропление. Так таинство воспроизводит всю образную кривую спасения: троекратное погружение заставляет пройти через тридневное (triduum) пребывание во гробе и сошествие в ад, выход же из воды есть возвращение в незакатный день. Крещальная вода приобретает сакраментальное значение очистительной крови Христовой, и, таким образом, на пороге новой жизни воздвигается Крест.
Вещество таинства
Возрождение совершается ex aqua (от воды) и ex Spiritu Sanctu (от Духа Святого) (Ин.1:5–7). В литургическом смысле праздник Богоявления совершает великое таинственное освящение всей материи. Будучи олицетворенным освящающим началом, Святой Дух в Своем сакраментальном пришествии сообщает Свои энергии крещальной воде, воде живой, ὕδωρ ζω ν, делает ее проводником благодати и водой-родительницей, μήτρα ὕδατος (утроба воды). Великие библейские прообразы – потоп и Ноев ковчег – дают Ерму основание сказать, что “Церковь воздвигнута на водах”, а святому Кириллу Иерусалимскому: “Дух Божий носился над водой... Начало мира – это вода, и начало Евангелия – это Иордан”.
Через эпиклезу-призывание вода очищается от всякого злого влияния и получает освящающую силу. Вода не просто возвышается Святым Духом до уровня проводника Его действий, или инструментальной причины, но Святой Дух нисходит в саму воду. По словам святого Кирилла Иерусалимского, вода отныне соединена со Святым Духом, действие которого осуществляется в ней и через нее. Так же как и миро, μύρον, χρι σμα, которое используется в миропомазании, через эпиклезу становится “даром Христа, действенным через присутствие Божества Святого Духа”. Святой Дух присутствует в мире, так же как Он присутствует в крещальной воде, Он действует в нем и через него. Таким образом, миро является “вместообразным” – ἀντίτυπος – Святого Духа: оно не просто образ или символ, но действительно содержит и образует элемент, под которым Святой Дух осуществляет и скрывает Свое действие. Наше тело участвует в благодати в той же степени, как и наш дух и, следовательно, оба они отражают образ воплощенного Слова. Вот почему в символике таинств священный знак есть сама означаемая вещь. Signum (знак) не только производит, он равен res (вещи).
Совершение таинства
“Обет” крещения, “великое и радостное исповедание веры в Пресвятую Троицу”, настоящая клятва верности Христу, требует предварительного настроя души. Именно с этой целью в качестве начального действия совершается чин запрещения дьявола и отречения от зла: священник дует на лицо “умершего” дуновением Жизни, аналогично вдыханию жизни при сотворении человека; стоя лицом к Западу крещаемый “воспроизводит” борьбу, которую он будет вести всю свою христианскую жизнь, и торжественно отрекается от власти врага.
Обряд снятия одежд и облачения в белую ризу означает возврат к состоянию невинности: “Мы сбрасываем кожаные одежды, чтобы вернуться назад к царской ризе... Мы отрекаемся от одного существования, чтобы возвратить себе другое... Крещальная вода разрушает одну жизнь и создает другую”.
Призывание имени Святой Троицы (откуда наименование – таинство Пресвятой Троицы) и вливание освященного елея в крещенские воды освящают водную материю таинства. Помазание тела напоминает о помазании тела Иисуса, подготавливавшем Его к погребению: “Мы предлагаем Господу подражание Его смерти”. Бог отвечает на это воскресением. Мы получаем основу существа, и творение, подобно статуе, “переделывается” согласно со своим божественным архетипом, и в нем заключается целостность восстановленного образа. Крещальная вода стирает печать врага, пятно первородного греха, и ставит σφραγίς, печать, или нерушимую метку, по которой ангелы признают верных; тварь выходит из “бани пакибытия” отмеченной, словно овца своим пастырем, ставшая незапятнанной, и душа становится харизматически предрасположенной к тому, что является святым.
Присутствие Святого Духа во время Богоявления проявляется в великом свете Иордана, откуда происходит наименование φωτισμός (просвещение), которое святые отцы дают крещению, так же как и “приход-пришествие”. “Праздник Светов” отмечает рождение существа в божественном свете: “крещение являет Творца твари, истину – уму, Единственно Желанного – сердцу”.
Христос действует священной силой Святого Духа, которого Он посылает на землю, что подчеркнуто ролью священников в совершении таинств, которые выражают действующую силу Церкви: “Не священник крестит, но Бог, незримая сила Которого касается главы крещаемого”, – объясняет святой Иоанн Златоуст. Вместо западной указательной формулы: Ego te baptise (Крещаю тебя), более древняя восточная формула выражена в третьем лице: Baptisatur servus Dei (Крещается раб Божий). Зафиксированная с VI века, она восходит к первоначальной традиции.
Образ Божий восстановлен, и вместе с ним – орган восприятия благодати; духовные чувства освобождаются и открывают возможность благодатному мышлению, постижения нетварной славы и общению с божественным. “Мы же все... как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ”, – говорит апостол Павел (2Кор.1:18). “С того момента, как мы крещены, наша душа, очищенная Святым Духом, становится лучезарнее солнца, и мы не только созерцаем славу Божию, но еще и принимаем ее сияние”, – изъясняет святой Иоанн Златоуст. “Итак, кто во Христе, тот новая тварь” (2Кор.1:17).
6. Таинство миропомазания
Миропомазание непосредственно следует за крещением. Образ Богоявления, миропомазание включается в чин христианского посвящения. Соединение двух таинств является весьма древним обычаем. Святоотеческое учение о смысле этой связи предельно ясно: крещение вновь запечатлевает стертый божественный образ, миропомазание восстанавливает подобие Божие. Это дар совершенства (“будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”) и святости (“будьте святы, как Я свят”). Миро – μυ ρον – или χρίσμα – помазание – есть “сам символ нашего причастия Святому Духу”. Миропомазание вводит нас в человечество Христа, открывает нас для святости; это есть непосредственное проникновение нетварной божественной благодати в души. Дарование Святого Духа уже есть дар Царствия Божия: Святой Дух назван Царствием Божиим и Он устанавливает воцарение Бога в нас. Крещение воссоздает в жизни каждого новокрещеного Страсти и Пасху, а миропомазание является нашей Пятидесятницей. За пробуждением к жизни, которое есть крещение, следует усвоение Пневмы и Ее энергий, для актуализации полученного дара. После того, как мы приняли бытие, миропомазание сообщает нам силу и движение, δύναμις, энергию действий. Оно вооружает нас и делает воинами и атлетами Христа. Это – харизматическое апостольство любви, “дабы свидетельствовать без страха и слабости”, как говорит Эльвирский собор. Христос-Духоносец посылает Святого Духа на нас, чтобы посвятить нас в свидетели и пророки. По словам Николая Кавасилы, Святой Дух нам сообщает “силу действовать во славу Божию”. “Не забывай о Святом Духе, в момент твоего просвещения Он готов отметить твою душу Своей печатью, Он даст тебе небесную и божественную σφραγίς (печать), которая заставит трепетать бесов; Он вооружит тебя для битвы; Он даст тебе силу... Он будет твоим хранителем и твоим защитником, Он будет заботиться о тебе, как о Своем собственном воине”; “облеченные в доспехи Святого Духа, вы будете твердо стоять против любой супротивной силы”. Молитва над святым миром испрашивает “божественную и небесную энергию дабы сделать твердым и непоколебимым”. Апостольские правила называют миро βεβαίωσις τη ς ομολογίας, удостоверением исповедания.
Вещество таинства
Освящение святого мира, составленного из оливкового масла и драгоценных бальзамов (числом 57), совершается в Великий четверг самим патриархом, что подчеркивает величие события: масло теперь не средство, но проводник Святого Духа, являющего Христа. Эпиклеза, аналогичная евхаристической эпиклезе, испрашивает у Отца ниспослания Святого Духа и Его сошествия в “царственном помазании”; и это не только сила, исходящая от Святого Духа (по латинской молитве), но сам Христос, приходящий в Духе, это Его пришествие для приобщения к нам.
Да охватит нас страх и радость, священное рвение... Высочайшее таинство совершается днесь... В сей миг весь апостольский лик возлагает руки на нас. Через эпиклезу масло становится “даром Христовым, действенным через присутствие Божества Святого Духа” (Святой Кирилл, Поучения огласительные). Это – учение, разделяемое святыми отцами, о действительном присутствии Святого Духа.
Совершение таинства
Миро является элементом, под которым Святой Дух скрывает Свое присутствие. Через его прикосновение “тело помазуется видимым миром, душа – Святым Духом”. Это не только “знаменование чела”, но и помазание всех частей тела, – так во всей целостности своего устройства человеческое существо “отмечается печатью даров Святого Духа”. В действительности человек в целом является харизматическим существом. Ничуть не являясь просто подтверждением обетов крещения, помазание делает действенным все благодатные силы. Миропомазание следует ветхозаветным священнодействиям, и хиротония, χειροτονια, возложение рук, включается в помазание миром.
Таинство царственного священства
В эпоху Ветхого Завета Израиль является избранным, святым народом, отделенным от других, чтобы стать “царством священников” (Исх.13:6). Однако лишь колено Левиино исполняет обязанности священства (Втор.13:8). Всеобщее священство является лишь обетованием, которое осуществится в эпоху Нового Завета. Через кровь Иисуса все люди, следуя за божественным Предтечей, получают доступ в святая святых (Евр.1:19–20). Верные, таким образом, возвышены до степени священства и совершают сослужение вместе с Иисусом, Первосвященником по чину Мелхиседека. Владыка Кассиан в своем очерке “Иисус Предтеча” показал, что наше литургическое, священническое служение, введенное Иисусом, начинается уже сегодня. С этого времени верные составляют во Христе “священство святое, чтобы приносить духовные жертвы”, “царственное священство”, чтобы возвещать “совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет” (1Пет.1:5–9). Наше сослужение с Иисусом является участием в Его священстве и в Его царском достоинстве. Помазание (1Ин.1:21–24), предназначенное в Ветхом Завете только для царей, для священников и для пророков, в Церкви распространяется на всех верных. Ни национальный, ни пространственный элемент (как, например, Иерусалимский храм) не является больше определяющим (Ин.1:21–24), но все крещеные собраны в народ Божий – λαὸς Θεου – во Христе, и каждый крещенный является λαïκός, мирянином, членом народа, членом царственного священства – βασίλειον ἱεράτευμα, священником.
Таинство миропомазания, которое является таинством всеобщего священства, утверждает всех в абсолютном священническом равенстве в одной и той же единственной освящающей благодати личной святости. Из этого равенства всеобщего священства выделяются некоторые и поставляются через божественный акт епископами и пресвитерами. Различие служений является функциональным и не осуществляет никакого онтологического различия. Так, например, согласно преданию, которое восходит к святому Игнатию Антиохийскому, божественное отцовство представлено епископами; исходя из своих функций, каждый епископ или священник является “отцом”. Как гласит Апостольская дидаскалия “епископ является после Бога вашим отцом, возродившим вас водой и Духом к божественному сыновству”. Но священник, запрещенный в служении, отсеченный от Церкви, источника его должностной власти, его харизмы должности, оказывается лишенным своих функций, и тогда харизма больше не передается. Другое предание восходит к “отцам пустыни”. Это харизматики, дары которых являются личными, связанными с их личной святостью; они обладают дарами сердцеведения и различения духов и мыслей. Они являются pater (отцами), или аввами, в такой степени, что сборники их изречений и деяний носят название Патериков. Без всяких клерикальных функций главное, что необходимо “духовному отцу” – это самому стать “духовным”, харизматиком.
Совершенно однородный характер духовности очень свойственен православной традиции. Есть только одна единая для всех духовность, без всякого различия на епископов, монахов и мирян, и это – монашеская духовность. Православие никогда не принимало деления на евангельские требования, предписания и советы; Евангелие, во всей целостности его требований, обращено ко всем вместе и к каждому в отдельности. И именно в свете этой единой духовности нужно пытаться понять достоинство мирян как царственного священства.
Если мы обратимся к концу III и началу IV веков, эпохе монашества, мы увидим, что святой Антоний и святой Пахомий были мирянами, искавшими в пустыне наиболее подходящие условия для достижения совершенства духовной жизни и всецелой верности евангельским требованиям. У отшельников, затворников и, позднее, в общежительных монастырях священники были только для того, чтобы совершать таинства покаяния и питать евхаристическими дарами. Игумены, или настоятели монастырей, избиравшиеся общиной, являлись чаще всего простыми монахами, не облеченными в священнический сан. Иконоборчество показало стойкость монахов, и миряне приходили за духовными советами к этим старцам, которые часто в Патериках носят наименование пророков (пророк Зинон или Иоанн, ученик Варсонофия). Это – служение советом, не сакраментальная власть “вязать и решить”, отпускать грехи, а средство врачевания, чтобы избежать их в будущем.
Одна черта этой духовности еще больше подчеркивает ее единство. Если во всех других отношениях женщина является существом, подчиненным мужчине, то, напротив, в харизматическом отношении благодати мы видим полное равенство мужчины и женщины. Климент Александрийский говорит: “Добродетель мужчины и женщины – это одна и та же добродетель... та же линия поведения”. Феодорит упоминает о женщинах, “которые подвизались не меньше, если не больше, чем мужчины... Обладая более слабой природой, они проявили такую же решительность, что и мужчины”. Их сила заключена в “божественной любви” и в особой благодати отдачи себя Христу. Никто не считает их духовно ниже. Их признают способными духовно руководить монахинями, на тех же условиях, что и мужчины. Женщина-харизматик, Θεοφώτιστος, просвещенная Богом, получает наименование аммы, или духовной матери. Чаще всего они являются матерями своих монастырей, как Пахомий был отцом своего. Люди из мира приходили к ним испросить совета (святая Евфросиния, святая Ирина). Около 1200 г. некий авва Исаия составляет книгу изречений святых матерей под названием Материкон, аналогично Патерику. За исключением власти совершения таинств и учительства в Церкви (оставленной за епископами), матери у монахинь имели те же права и обязанности, как и отцы у монахов. Они не матери Церкви, но именно духовные матери, и им позволено распространять истинное учение; литургические тексты упоминают женщин, которые явили себя “равноапостольными” (святая Елена, святая Нина). Это доказывает “Пир десяти дев” святого Мефодия. Житие святой Синклитикии аналогично житию святого Антония, а изречения святых матерей помещены в Апофтегмах (Изречениях) святых отцов (в алфавитном порядке). Преподобный Пахомий посылает своей сестре устав своего монастыря, чтобы монахини руководствовались “теми же правилами”. Также и Правила святого Василия предполагают, что монашеские добродетели не чужды женской природе.
Можно понять важность этих черт монашеской жизни, если вспомнить, что наряду со Священным Писанием именно душеспасительные книги духовно формировали многие поколения. И вот почему письма духовного наставления, адресованные мирянам, ничем не отличаются от советов, даваемых монахам (советы святого Иоанна Златоуста, письма Варсонофия и Иоанна, святого Нила и т.п.). “Когда Христос повелевает следовать узким путем, Он обращается ко всем людям. Монах и мирянин должны достичь тех же высот.” На первый взгляд это может показаться парадоксальным, но в действительности единая духовность, обращенная ко всем, создана монахами, не облеченными священническим саном. Именно в ее свете мы можем найти наиболее точное определение мирянского состояния и достоинства.
Монахи, по словам святого Нила, “ведут аскетическую и апостольскую жизнь согласно Евангелию”, это те, “кто хочет спастись”, и поэтому “совершенно немилосердны к себе”. Легко видеть, до какой степени эти принципы являются всеобщими, и они предельно ясно утверждают, что по отношению к требованиям Евангелия существует полное равенство между всеми христианами.
Τά πάντα ἐπίστης (“Да постигнешь все”), – говорил святой Феодор Студит и четко выражал это единство в согласии с преданием. Речь идет, главным образом, о том или ином способе применения этих требований к жизни. Хотя миряне не дают обетов целомудрия и нестяжания, они должны исполнять их, находя им точное соответствие. “Те, кто живет в миру, хотя и в супружестве, должны во всем остальном походить на монахов”, “вы совершенно ошибаетесь, если думаете, что есть вещи, которые требуются от мирян, а другие – от монахов... Они должны будут дать один и тот же отчет”. Мудрость мирян состоит в том, чтобы приближаться к монахам, к их “эсхатологическому максимализму”, находиться в состоянии пламенного ожидания Второго пришествия. Средства всегда одни и те же для всех: всесилие молитвы, пост, чтение Священного Писания и дела милосердия. Все виды монашеского делания вменяются всем без исключения.
Таким образом, традиция единодушно подчеркивает важный факт: богословские рассуждения об особой духовности мирян – это совсем недавнее изобретение. Даже если они и порождены условиями современного мира, то они никогда не существовали в древнем предании и вызвали бы тогда глубокое изумление. Богословское различие между духовностью епископата и духовностью мирян было бы совершенно непонятно отцам Церкви. Святые отцы постоянно говорят о народе Божием, о всеобщем священстве, но никогда при этом не делают различия между священнослужителями и мирянами.
Разница рождается не в менталитете святых отцов и не у представителей монашеской духовности (в пустынях и монастырях), но в городах, в приходах, и первые тревожащие признаки появляются уже в IV веке. Сами миряне изменяют своему достоинству священников, оскудевают, теряют свою священническую сущность, и тогда епископы все более и более становятся точками сосредоточения священного и священнического. Это совсем не разделение и, тем более, не противопоставление, а формирующаяся дистанция, которая является следствием опасного отказа мирян от даров Святого Духа. Отречение от своего священнического состояния приводит к тому, что миряне становятся лишь βιωτικοί и даже ἀνίεροι (лишенными посвящения, непосвященными). Однако таинство миропомазания поставляет каждого в члена всеобщего священства, вводит в ἱερὰ διακόσμησις, священный чин, или служение.
Каждый верный во время литургии является λειτουργός, сослужащим литургию вместе с епископом. Все, как единый народ Божий, активно участвуют в таинстве, в евхаристической анафоре, в эпиклезе. Хотя только епископы обладают властью совершать таинства, но они служат литургию, управляют и учат всегда с согласия (консенсус) мирян, с участием его собственной харизмы распознавания, чтобы “судить, испытывать и свидетельствовать” (1Кор.13:29; 1Сол.1:21). “Хранителем благочестия является весь церковный народ”. Однако исполнение этих харизм предполагает, что их подлинный субъект, “народ”, образован правильным образом, т. к. литургическое значение человеческой личности всегда связано с Телом. Индивидуализм, распад священства на индивидуумы является упадком, который ведет к истощению харизм, разрушает священническую сущность мирян, и консенсус прекращает свое действие.
Если епископы передают литургическую и пастырскую власть священникам, которые на приходах являются представителями своих епископов, то они делают это на основании таинства канонического священства, в котором каждый священник утверждается божественным актом в своей функции-служении. По мере надобности епископы передают власть учительствовать и даже проповедовать мирянам, учителям богословия, делая это на основании их собственного всеобщего священства – их состояния “помазанников Святого Духа”. В обоих этих случаях речь идет совсем не о человеческом поручении, что важно для устройства Церкви, которое всегда является священническим.
Миряне представляют церковную среду или даже церковное место, которое одновременно является миром и Церковью. Они не имеют власти раздавать средства благодати (таинства), их сферой вместо этого является жизнь благодати, ее проникновение в мир. Царственное священство обладает властью космического освящения, “космической литургии”, просто через присутствие “освященных существ”, “обителей Святой Троицы”. Именно здесь пророческая харизма живет и открывает перед мирянами всю необъятность мира вместе с совершенно особой ответственностью апостольства и миссии через жизнь, через священническую сущность, которая вытесняет любой неосвященный элемент из мира. Именно в социум, в человеческие отношения, в структуры мира сего несут они “трисолнечный свет”, истину пережитого догмата, благодать, полученную в Церкви и предложенную миру.
“Спасе, Ты дал благодать пророкам, царям и священникам, дай ее и через этот святой елей тем, кто получает Твое помазание”. Миро, называемое “елеем радования”, делает нас “помазанниками Святого Духа”. Размышление об этом состоянии, основанное на словах апостола Павла “мы сделались причастниками Христу” (Евр.1:14), приводит святых отцов, через дедукцию, к утверждению, что каждый христианин облечен в тройственное служение: царственное, священническое и пророческое.
Молитва, являющаяся центром таинства, испрашивает печать даров Святого Духа и разъясняет его цель: “Да изволится ему служить Тебе в каждом действии и в каждом слове”. Это – посвящение и отдача всей жизни служению царственного священства, без всякого остатка, без утаивания чего-либо от страшной “ревности Божией”. Целостность посвящения подчеркивается чином пострижения волос, аналогичным чину при посвящении в монахи. Молитва обряда гласит:
Ты, Господи, научивший нас тому, что мы должны делать все ради Твоей славы, благослови служителя Твоего, который дал Тебе в качестве залога прядь волос со своей головы. Эсхатологическая направленность молитвы еще более усиливает всецелость посвящения: “Да воздаст он славу Тебе и да узрит он благая Иерусалима во все дни живота его”.
Действия помазания миром сопровождаются формулой: “Печать дара Духа Святаго”, – и символизируют огненные языки Пятидесятницы.
Человек силою Святого Духа “облекается во Христа”, охристовляется. В своей молитве о готовящихся к миропомазанию епископ испрашивает:
Боже, запечатлей их печатью мира непорочного, да будут носить они в своем сердце Христа, дабы быть обителью Пресвятой Троицы. Ясно отмечено замечательное троичное равновесие: запечатленные Святым Духом стали христоносными, чтобы быть храмами, “исполненными Святой Троицей”.
“Идите, научите все народы”, – гласит чтение конца Евангелия от Матфея. Этот призыв, читаемый во время таинства миропомазания, обращен к каждому крещеному. Он означает, что наряду с миссионерами, уполномоченными Церковью, каждый миропомазанный является в некотором роде миссионером, “мужем апостольским”. И всей своей жизнью как внутренней литургией и обителью Троицы, и всем своим существом призван он к беспрестанному свидетельству. Именно для этой цели он всецело посвящен: он является священником своего абсолютно нового существования как приношение и жертва своему Господу.
Тройное достоинство царственного священства
Слова из богослужения и писаний святых отцов иногда предстают перед нами подобно цветам поэзии. Однако они обладают глубочайшей строгостью и величайшим реализмом, т. к. они переносят нас в сердце тайны, где самые прекрасные слова оказываются всего лишь скудными знаками.
Преподобный Макарий Египетский говорит:
Христианство вовсе не является чем-то обыденным, т. к. оно есть величайшая тайна. Размышляй о своем благородном состоянии и над тем, что ты призван к царскому достоинству. Тайна христианства весьма далека от мира сего. И он прибавляет грозные слова:
Если мы еще не являемся царственным священством, то это потому, что мы еще змеи и порождения ехидны. Святой Кирилл Иерусалимский называет знак, который священник чертит на миропомазауемом, “антитипом”, что выражает его соответствие знаку, которым был отмечен сам Христос. Преподобный Макарий дает этому глубокое истолкование: “Так же как во времена пророков помазание было чрезвычайно ценной вещью, выделявшей священников и пророков, так и сейчас духовные чада, помазанные небесным миром, становятся по благодати царями, священниками и пророками небесных тайн”. И Арефа Кесарийский говорит: “Бог дает нам власть и славу стать священниками и пророками”.
Но что означает в жизни каждого человека быть царем, священником и пророком?
1. Царское достоинство
В сирийской анафоре святого Иоанна Златоуста священник испрашивает “Духа чистого, устремляющего нас к царскому сиянию”. Наиболее непосредственное значение этих слов предполагает аскетическое подчинение материального духовному, то есть освобождение от всякой обусловленности миром, многочисленными формами похоти и всеми дьявольскими силами: “Ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего”, – слова свободы Царя. Силой благодати, преображающей его природу, человек может сказать: “я являюсь хозяином своих инстинктов, я властвую над своей плотью и над всеми космическими колебаниями: “царь через господство над своими страстями”, как говорит Икумений. И святой Григорий Нисский говорит: “Душа выказывает свою царственность в свободном владении своими желаниями, это присуще лишь царю; над всем властвовать свойственно царской природе”.
Но всякая свобода от есть одновременно свобода для. Если свобода – это “как” человека и его существования, то она призывает перейти к “что” его жизни, к ее положительному содержанию, и приводит нас к священническому достоинству.
2. Священническое достоинство
Тварное существо предстает в самой своей глубине не только мыслимым, и через это – логическим и абстрактным, но также и любимым. “Бог возлюбил нас первым”, – говорит апостол Иоанн, и именно в этой любви о человеке идет речь, в ней он обретает лицо и имя; только божественная любовь делает из него существо конкретное, подлинно существующее.
Человек, созданный по образу Божию, в своей сущности является единством, и вот почему организм Церкви, отвечая этой природе, является вовсе не навязанным извне учреждением, а самой истиной человека, запечатленной в его природе и являющей его человеком-Церковью.
Когда человек оказывается на уровне своей собственной тайны, он оказывается единством, открытым миру. Искусство великих духовных учителей гласит, что нужно не быть тем, что имеешь, а иметь то, что ты есть. Всегда от иметь переходить к быть. Недостаточно иметь бедность, молитву, но нужно стать бедностью, молитвою. Слова “блаженны нищие духом”, быть может, означают: блаженны не те, кто имеет дух, кто является владельцем, собственником духа, но блаженны те, кто является духом. Именно здесь мы касаемся изменения природы, которое совершается таинством, делая ее священнической.
В Рим.13 апостол Павел призывает нас представить наши тела в жертву живую, что является “разумным служением”; ссылка на служение означает евхаристическую жертву. Послание к Тарсийцам (IV век) гласит: “Жен, пребывающих в девстве, почитай как священников Христа”. Также и Минуций Феликс (II век) замечает: “Тот, кто избавляет человека от погибели, совершает тучную жертву. Вот какова служба, которую мы служим Богу: служба непорочности и любви к истине”. И Ориген весьма ясно соединяет благодать миропомазания и священническое приношение всей жизни, совершаемое верными:
Все те, над кем было совершено помазание святым миром, стали священниками... каждый несет в себе самом свою жертву и сам возжигает огонь на алтаре... чтобы она была поглощена без остатка. Если я отрекаюсь от всего того, чем я обладаю, если я несу свой крест и следую за Христом, я принес жертву на алтарь Божий; если я отдаю свое тело... если я люблю своих братьев настолько, что отдаю свою жизнь за них, если я сражаюсь до смерти за справедливость и истину, если я умерщвляю себя... если мир распят для меня и я для мира, я принес жертву на алтарь Божий и я становлюсь священником моей собственной жертвы”. Речь идет об аскетическом очищении, подготавливающем к жертве. Святой Григорий Назианзин описывает правильное отношение к литургии в следующих выражениях: “Никто не может участвовать в жертве, если он предварительно не предложил в жертву самого себя”. “Мы являемся царями через властвование над страстями и священниками через принесение самих себя в духовную жертву”. Святой Иоанн Дамаскин напоминает об оружии, которое проходит душу Богородицы (Лк.1:35), он присваивает ему наименование “разлитое миро” (Песн.1:3).
Во время литургии служащий священник произносит при возношении приносимых Даров: “Твоя от Твоих Тебе приносяще...” Верный, принадлежащий к царственному священству, продолжает этот акт extra muros (за стенами храма) – он служит литургию своей повседневной жизнью, отвечая таким образом на молитву таинства: “Да изволится ему служить Тебе в каждом действии и в каждом слове”. Стакан воды, предложенный жаждущему, становится чудом, в духовном смысле обретает значение вина брака в Кане. Святой Ефрем Сирин составил гимны как раз на тему богоявленского брака в Кане, из которых можно понять, что сущностью святости, сущностью священства является сила желания Бога, жажда Бога, которая делает человека чистой жертвой. Чистые сердцем Бога узрят, и через них Бог дает себя увидеть.
3. Пророческое достоинство
Пророк – это не тот, кто предугадывает и предсказывает; в библейском смысле пророком является тот, кто восприимчив к “промыслу Божьему” в мире, кто разгадывает и возвещает волю Божию, непрестанное шествие благодати.
Евсевий Кесарийский в “Изложении Евангелия” пишет по поводу таинства миропомазания: “Мы возжигаем пророческий фимиам повсюду и приносим ему в жертву благоухающие плоды практического богословия”. Вот прекрасное определение состояния мирян в его пророческом аспекте. Каждый член царственного священства открывает для себя живое, богоявляющее богословие. То же говорит святой Икумений: “Цари через властвование над нашими страстями, священники – чтобы умерщвлять нашу плоть, пророки – как посвященные в великие тайны”. И в том же важнейшем смысле говорит Феофилакт: “Пророк, так как он видит то, что недоступно зрению”.
Христианство в величии своих исповедников и своих мучеников является мессианским, революционным, взрывным. В царстве кесаря оно призывает нас искать и находить то, чего там нет: Царствие Божие. Но это означает как раз то, что мы должны преобразовать облик мира, изменить его преходящий образ. Изменить мир – значит перейти оттого, чем мир еще не обладает – и именно поэтому он есть мир, – к тому, во что он преобразуется и через это становится иным явлением – Царствием Божиим.
Это – центральный и важнейший призыв Евангелия, призыв к христианской силе, которой берется Царство Божие. Святой Иоанн Креститель – это не только свидетель Царства Божия, но место, где мир побежден и где присутствует Царство Божие. Он является не только возвещающим его гласом, он есть его глас. Он – друг Жениха, тот, кто умаляется и становится невидимым, чтобы Другой рос и являлся миру. Вот пророческое достоинство: быть тем, кто своей жизнью, Тем, кто уже присутствует в нем, возвещает Того, кто грядет.
7. Таинство покаяния
“И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему” (Лк.13:47–48); более чем свидетели, т. к. Господь передает апостолам власть прощать: “Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся” (Ин.13:22–23).
Классический текст святого Киприана хорошо объясняет церковную практику: “Да исповедует каждый свой грех, пока согрешивший находится еще в веке сем, пока его исповедь может быть принята, пока разрешение и прощение грехов, даваемые епископами, угодны Господу”.
Именно епископ является “домостроителем” покаяния, он выслушивает исповеди грешников и дает отпущение. С увеличением числа общин епископ перепоручает пресвитерам совершение исповеди и домостроительства покаяния. В Константинополе в IV веке мы уже видим специальных священников, принимающих покаяние, – πρεσβύτερον ἐπὶ τη ς μετανοίας. И более того, в некоторые периоды (X и XI век) духовные люди – простые монахи, а не священники – выполняют в порядке исключения роль духовников, особенно в монастырях.
Институт старцев, которые в гораздо большей степени являются “духовными отцами”, чем “директорами совести”, являет православный народ в постоянном поиске не формальной иерархической инстанции, а живого проявления харизм, авторитета, который исходил бы не от функций, а непосредственно от Бога, и в котором бы являлся Святой Дух. Πνευματικὸς πατήρ – это прежде всего тот, кто сам рожден от Святого Духа. Наименование пророка присоединяется обычно к именам великих духовных деятелей, они обладают благодатным даром “пламенной молитвы”, сердцеведения и διάκρισις, различения духов и мыслей. В добавок к этим дарам, подобно мудрым врачам, они настойчиво направляют человеческие способности на благие цели. Некоторые учителя занимаются опытной психологией, даже психоанализом. Современные психиатры находят удивительно богатый научный материал в трудах Оригена, Евагрия, Диадоха, Макария и Иоанна Лествичника... Эти авторы хорошо знают о существовании подсознания и всю опасность вытеснения в него. “Многие страсти таятся в нашей душе, но ускользают от внимания. Искушение открывает их.” Они четко разделяют различные психические зоны и никогда не смешивают между собой физические, психические, нравственные или бесовские причины. Замечателен их психогенез; проходя через всю гамму “внушений”, зло доходит до грозной филавтии, себялюбия. Итак, “тайная мысль разрушает сердце. Тот, кто таит, становится больным... Очевидным признаком, что мысль исходит от беса, является то, что мы краснеем, когда открываем ее нашему старцу”. Раскрытие души не дает сформироваться комплексам и разоблачает их, излечивает болезненные угрызения совести. Духовный отец передает Святой Дух своим ученикам, как некогда Илия Елисею. “Он является, – говорит святой Григорий Назианзин, – хранителем Божьего человеколюбия”. Старцы, простые монахи без священного сана, часто бывали “духовными отцами” епископов. Святой Симеон Новый Богослов объясняет это отступление от правил монашеским состоянием, которое является по своей сути состоянием покаяния: будучи мастерами этого искусства, старцы могут помогать другим. Однако в ХII веке знаток канонического права Вальсамон четко различает служение советом и власть отпускать грехи, и подтверждает классическое предание, согласно которому обязанность отпускать грехи возлагается на епископов и священников.
Исповедь называется “эксомологезой”, ἐξομολόγησις, признанием вины, за которым следует отпущение. Для Климента Александрийского исповедующий является как бы “ангелом Божиим” или “ангелом покаяния”, способным проникнуть в душу грешника и открыть ее. Он прежде всего есть врач, лечащий больных, “лекарь Божий”. Греческий термин metanoia лучше, чем латинский термин paenitentia согласуется с основополагающим понятием духовного врачевания. “Понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отыдеши”, – гласит молитва перед исповедью. Также и Трулльский собор (692 г.) четко это определяет: “Приявшие от Бога власть решити и вязати должны разсматривати качество греха и готовность согрешившаго ко обращению, и тако употребляти приличное недугу врачевание”. Анастасий Синаит (VII век) рекомендует верным исповедоваться “Богу через священников” и в то же время “найти человека духовного, опытного, способного нас излечить... дабы мы исповедовались ему, как Богу, а не как человеку”.
Тысячелетний опыт Церкви доказывает спасительное значение исповеди. Ибо вина укореняется в душе и отравляет внутренний мир. Она требует хирургической операции, которая обрезает корни и выводит прегрешение наружу, для чего необходим свидетель, который выслушивает, чтобы нарушить одиночество и ввести таким образом в согласие с Телом. Положительное открытие психоанализа заключается в том, что нужно подвести пациента к тому, чтобы он согласился на диалог, к преодолению самой неспособности к диалогу, помочь ему превозмочь свой страх, который мешает ему обратиться к другому, т. е. провести операцию над смертельным одиночеством, чтобы восстановить течение общения. Историк Созомен провозглашал в V веке: “Чтобы испросить прощение, совершенно необходимо исповедать свой грех”. Исповеданное прегрешение снято с души; но как сделать его несуществующим? Дело в том, что нечистая совесть – это не только угрызения из-за совершенного прегрешения, но также и тоска по утерянной невинности. Человек ищет прощения, но в самой глубине самого себя он надеется на уничтожение зла, и именно это столь желанное прощение греха требует отпущения через таинство. Выведенное наружу, даже поведанное и таким образом объективированное прегрешение может еще угрожать извне. Лишь отпущение через таинство безвозвратно уничтожает его и приносит полное исцеление. Верующие психиатры знают это действие таинства, ведущее к полному освобождению, и часто посылают своих больных довершить их собственный курс лечения в церковной “лечебнице” благодати. Снова стать свободным означает уметь использовать свое прошлое для созидания настоящего, иметь возможность преодолевать свое прошлое как автоматическую причину нашего состояния. Иметь возможность избавляться от этих причин означает стать хозяином своей судьбы, свободно структурировать свои обстоятельства, господствуя над ними.
Акт прощения помещает нас в самый центр отношений между Богом, Святым, и человеком, грешником, и нужно осознать бесконечную важность этого акта. В него вовлечено не всемогущество Божие, способное стереть и сделать несуществующим; речь идет об Агнце, который был заклан от создания мира, речь идет о Христе, который, по словам апостола Павла, “простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту” (Кол.1:14). Сотворение мира коренится в заклании и власть прощать исходит из цены крови, пролитой распятым Агнцем. Именно потому, что Христос берет на Себя грехи мира, отвечает на любовь Отца Своей несказанной любовью к нашему миру, Он обладает “моральной” властью изгладить из памяти и прощать, и делать нас чадами Отца. Молитва Господня ставит условием нашего прощения “подражание” с нашей стороны, в котором мы призываемся сойти в ад всеобщей виновности, где виновны все, что каждый верный исповедует перед причастием: “от нихже (грешных) первый есмь аз”.
В XII веке знаток церковного права Вальсамон указывает на семь лет как возраст для первой исповеди, что является современной практикой. Если и существует, по словам апостола Иоанна (1Ин.1:16–18), различие между грехом ad mortem (к смерти) и другими, то не существует конкретных перечней простительных и смертных грехов. Молитва таинства испрашивает прощение прегрешений “вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и в неведении, яже во дни и в нощи, яже в уме и в помышлении”: здесь все охвачено одним и тем же сердечным актом без всякого анализа или классификации, – ведь оскорблен Бог и Его милосердие. Для кающегося православного невозможно было бы задаваться вопросом, находится ли он в состоянии благодати или нет. Он приходит, как нищий, вымаливая свое спасение. Даже после исповеди, в момент причащения, он исповедует, что он есть “от нихже (грешников) первый”, и на возглас служащего священника “Святая святым!” он может лишь ответить: “Един Свят, Един Господь!”
Публичное покаяние сохранялось в некоторых местах параллельно тайному покаянию, однако встречалось все реже и реже. В конце концов, последнее становится преобладающим. Оно сохраняет во всей своей силе принцип sigillum, или абсолютной тайны исповеди под страхом отлучения.
Отпущение
После исповеди и епитимии (упражнения в покаянии), оставленной на усмотрение исповедующего, если таковая требуется в данном случае, исповедующий произносит разрешительную молитву. Епитимия, взыскание, не является наказанием; юридический момент “удовлетворения” полностью отсутствует. Это лекарство, и духовный отец ищет органическую связь между больным и способом врачевания. Цель состоит в том, чтобы поместить кающегося в условия, в которых его больше не влечет ко греху. Святой Иоанн Златоуст говорит:
Время не играет роли. Мы спрашиваем не о том, часто ли меняли повязку на ране, а о том, принесла ли повязка пользу. На момент, когда ее можно снять, указывает состояние раненого. Речь идет, следовательно, не о том, чтобы искупить материальные факты, но о том, чтобы осушить их источник. “Покаяния отверзи ми двери... Даждь ми, Господи, слезы, во еже омыти нечистоту сердца моего”. Состояние покаяния, его слезы уже являются даром, – вот почему очищение завершается утешением и радостью. Утвердительная формула появилась у славян недавно; она пришла от латинян через Петра Могилу, который ввел ее в церковный чин в Киеве в 1646 г., и она была принята Русской Церковью в 1757 г. Классическая православная формула, которая используется в современной Греческой Церкви, является просительной: “Все, что ты исповедал моему ничтожеству, и все, что ты не смог сказать, по неведению или по забвению, да простит тебе Бог в сем мире и в ином... Будь спокоен, иди с миром”. Священник есть лишь свидетель присутствия Христа; “священнослужитель, можно сказать, скрыт под таинствами”, его власть является властью передавать, лишь Бог есть Творец таинств. Молитва перед исповедью вместе с чтением 50 псалма свидетельствует о воз-вращении вос-соединении грешника с Церковью. Лишь вновь оказываясь в лоне Церкви, человек может исповеданием открыть свою душу и получить исцеление, т. к. каждый грех ставит человека вне Тела Христова. Покаяние рассматривается как акт, который продолжает действие крещальных вод, и оно есть “трепет души перед вратами рая”.
8. Таинство брака
Для любого поверхностного взгляда монашество и брак взаимно отрицают друг друга. Однако, при более глубоком рассмотрении, там, где наша жизнь завязывается на уровне жизни Духа, они оказываются внутренне дополняющими друг друга. Таинство брака по-своему вводит в монашеское состояние, и при своем возникновении оно содержало сугубо монашеский обряд пострижения волос. Будучи двумя сторонами одной и той же тайны, они равным образом сходятся к девственности человеческого духа, высшей и всеобщей ценности. “Когда Христос повелевает следовать узким путем, Он обращается не к монахам, а ко всем людям... Из этого следует, что монах и мирянин должны достигнуть тех же высот...: Будьте целомудренны в браке, – и будете первыми в Царстве Небесном, и будете наслаждаться всеми благами”, – столь вдохновенно и столь ясно учит святой Иоанн Златоуст. Святой Амфилохий, епископ Иконийский (†394), хорошо отражает православное понимание, когда говорит, что и брачное состояние, и девственность, одинаково учрежденные Богом, оба являются, с религиозной точки зрения, в высшей степени достойными.
Духовное целомудрие-целостность выходит за рамки физиологии и говорит о самом устроении человеческого духа. Для христианской мысли свойственно утверждать разнообразие служений и, следовательно, призваний. Бессмысленно спрашивать, является ли какой-нибудь конкретный человек в монашеском состоянии выше того, каким он был бы, если бы находился в брачном состоянии, и наоборот, но нужно спрашивать, находится ли он ниже или нет относительно собственной меры святости. Величие состоит в том – и это и есть точный смысл смирения, – чтобы быть именно соответствующим собственной мере, положенной Богом. Оба склона Фавора – склон монашеской святости и склон брачной святости – ведут к вершине, где они совпадают; как один, так и другой вводят в “покой Божий”, в “радость Господа”.
В православном священстве, наряду с монашеским чином, супружеское состояние “белого” клирика еще недавно являлось даже обязательным, и холостые священники (моложе 40 лет) были разрешены в России лишь в XIX веке. Характерно, что во время Первого Вселенского собора именно епископ Пафнутий, один из самых строгих аскетов, взял под свою защиту женатое состояние священников. Кроме того, многие каноны являются категоричными и сурово наказывают всех, кто считает несовместимым священство и брак или выказывает хоть какое-то пренебрежение по отношению к его святому учреждению. “Брак и супружеские отношения в браке сами по себе есть нечто достойное и непорочное. Союз мужчины со своей законной женой может быть целомудренным союзом”. Вот почему Трулльский собор (691 г.) провозглашает:
Понеже мы уведали, что в Римской Церкви в виде правила предано, чтобы те, которые имеют быти удостоены рукоположения во дьякона, или пресвитера, обязывались не сообщатися более со своими женами, то мы, последуя древнему правилу апостольского благоустройства и порядка, соизволяем, чтобы сожитие священнослужителей по закону и впредь пребыло ненарушимым. Женатый священнослужитель доказывает таким образом, что брачное состояние вовсе не препятствует участию в самом сердце литургической жизни – совершению таинства евхаристии. Самые великие аскеты (святой Макарий, святой Иоанн Кассиан и др.) говорят о возможности блуда в душе монаха и в его воображении. С другой стороны, они настаивают на целомудрии истинных супругов. Именно в духовном целомудрии, в чистоте духа, монашеское состояние и брак достигают своей высшей точки и дополняют друг друга.
“Брак есть честен и брачное ложе есть непорочно, ибо Христос благословил их, когда превратил воду в вино на браке в Кане”, – провозглашает текст чина бракосочетания.
Райское установление брака
Установление брака в раю является весьма древним и непоколебимым преданием. Господь, говоря о браке, ссылается на Ветхий Завет: “Не читали ли вы?” (Мф.13:4; также Еф.1:31). “Сын лишь подтвердил то, что учредил Отец”, – говорит Климент Александрийский и высказывает основополагающую идею райской благодати брака: τη ς του γάμου χάριτος. Если сотворение человека является для него крещением (рождением), то любовь первой супружеской четы, “имеющей одну плоть”, означает то, что эдемская Церковь берет свое начало в браке, супружеской полноте первой четы, и что именно радость жениха и невесты во время брака в Кане исторгает первое явление славы Божией в четвертом Евангелии.
Климент идет еще дальше: “Бог сотворил человека: мужчину и женщину; мужчина – это Христос, женщина – это Церковь”. Брак как архетипический образ уже заранее существует в паре, т. к. Адам сотворен по образу Христа, а Ева по образу Церкви. Апостол Павел сформулирует самое существенное: “Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви” (Еф.1:32). Таким образом, брак восходит ко временам до грехопадения, и обряд уточняет это: “Ни первородный грех, ни потоп ничего не повредили в святости супружеского союза”. Святой Ефрем Сирин добавляет: “От Адама до Господа подлинная супружеская любовь была совершенным таинством”. Вот почему, согласно раввинистической мудрости, единственным каналом излияния благодати у язычников была именно супружеская любовь.
Воспоминание о рае, “райская благодать” наполняет радостью: “Возрадуемся и возвеселимся... блаженны званые на брачную вечерю Агнца” (Откр.13:9). Второзаконие (Втор.13:5) напоминает, что каждый мужчина, только что вступивший в брак, освобождается от всяких тягот, да “увеселяет жену свою”. Обряд бракосочетания строится вокруг радости, но эта радость, верная духовной глубине ее тайны, направляет к своему истинному скрытому сердцу. Чтобы извлечь из нее весь таящийся в ней свет, она должна возвыситься и достигнуть радости мучеников, исповедников, радости, которая по-настоящему вспыхивает лишь при полном приношении себя в жертву. При этом свете мы можем интуитивно предчувствовать, что без супружеской любви первой пары сам рай потерял бы что-то из той полноты, которую воплощение несло в своих недрах, и даже не был бы более раем! Через “воспоминание” таинства любовь вновь приносит на землю доступность рая; именно эта “райская благодать” призывает любовь перейти пределы всего земного и стать властным доводом красоты, которая свидетельствует об истине своей простой и прозрачной очевидностью. Душа восстает, говорит Клодель, “не как тучная корова, которая неподвижно жует свою жвачку, но как девственная кобылица, со ртом, горящим от соли, которую она взяла из рук своего хозяина... через приоткрытую дверь с утренним ветром приносится запах пастбища”, небесного пастбища.
Присутствие Христа на браке в Кане для восточного предания лишь подтверждает сакраментальное учреждение рая. Евангельский рассказ выявляет глубокое символическое значение, на котором внимательно останавливается святоотеческая экзегеза. Это прежде всего превращение воды в вино, уже евхаристический символ, который властно призывает к преображению грубой страсти в благородное вино харизматической любви.
Образ брака
Сотворение человека, учреждение брака и основание эдемской Церкви оказываются собранными в едином творческом действии Бога, что показывает их тесное родство. Брачная терминология, которой пользуется Библия, когда она касается тайны отношений между Богом и человеком, тем самым находит здесь свое объяснение (невеста, супруга, брак Агнца).
“Не хорошо быть человеку одному”, – провозглашает священный текст, т. к. одинокое существование не отражает Бога. Как полагает святой Амвросий Медиоланский, род человеческий “хорош” лишь в единстве мужского и женского. Именно Адам-Ева, мужчина-женщина является человеческой двоицей, отражающей ту множественность в Боге, который, будучи “Один”, говорит “Мы” (Быт.1:26). “Когда муж и жена соединяются в браке, они образуют образ не чего-нибудь земного, но Самого Бога”, – утверждает святой Иоанн Златоуст. Мужчина и женщина соединяются в третьем члене, который есть Бог, подобно тому, как божественное и человеческое погружаются в ипостась Слова, подобно тому как Отец и Сын соединяются в Духе. Единство во множественном является выражением троичного догмата, который становится правдой жизни, как церковной, так и супружеской. “Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Мф.13:20). Климент Александрийский прилагает эти слова к браку. Вследствие этого глубокого переплетения значений, относящихся к архетипу, брак является притчей будущего века. “Тот, кто не связан узами брака, не обладает в самом себе целостностью существа, а только его половиной”. “Мужчина и женщина являются не двумя существами, а одним”, – не устает повторять святой Иоанн Златоуст. Это упрощенный образ союза теперь уже не пар (“ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии”), но мужского и женского в интегральной цельности человека Царства Божьего: в воссозданном Адаме, носящем Еву в своих недрах. Святой Иоанн Златоуст называет семью ἐκκλησία μικρὰ (малой Церковью), думая об ecclesia domestica (домашней Церкви), о которой говорил апостол Павел; это та же идея органической ячейки Церкви, пророческий образ Царствия Божия.
Первичная цель брака
Православное понимание является в своей основе персоналистичным. Супружеское состояние является особым призванием для достижения полноты бытия в Боге. “Любовь изменяет саму сущность вещей”, – говорит святой Иоанн Златоуст и добавляет: “Лишь любовь творит из двух существ одно”. Лишь любовь познает Любовь. “Лишь любовь соединяет существа с Богом и соединяет их с другими существами”. Любовь становится формой благодати, чтобы преодолеть греховное состояние разделения и эгоцентрической изоляции. Самое потрясающее откровение возвещает об одной и той же природе любви, которую Бог являет человеку и человек проявляет к своему Богу и которая живет в глубине сердца, когда оно чисто и открыто человеческим существам. Песнь Песней ясно говорит об этом: “Крепка, как смерть, любовь, стрелы ее – стрелы огненные, она пламень весьма сильный” (Песн.1:6). Тип супружеской любви в своей сущности является духоносным. Материя таинства – это взаимная любовь, которая содержит цель в самой себе, т. к. дар Святого Духа делает из нее “нерушимый союз любви”, что позволяет святому Иоанну Златоусту дать великолепное определение: “Брак есть таинство любви”.
Перед лицом латинского определения prolis est essenialissimum in matrimonio (потомство есть главная сущность брака) и matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis (первая цель брака есть воспроизведение и воспитание потомства) православное учение утверждает, что исходный смысл или конечная цель брака заключается в супружеской любви, в такой полноте единства супругов, которая делает из них домашнюю Церковь. Возможно, что брак может быть полезным обществу, – тем не менее, его собственная независимая ценность царственно пребывает в нем самом. Псевдо-Дионисий Ареопагит пишет: “Афиняне называли брак τέλος, т. к. именно он венчает человека для жизни”. Дети вносят новое качество – отцовства и материнства, – но это является излиянием той полноты, которая как таковая пребывает в самой себе. Даже различие полов, которое наполняет всю совокупность человеческого бытия и далеко выходит за пределы собственно полов, обретает все свое значение независимо от проблемы рода, являющейся только вторичной.
Значение брака
Грехопадение извратило человеческую онтологию, разделив ее на дурную мужественность и дурную женственность и погрузив их в непрестанное колебание притяжения и отталкивания. Разделение проходит не между мужчинами и женщинами, но внутри каждого человеческого существа и создает постоянное напряжение, вызывающее конфликты и нервозы. Таинство брака вносит “райскую благодать” и соединяет начало с концом. Именно все тот же Иоанн Златоуст, великий учитель брака, высказывает глубокую мысль, столь полно подтвержденную современной психиатрией: “Любовь рождается из целомудрия”. Напротив, “извращение (разврат и порнографическое любопытство) проистекает из недостатка любви”. Наиболее сильное средство – “это любовь – amor magnus (великая любовь), – которая делает людей целомудренными”.
Существует последовательность текстов Священного Писания, которая не является случайной и которая открывает ослепительную истину о человеке, проливает яркий свет на его судьбу.
Послание к Евреям (Евр.1:7) описывает величие безгрешного человека на заре его жизни в таких выражениях: “Ты славою и честию увенчал его”. Апокалипсис находится на другом конце существования, у его предела, и возвещает, что племена и народы на пороге нового Иерусалима “принесут в него славу и честь свою”; не с пустыми руками человек достигает наконец берегов своей полноты, – он несет дары Святого Духа. И, наконец, та же формула, которая выражает начальное обетование и конечное исполнение – рай и Царствие Божие, – заключается в совершительной формуле таинства брака: жених и невеста венчаются славою и честию. Таким образом, брак предстает как точка сопряжения и, в этом пророческом служении, как образ врастания в будущий век.
Знамения последних времен
Святой Климент Римский цитирует весьма таинственное “неписанное изречение” (аграфу) Христа: “Господь, когда Его спросили о времени пришествия Царствия Божия, ответил: “Когда двое станут одним и когда внешнее станет, как внутреннее, и когда мужское и женское, соединившись, не станут ни мужским, ни женским”.
Пришествие Царствия Божия совпадает, таким образом, с полным созреванием супружеской любви в одно существо, во всечеловеческую действительность, собранную во Христе; супружеское целомудрие (испрашиваемое в эпиклезе таинства) уничтожает греховную разделенность между внутренним и внешним, где как раз и гнездится похоть; тупик порочных мужественности и женственности переходит в бесконечность вновь обретенной и реально совершившейся первоначальной целостности. Господь говорит: “Вот я делаю последнее, как первое”, альфа и омега сходятся в совершенно новой твари. В той же степени, что и монашество, супружеское состояние является не этической проблемой, а онтологической. Еще до того, как любовь осознала свое величие, она была тут же опошлена. Подлинный брак, в своей высшей точке, является редким аскетическим подвигом, и вот почему обряд подчеркивает это песнопением в честь мучеников, которое сопровождает супругов во время всего их шествия по узкому пути; оно возвышает таким образом супружеское состояние до уровня и до достоинства “раненых друзей Жениха”. Момент высшего откровения, освобожденного от всех опошлений истории, знаменует предапокалиптические времена, и именно только в эту минуту его истина может явиться на свет и узнать себя, как в зеркале, в истинном монашеском состоянии.
Над напряженностью между стыдливостью и цинизмом простирается недоступная одной лишь естественной силе гармония чад свободы и благодати, которым нечего скрывать. Когда ангел Апокалипсиса провозглашает: “Времени уже не будет”, – он провозглашает также и “упразднение одеяния стыда” (кожаных риз грехопадения) и знаменует переход к девственному восстановлению человеческого бытия. В истории, если мы не святы, брак является лишь социальной ячейкой и мирным совокуплением бесчисленных мещан, законченным и пугающим самодовольством. Ослепляющее достоинство супружеской полноты – не существ, но существа в своей целокупности – является, по словам Господа, лишь в конце времен, в момент Перехода-Пасхи будущего века.
Ars amandi (искусство любви) целиком заключено в плодах вечной новизны Маранафа (Ей, гряди, Господи!). Любящие смотрят вместе в одном и том же направлении, на Восток, и произносят: “Сделай так, Господи, чтобы любя друг друга, мы любили бы Тебя самого”.
9. Елеосвящение (таинство помазания больных)
“Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, – и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему” (Иак.1:14–18, ср.: Мк.1:13). Молитва, исходящая из веры Церкви, представленной пресвитерами, являет вмешательство тела Церкви в ее единстве. Момент смерти – а каждая болезнь смертельна, – казалось бы, является моментом абсолютного одиночества. Именно в этот момент Церковь приходит, чтобы образовать вокруг страдающего члена священный круг единства. В России это таинство носит название “соборование”, т. к. оно должно совершаться собором семи священников. Оно включает чтение семи отрывков Евангелия, и священники семь раз произносят молитву:
Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего от обдержащей его телесной и душевной немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего. К духовному исцелению души добавляется моление о физическом излечении. Каждый человек потенциально является больным и умирающим, и вот почему в Греции таинство елеосвящения часто преподается причастникам. В России его совершают над всеми верными в Великий четверг. Таинство может быть повторено и, таким образом, не имеет латинского значения “последнего” помазания только для одних умирающих.
Обряд следует чину утрени с чтением Апостола и Евангелия. В конце, после чтения последнего Евангелия, священник кладет Евангелие на голову болящего и произносит: “Не полагаю руку мою грешную на главу пришедшаго к Тебе во гресех, но Твою руку крепкую и сильную, яже во святом Евангелии”.
Евангелие от Никодима говорит о “елее древа милосердия”. Если эдемское древо жизни дает свои плоды в евхаристии, следовательно, то же древо предлагает “елей милосердия”, предназначенный для тех, кто возрожден водой и Святым Духом. Таким образом, помазание сопоставляется с крещением и соединяется с прощением грехов, условием исцеления души и тела. Ориген цитирует текст апостола Иакова и упоминает о елеопомазании. Евсевий Кесарийский говорит о нем в своем толковании на книгу Исайи, святой Ефрем упоминает о нем, святой Иоанн Златоуст цитирует этот текст, что доказывает восхождение таинства к весьма древнему преданию. В анафоре епископа Серапиона приводится моление над водой и над елеем, и в ней испрашивается “исцеляющая сила, дабы исчезли всякая лихорадка и всякий бес, и всякая болезнь”. Святой Кирилл Александрийский говорит о елеосвящении как об общеупотребительном обряде. Таинство елеосвящения, однако, занимает особое место в домостроительстве таинств, можно даже сказать, что оно находится у их предела. Действительно, в то время как в таинствах дары Святого Духа передаются, и исполнение таинства несомненно, таинство елеосвящения только испрашивает благодать исцеления, ничего не говоря заранее о действии. Невозможно представить себе постоянно совершающуюся службу исцеления: оно зависит от чудотворной силы Бога, который посылает ее по Своему благоизволению. Таким образом, Церковь молится об исцелении, при этом не провозглашая его.
Если высшей точкой римско-католической мессы является бескровная жертва у престола, а завершением – ее возобновление, православная литургия идет дальше и возвещает вознесение и Второе пришествие. И поэтому распятый Христос на православных иконах будет сохранять всегда царственный вид божественного Победителя, т. к. Он победил смерть как таковую, а не только смерть одного человека, Иисуса из Назарета. Воскрешение же Лазаря не имеет никакого всеобщего человеческого значения, кроме значения предвосхищения.
Итак, мы предстоим перед тайной, в которую иконопись проникает лучше, чем любое слово, и святой Иоанн Златоуст прекрасно это выражает, говоря: “Я называю Его Царем, потому что я вижу Его распятым” (P.G. 49, 413). К такой же глубине ведет нас икона Рождества. Черная пещера, где находится Младенец, изображает собой ад. Чтобы победить царство дьявола, Христос мистически родился глубже самой земли, в самом сердце грехопадения. Отсюда вытекает более глубокий смысл крещения: крещаемый умирает вместе со Христом и сходит в ад для того, чтобы воскреснуть вместе со Христом и уже оказаться в Царствии (См.: P. Evdokimov, “L’Icone de la Nativité”, Bible et Vie Chrétienne, № 20).
Разве не симптоматично, что ЮНЕСКО, намереваясь представить что-то, что есть в СССР, издало чудесный альбом икон?
См. М. Eliade, Traité de l’histoire des religions, Paris 1949; G. van der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations, Paris 1949; R. Otto, Le sacré, Paris 1929; F. Heiler, La Prière, Paris 1931; R. Caillois, L’homme et le sacré, Paris 1950; C. Baudoin, Psychanalyse du Symbole religieux, Paris 1957.
Термин принадлежит P. Отто: R. Otto, Le Sacrè, цит. работа, с. 23: “Если от слова свет можно образовать термин светоносный, то от слова нумен можно образовать термин нуменозный”. В немецком языке слово ominos происходит от omen.
Изъяснение Божественной литургии, гл. XXXVI.
Таинства крещения и миропомазания.
Поль Клодель.
P.G. 44. 192.
Слова богослужения “аллилуиа”, “Господи помилуй”, “аминь” являются уже древними идиомами, не используемыми в общем употреблении, так же как и verba certa, важные определенные слова: Трисвятое, Победная песнь, молитва Господня, умно-сердечная молитва. Символ веры и слова, произносимые при совершении таинств. Их литургическое повторение подчеркивает их значение, тогда как повышение тона и очень размеренный и прекрасно подобранный ритм образуют сакральный тип ектении, кафизмы и литургического чтения. Если любое благословение призывает благодать Имени, то и всякое пожелание обладает своей очень реальной силой, – поэтому мы отдадим отчет за всякое произнесенное слово (ср. с евангельскими текстами о пожелании мира...). Когда верующий совершает крестное знамение, он совершает жест эпиклезы, призывая Святого Духа, или, более точно, “непобедимую силу Креста”, и его всепроникающей силой он ставит все свое бытие под знак Креста, сораспинаясь и, даже более того, отождествляясь с Крестом Христа, и через этот образ распятой любви возносится ко Кресту, образу Троицы, становясь иконой, или живым переложением, этой священной иероглифической записи.
Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании (Ad. Thal.), q. 252, P.G. 90, 333 A.
Alphab, Арсений, 27, P.G. 65, 96 с.
Для Бреаля и Байи (Bréal, Bailly, Dictionnaire étymologique latin, sub. V) первоначальный смысл слова “tempus”(“время”) был “температура”.
Для Бергсона длительность есть собственно признак прочувствованной и пережитой последовательности, противоположной математической идее “пространственноподобного” времени у Канта (Непосредственные данные сознания, с. 74 и далее). Тайна времени прекрасно подчеркнута Паскалем. Он спрашивает: кто может его определить? “Определения созданы только для того, чтобы указать на именуемые вещи, а не для того, чтобы показать их природу” (О духе геометрии, изд. Brunschwieg, р. 170).
Мир не может существовать вне времени, procul dubio mundus non factus est in tempore sed cum tempore (Без сомнения, мир сотворен не во времени, но со временем) (PL. 41, 322).
“Принцип относительности устраняет понятие абсолютного времени, математического времени, которое не имеет никакого экспериментального соответствия. Каждая система отсчета имеет свое собственное время” (См. Ланжевен, Время, пространство и причинность; Пуанкаре, Значение науки).
Гений Достоевского в “Кроткой” ставит нас перед лицом невыносимого контраста между бесконечностью страданий и безразличием времени: “"Люди, любите друг друга», – кто это произнес? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно противно” (Достоевский, Дневник писателя, т. II). Время напоминает нам, что все проходит. В “Преступлении и наказании” Свидригайлову является призрак убитой им жены и напоминает ему: “А вы... забыли в столовой часы завести”. Можно остановить часы, но нельзя остановить время, которое неумолимо движется к Страшному суду. Остановившееся время является самым страшным образом. Кьеркегор описывает пробуждение грешника в аду: “Который час?” – кричит он, и с ледяным безразличием сатана отвечает ему: “Вечность”.
Ф. М. Достоевский, “Братья Карамазовы”, в: Полн. собр. соч. в тридцати томах, Т. 15, Ленинград, 1976, с. 79.
Леконт де Нойи ввел понятие “биологического времени”, подчиняющегося логарифмическому, а не арифметическому закону (Lecomte de Nouy, Le temps et la vie, Paris 1936; L’homme et sa destinée, Paris 1946).
P.G. 46, 547 D; 45, 364 C.
Уже для святого Игнатия Антиохийского христиан отличает то, что они суть Θεοφόροι и Θεου γέμετε, носители Бога и исполнены Богом (Послание к Магнезийцам, 14, 1).
P.G. 44, 1312 В.
Беседа на II Тим, II, 45, P.G. 62, 612.
Гимны 8, 16; Wensinck, 169.
Мировая бездна или зародыш, окруженный водой.
Святой Василий, P.G. 29, 59 В; Святой Григорий Назианзин, P.G. 36, 429 С. См. Jean Daniélou, Bible et Liturgie, ch. 16.
Святой Василий, О Святом Духе, 27; Правило 19-е Никейского собора. Однако Ориген отмечает: “Для совершенного каждый день является воскресеньем” (P.G. 11, 1549 D).
Йоги подчеркивают влияние дыхания на физическое состояние организма и объясняют этим удивительную молодость аскетов; ночью они уменьшают количество вдохов в десять раз; в пересчете на часы дыхание (изнашивание организма и, следовательно, старение) за одни сутки для йога является дыханием лишь за 12 часов. Если он ест один раз в день, то тогда он питается каждые 12 часов, а не каждые 24 часа. (см. М. Элиаде, Образы и символы (Eliade, Images et Symboles. Paris 1952, pp. 112–113).
См.: Н. de Lubac, Aspects du Bouddhisme, Paris 1951; М. Элиаде, Образы и символы, 1952: Van der Leeuw, La Religion, Paris 1948.
Eric Burrows, The labyrinth, London 1935, p. 51.
A. Wensinck, Navel of the Earth, Amsterdam 1916, p. 15.
Тело Адама было погребено там, где потом был распят Христос (Ориген, На Евангелие от Матфея, Р.G. 13, 1777).
P.G. 91, 1309 В.
Евангелие от Петра, ст. 29–40; Деяния апостола Иоанна, N 90–93.
Сравнения 9, гл. 6, N 1.
Ср.: Святой Амвросий, О Воплощении, P.L. 16, 827 С.
На Псалмы 1; Pitra, Analecta Sacra t. II, p. 445.
Von W. маяer, Die Geschichte des Kreutzholzes vor Christus, München 1881.
La prière des Eglises de rite byzantin, Mercenier, t. V, I partie, p. 39, 52.
На Псалмы, 119, n. 1, P.L. 37, 1597.
Amélineau, Etudes sur le christianisme en Egypte au VII siècle, 1887.
Беседа на видение Иакова, n. 95, Zingerle-Nozinger, Monumenta Syriaca, t. I, p. 26.
R.P. Louis Beirnaert, “Le symbolisme ascentionnel”, в Eranos-Jahrbuch, t. 18, 1950.
Гимны XI, 11.
Также и Афраат в Слове о молитве. Сирийский патерик, т. I, с. 146.
“Немое искусство умеет говорить”, – говорит святой Григорий Нисский (P.G. 46, 737 D).
Consécration et inauguration d’une église, Chevetogne 1957.
О церковной иерархии, IV, § 12.
Это образ апостола Иоанна, склонившего свою голову на грудь Иисуса (Ин.13:23).
О жизни во Христе, с. 147.
Библиография: О. Wulf und Alpatov, Denkmoeler der Ikonenmalerei, Dresden 1922; W. Weidlé, Les icônes byzantines et russes, Firenze 1950; Трубецкой E.H., Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках, М, 1991; P. Muratov, Les icones russes, Paris 1927; Кондаков Н.П., Иконография Богоматери: в 2 тт.. М., 1914–1915; Кондаков Н.П., Лицевой иконописный подлинник, СПб, 1906; История русского искусства (в 12-и тт.), РАН, Юнеско, 1958, тт. 1–3 (Церковная архитектура и иконопись); P. Evdokimov, “Initiation à l’Icone”, Bible et Vie Chrétienne, № 19, 1958, Casterman; L. Ouspensky, W. Lossky, Der Sinn des Ikonen, Bern und Olten; Felicetti–Liebenfels, Geschichte der Byzantinischen Ikonenmalerei, Olten und Lausanne, 1956; Успенский Л.А., Богословие иконы Православной Церкви, Париж, 1989.
Фавор, место преображения Господа.
Dom Idefonse Dirks, Les Saintes Icones, Prieré d’Amay 1939, p. 44.
С 726 г. по 842 г.
Хронография Феофана, с. 825.
Так же, как и святой Иоанн Дамаскин в своем 2-м Слове.
Катакомбы Винья Рандамини, мозаики синагоги Хамман-Лиф, склеп Пальмиры, Дура-Европос.
Феодор Студит, P.G. 99, 180; 348. Также Феодорит, P.G. 80, 264.
Седьмой Вселенский собор.
“Там, где разум не может постичь с помощью слова, ему на помощь приходит икона” (Патриарх Никифор, P.G. 100, 380 D). “Если язычник попросит тебя показать твою веру, отведи его в Церковь и поставь его перед иконами” (Святой Иоанн Дамаскин, P.G. 95, 325 С). И наконец, самое важное: “С помощью моих телесных глаз, которые созерцают икону, моя духовная жизнь погружается в тайну Воплощения” (Святой Иоанн Дамаскин, P.G. 96, 1360).
Феодор Студит, P.G. 99, 1537.
Святой Иоанн Дамаскин, P.G. 94, 1300.
Оно делало отцов Седьмого Вселенского собора поклоняющимися образам.
Джулио Карло Арган (Guilio Carlo Argan) в своей книге “Fra Angelico” (Genève, Skira 1955) изображает ангельского живописца, – увы! – скрытого под обликом доктринера, совершенного доминиканца.
Доминирующее стремление “приукрасить” объясняет вмешательство властей с чисто приспособленческими целями: выговоры Веронезе, “штанишники” Сикстинской капеллы, дело об Ассизском Христе.
Тридентский собор, XXV сессия, в Denzinger, n. 986.
Культ икон, т. I.
См. Reforme du 5. I. 1952, l’article “Les Arts”.
Если в IV и V веках и, позднее, в IX веке народное искусство, эмоционально заряженное и идущее из Сирии и Египта, смешивается со священным искусством (можно здесь упомянуть формы благочестия близкие даже к стигматам, а также почитание креста в проявлениях крайнего аскетизма, когда каждый монах является распятым существом), то византийская икона, напротив, отбрасывает всякий партикуляризм и следует за догматом и литургией. Отметим самое главное: если Запад (особенно после крестовых походов, во время которых осуществился непосредственный контакт с Палестиной, и в почитании Святых Даров и Сердца Иисусова) являет глубокое почитание страдающего человеческого естества Христа, то Восток, более догматический, идет несравненно дальше и в трепете останавливается, наконец, на пороге апофазы перед несказанной тайной παθὼν Θεός, страдающего Бога. Это выражение принадлежит святому Григорию Богослову, который созерцает Агнца, закланного до воплощения, и с предельной настойчивостью говорит о страстях бесстрастного, по определению, Существа. Такая же настойчивость явно присутствует у святого Кирилла Александрийского, у святого Максима и так поражает у святого Иоанна Златоуста, образца антиохийской сдержанности. “Для того, чтобы жить, мы нуждаемся в жизни и смерти Бога”. Не приводит ли представление о страданиях только по человечеству к опасности несторианского разрыва? Решительно отвергая любое еретическое построение типа “патрипассианизма”, нужно сказать, что Страсти как раз являют ипостась Слова, т. к. она никоим образом не может быть оторвана от человеческой природы, воипостазированной в ней. Восточная христология сосредоточена на перихорезе, общении свойств. Далее двигаться нельзя, никакой богословский анализ здесь более невозможен, и остальное должно “почитаться в молчании’’... Хотя христология и останавливается здесь, однако она завершается не на возникшем по скудости упрощающем определении, но в безмолвии, которое, по словам святого Максима, является “лишением через избыток” (Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, XIV). Тем не менее единственно этот головокружительный догматический взлет объясняет восточное богословие славы Божьей. Богословие Креста сохраняет все свое значение, но оно не является преобладающим. Таинство находит свое исполнение именно в запечатанном гробе, раскрывшемся от напора торжествующей жизни, уже несущей в себе заряд Второго пришествия. Крест – это неизреченный, поскольку предвечный, проводник божественной любви.
Святой Иоанн Дамаскин, Слова против отвергающих святые иконы, I, 16.
То есть “явлений”.
Mansi, t. 13, col. 482.
Mansi, t. 16, col. 400.
Никифор, P.G. 100, 381.
То есть “явлением Бога”, или “Богоявлением”.
Характерно, что каноны запрещают бумажные иконы (типографскую серийную репродукцию) так же. как и коммерческую продажу, – более того, иконы могут быть только обменены. Современная практика несет в себе признаки упадка, начавшегося совсем недавно.
J. Wilpert, Fractio panis, pp. 116–117.
Можно даже сказать: “Мы, являясь таинственной иконой херувимов...”
Служба первой седмицы Великого поста.
Собор, или синакс, – собрание верных, совершающих литургию.
Подобное “руководство”, датируемое XI веком, имеется на горе Афон. Его название – Ἑρμηνεία τη ς Ζωγραφικη ς (“Толкование живописи”). Французский перевод его был опубликован в 1849 г. Дидроном (Didron, Paris, Imprimerie royale) под названием Manuel d’iconographie chrétienne.
W. de Grunlisen, La perspective, esquisse de son évolution des origines jusqu ’à la Renaissance. Ecole fr. de Rome, Mélanges d’arch. et d’hist., 1911 (XXXI), p. 393.
О значении золотого фона см.: Worringer, Griechentum und Gotik.
Интересно отметить запрет собора 692 г. (82-е правило) изображать Христа символически, как агнца или рыбу, т. к. “само явление” отменило свою предвосхищающую тень.
Кенозис, или самоуничижение, означает самоуничижение при воплощении.
“Достижение “Троицы” Рублева заключается в равном сиянии трех ангелов – трисолнечном свете, озаряющем того, кто его созерцает.
Греческий синодик – служба первой недели Великого поста.
В советской России Академия наук предприняла публикацию 12-томной Истории русского искусства. Три первых вышедших тома полностью посвящены церковной архитектуре и иконописи. Наука, требуя определенной объективности, обязывает начинать с иконописного источника, который единственно объясняет все последующие формы культуры Древней Руси. В настоящее время советские художественные выставки и кинофильмы демонстрируют иконы и Церкви как “исторические памятники”! Но этот материал взрывоопасен и полон неожиданностей. “Если люди умолкнут, то камни возопиют”, – сказано в Евангелии. Там, где апостольство запрещено и слово заставили замолчать, – камни, “памятники” начинают кричать и проповедовать...
Мы можем действительно знать только благодаря вещам, которые никогда не узнаем. Так, например, геометрическая точка не принадлежит пространству, т. к. ее природа метапространственна, метафизична; несмотря на столь загадочное “геометрическое место”, это еще один ноль.
В Ветхом Завете услышанное имеет преимущество над увиденным (в противоположность эллинам), но в мессианские времена видение берет верх: заповедь “Слушай, Израиль” преобразуется в “возведите очи ваши и увидите”. В Новом Завете, начиная с воскресения Христа, события принадлежат уже эсхатологии, и слова “блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”, так же как и Апокалипсис, помещают видение и иконопись в центр (см.: G. Kittel, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum).
M. Souriau, L’Ombre de Dieu, Paris.
Камю, Падение. Париж 1956.
Феодор Студит, P.G. 99, 1193.
Козьма Индикоплов, великий путешественник VI века, в своей “Христианской топографии мира” утверждает, что земля имеет форму большого квадрата.
Руах, Дух, в семитских языках также женского рода. Сирийские тексты часто называют Утешителя Утешительницей.
Литургический термин: молитва о заступничестве, которая собирает прошения верующих (collecta).
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М., 1995.
Вся Псалтирь прочитывается в течение недели.
Литургия питается Библией; в ней насчитывается 98 цитат из Ветхого и 114 из Нового Завета: в первой части – 49 из Ветхого и 38 из Нового Завета, а во второй половине преобладает Новый Завет – 76 отрывков из Нового и 49 из Ветхого Завета.
Литургия Преждеосвященных Даров.
К. Холль (К. Holl) подчеркивает аналогию между византийской литургией и античной драмой (Die Enstehung der Bilderwand in der Griechischen Kirche, Archiv für Religionswiss, 1906 5, IX, p. 365).
Феодор Андидский, P.G. 140, 417.
Николай Кавасила, Изъяснение Божественной литургии.
Утреня начинается призыванием Троицы, явившейся в откровении.
Евхаристическая молитва литургии святого Иоанна Златоуста.
Беседа на Послание к Евреям, Проповедь 17, P.G. 63, 131.
Изъяснение Божественной литургии, гл. XXII.
Послание к Ефесянам, XX, 2.
Молитва святого Симеона Метафраста по святом причащении.
Вместе с Цвингли, Кальвин возражает Лютеру и его учению о консубстанциосуществлении и истолковывает “быть” в смысле “означать”, говоря: “Хлеб и вино суть видимые знаки”.
Молитва перед причащением.
Против ересей, IV, 34.
"Точное изложение православной веры", IV, 13.
Там же.
§ 17.
Николай Кавасила, Изъяснение Божественной литургии, гл. XXXII.
Приготовление элементов жертвоприношения, или предложение, которое предшествует собственно литургии.
Изъяснение Божественной литургии, гл. 32, P.G. 150, 440 D – 441 А.
Святой Иоанн Златоуст, Беседа на Послание к Евреям, Проповедь 17, P. G. 63, 131.
Святой Кирилл Иерусалимский, Поучения тайноводственные, P.G. 33, 115–116; Святой Иоанн Златоуст, P.G. 61, 361.
Николай Кавасила, Изъяснения Божественной литургии.
Вливание кипятка = вода и огонь (образы Святого Духа) в чашу перед причастием.
Изъяснение Божественной литургии, гл. XXXVII, pp. 206–207, P.G. 150, 452. Эпиклеза является евхаристической Пятидесятницей. Очень поздняя практика XV века добавляет к эпиклезе тропарь Третьего часа, что разрывает логическую последовательность и разделяет смысл и единство замечательного текста эпиклезы. Современные греческие издания, к счастью, больше не содержат этого тропаря.
Православная практика хорошо обоснована (см.: о. Киприан (Керн), Евхаристия, с. 240), она даже неоспорима.
Святой Максим Исповедник, Тайноводство, 24, P.G. 91, 170 А.
Николай Кавасила, О жизни во Христе.
Ср. Святой Кирилл Иерусалимский, IV огласительное слово; Кирилл Александрийский, Толкование на Евангелие от Луки, IV. См. о. Керн, “Homotheos”, in: l’Eglise et les Eglises, V, II, Ed. Chevetogne 1955, p. 15.
Cp. Jean Daniélou, “Eucharistie et Cantique des Cantiques”, in: Irénikon, 1950.
P.G. 81, 128 A.
См.: A. Salaville, Les liturgies orientates, 3 vol., Paris 1932; A. Baumstark, Liturgie comparée, Chevetogne 1933; Mercenier et Paris, La Prière des Eglises de rite byzantin, 3 vol., Chevetogne 1937; L’Office divin de saint Jean Chrysostome (греческий и французский тексты), фр. перевод М. Rodocanachi, Paris 1955.
P.G. 140, 417.
P.G. 99, 340 С.
Современная проскомидия относится к XII веку. До VII века она предшествовала Великому входу и, таким образом, совершалась в начале Литургии верных.
Автором этого тропаря является, вероятно, император Юстиниан.
Они излагаются в порядке текста Мф.1:3–15. Вставные тропари придают всему пению характер антифонов.
Православная Церковь следует принципу поочередного чтения: в воскресные дни в течение Пятидесятницы читаются Деяния и Евангелие от Иоанна, после Пятидесятницы и до Вербного воскресенья – Послания апостола Павла: сначала к римлянам и затем к коринфянам, к галатам. к ефесянам, к коллосянам, к Тимофею, к евреям; Евангелия от Матфея. Луки и Марка.
Святой Максим Хризопольский отмечает, что уже с VII века отпуск оглашенных совершается лишь как напоминание о древней традиции (P.G. 4, 141).
Богослужение настойчиво учит, что евхаристия – это исполнение, венчающее предваряющее и необходимое единение, выраженное через исповедание и согласие в одной и той же единой вере, т. к. Символ веры и завершающее “Аминь” произносятся всем народом.
῟Επουράνιον – пренебесный, указывает на апофатический момент призывания.
Николай Кавасила, О жизни во Христе, р. 28.
См.: О. Cullmann, Les Sacrements dans l’Eglise Johanique, Paris 1951, pp. 35–48.
Первая часть, 99.
§15
“Sacramenta и Sacramentalia”, в: Православная Мысль, N 8.
Климент Александрийский, P.G. 9, 649.
Святой Кирилл Иерусалимский, P.G. 33, 1119.
Для святого Григория Назианзина Отец есть Истинный, Сын есть Истина, Святой Дух есть Дух Истины – Πνευ μα τη ς ῟Αληθείας (P.G. 35, 1164 А).
Святой Ириней, Против ересей, IV, 18, 5.
Святой Кирилл Иерусалимский, P.G. 33, 1089.
Климент Александрийский, Строматы, I, V.
P.G. 58, 507.
P.G. 62, 609.
“Догматическое богословие” епископа Макария.
О жизни во Христе, с. 97; святой Максим говорит о преложении причащающегося во Христа (P.G. 91, 704 А; 91, 697 А).
“Евхаристический догмат”, в: Путь, 1930.
P.G. 36, 437 (Русский перев.: Творения святого Григория Богослова, т. 1, с. 578).
Лк.1:23; другой вариант: Пс.1:7.
Святой Дух “делает щедрую душу одновременно девой и матерью”, она “непрестанно порождает Христа в своих недрах” (Святой Максим, Изложение молитвы Господней, P.G. 90, 889 С).
§3
Вся природа является потенциально обоженной. Запад занят в гораздо большей степени спасением индивидов, в то время как человечество предстает скорее как massa peccati (грешная масса) (см.: Святой Лев Великий, P.L. 54, 192 С–193 А).
Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, т. 25; P.G. 90, 333 А.
“Так, в зависимости от конца, в предустановлении к которому сотворен человек, мы говорим, что он предопределен к смерти или к жизни” (Установления, гл. VIII, с. 62).
Были богословы, которые доводили детерминизм до того, что отрицали свободу в Адаме до грехопадения. Он был предопределен к падению, как Христос предопределен к пролитию Своей крови для избранных!
См.: Louis Lavelle, La dialectique de l’éternel présent.
P.G. 44, 1225. См.: Dom О. Rousseaux, Monachisme et Vie Religieuse, Chevetogne 1957, p. 131, примечания 1 и 2.
Карл Барт в своей “Догматике” вносит исправление в это учение и иначе намечает глубокую перспективу, которая сохраняет тайну.
P.G. 12, 496.
P.L. 1, 1221.
Четвертый Карфагенский собор, P.L. 3, 1015.
Николай Кавасила, О жизни во Христе, pp. 27–28.
P.G. 33, 372, 445. Также и святой Афанасий, P.G. 25, 473.
См.: М. Lot-Borodine, “La grâce déifiante des Sacrements d’après Nicolas Cabasilas”, in: Revue des Sciences philosophiques et théologiques, tome XXV, 1936.
Святой Кирилл Иерусалимский, P.G. 33, 444; Святой Василий, P.G. 32, 129; Святой Григорий Нисский, P.G. 45, 85.
Дидахэ, 7 ,1, 3. Исключение допускается только ввиду отсутствия достаточного количества воды, а также в случае болезни или в случае срочной необходимости.
Ерм, Назидания, IV, 3.
Святой Иоанн Златоуст, P.G. 61, 347.
См.: Dom О. Rousseau, “La descente aux enfers, fondement sotériologique du baptême chrétien”, in Mélanges Jules Lebreton, II, 273.
Святой Игнатий Антиохийский, Послание к Ефесянам, 18, 2; Святой Амвросий, P.L. 15, 1583.
Климент Александрийский, Строматы, IV, 25, P.G. 8, 1369; Дидахэ, VII, 1.
Поучения огласительные, III, 5, P.G. 33, 432.
Поучения огласительные, III, 3, P.G. 33, 429.
Поучения огласительные, XXI, 1.
Святой Афанасий, P.G. 26, 1197.
Святой Кирилл Иерусалимский, P.G. 33, 1068; Дионисий, P.G. 3, 396.
Николай Кавасила, О жизни во Христе, pp. 52, 56, 53.
Николай Кавасила, там же.
Псевдо-Василий, P.G. 31, 432.
Иустин, Апология, 1, 61, P.G. 6, 420; Дионисий, P.G. 2, 392.
Святой Григорий Назианзин, Беседы. Слово XI, 46; Слово XL, 24, P.G. 36, 392.
Николай Кавасила. О жизни во Христе. р. 78.
Беседа на Евангелие от Матфея, проп. L, 3.
Феодор Чтец, P.G. 86, 196.
Беседа на Второе послание к Коринфянам, Проп. VII.
В связи с умершими без крещения Ерм говорит об апостолах, которые после своей смерти приходят к ним проповедовать имя Сына Божия и дают им σφραγίς, печать крещения (Подобия, IX, 16). Климент Александрийский воспроизводит этот отрывок из Ерма (Строматы, II, 9, P.G. 8, 980). Этот сюжет углублен в иконописи, где святой Иоанн Креститель становится предтечей в аду.
Термин “конфирмация” является латинским, он используется Львом Великим, Оранским и Арльскими соборами (455 г.).
Святой Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры, IV, 262.
48-е правило Лаодикийского собора.
См.: Святой Кирилл Александрийский, Сокровищница и О Троице.
Нил Синайский, Слово о молитве, 58, гл. 1.
Ср.: М. Lot-Borodine, “La Grâce déifiante des Sacrements d’après Nicolas Cabasilas”, in Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, tome XXVI, 1937.
Святой Кирилл Иерусалимский, P.G. 33, 996, 1009.
P.G. 33, 1092.
Sacramentaire de Sérapion, Brightman, Journal of Theological studies, London 1900, t. 1, p. 215.
P.G. 1, 797.
См. Евхологий Гoapa.
Святые отцы подчеркивают это. См.: Святой Кирилл, Поучения огласительные, XVIII, 3; Святой Григорий Нисский, P.G. 46, 581.
Молитва освящения мира. Она помогает понять, что возложение рук включено в помазание миром, как об этом говорит Дионисий: “Помазание святым елеем, который вводит Иисуса Христа, заменяя возложение рук”.
Святой Кирилл Иерусалимский, 3-е Огласительное слово.
Чтобы познакомиться с православной точкой зрения, см.: Протопр. Н. Афанасьев. Служение мирян в Церкви, Париж. 1955; М., 1995. Относительно католической точки зрения: Y. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, Paris 1953; G. Philips, Le rôle du laïcat dans l’Eglise, Paris 1954.
Théologie, vol. XXVII, Афины 1956.
См. цит. соч. о. Николая Афанасьева.
Тридентский собор определил невозможность низвести священнослужителя в состояние мирянина и этим установил онтологический разрыв между теми, кто “посвящен”, и теми, кто таковым не является. Это низведение священнического состояния мирян к неосвященному состоянию. Если римско-католический канонический священник в виде исключения низведен в мирянское состояние, он сохраняет “характеристики” священства и ни в коем случае не может жениться. Православный священник, изверженный из сана, может жениться.
Послание к Магнезийцам, 3, 1; Послание к Траллийцам, 3, 1; Послание к Смирнянам, 8, 1.
II. 26. 4.
“Πνευματικὸς πατὴρ anderer kann nur sein, wer Πνευματικὸς geworden ist” (“Только тот может быть духовным отцом, кто стал духовным”), – удачно говорит Р. Рейтценштейн (R. Reitzenstein, Historia monachorum und Historia Lausiaca, Gœttingen 1916, p. 195: см. DC fasc. XX–XXI, col. 1015).
Ср.: В. Poschmann, Paenitentia secunda, Bonn 1940.
P.G. 8, 260 С.
P.G. 82, 1489 В, 1497 ВС, 1504 Редакция «Азбуки Веры»
Жития святых отцов, т. 18, 19.
Переведен на русский язык Феофаном Затворником (Москва, 1891).
P.G. 31, 664 D, 625 А.
P.G. 79, 180 D.
P.G. 99, 1388 D.
Святой Иоанн Златоуст, Беседа на Послание к Евреям, 7, 41.
Беседа на Послание к Евреям, 7, 4.
Преподобный Нил, P.G. 79, 273 D.
Преподобный Нил, Письма, I, 167, 169.
Служба освящения святого мира.
См. богатое собрание цитат из отцов Церкви в книге P. Dabin, Le sacerdoce royal des fidèles dans la tradition ancienne et moderne, Bruxelle-Paris 1950.
Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος ἁγίου (7-е правило собора 381 г., 95-е правило собора 692 г., так называемого “Пятошестого”).
беседы, XXVII, 4, P.G. 34, 696 ВС.
Проповеди, XVII. 1. P.G. 34, 624 ВС.
P.G. 106, 509 В.
Толкование на Послание к Коринфянам, 11. P.G. 118, 932 CD.
Октавий, гл. 32, P.L. 3, 339–340.
На Левит, проповеди, IX, ч. 9, P.G. 12, 521–522.
Достоинство исповедника столь велико, что так называемые Ипполитовы правила (III–IV вв.) разрешали в исключительных случаях исповедникам совершение канонического священнического служения без предварительного рукоположения в сан.
Беседы, II, P.G. 35, 498.
Анонимная рукопись VI века (Hoskier, The complete commentary of Œcumenius in the Apocalypse, Michigan 1928, p. 37).
Проповедь II на Рождество; P.G. 96, 693 В.
P.G. 22. 92–93.
Толкование на 2Кор. , гл. II, P.G. 118, 932 CD.
Изложение 2Кор. , P.G. 124, 812.
P.L. IV, 489.
Святой Григорий Нисский, P.G. 45, 221, 223; святой Василий Великий, P.G. 32, 661, 716; святой Иоанн Златоуст, P.G. 47, 644.
Апостольские правила, Правило 51; Сократ, P.G. 67, 612–613.
Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mœnchtum, Leipzig 1898 (Климент Александрийский, P.G. IX, 645; Ориген, P.G. XI, 528). Исключения весьма редки: Пошманн (Poschmann, Poenitentia secunda, Roma 1940) исправляет преувеличения Холла.
Отношение духовный отец – духовное чадо свойственно лишь христианству и является всегда прославлением единого божественного сыновства (см. G. Kittel, Theologisches Wœrterbuch, на слово “Abba” (“Авва”); С. Смирнов, “Духовный отец, или старец”, в: Богословский Вестник, т. 2, 1904; Н. Суворов, К вопросу об исповеди и духовниках в восточной Церкви, Москва, 1906.
Евагрий, Сотницы, VI, 52; также о подсознательном см.: Святой Максим Исповедник, P.G. 90, 997 В; о психологии бесовского: Святой Нил, P.G. 79, 1201.
Кассиан, P.L. 49, 162.
Дорофей, P.G. 88, 1640 С.
P.G. 35, 593 С.
См.: Holl, цит. соч., pp. 119, 120.
Правило 102; Mansi, t. XI, col. 987 (славянский текст: Книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых стец, Свято-Троице Сергиева лавра, 1992).
P.G. 89, 833; 89, 372.
Протестантское пастырское богословие говорит о “душепопечении”, “Seelsorge”. Но реакция против индивидуализма меняет эту позицию и провозглашает необходимость руководства совестью и даже о сакраментальной концепции покаяния (см.: J.D. Benoit, Direction Spirituelle et protestantisme, Paris 1940; Max Thurian, La Confession, Paris 1953; W. Staehlin und Ritter, Kirche und Menschenbildung, Kassel 1950; E.G. Leonard, Le protestantisme francais, Paris 1953).
P.G. 67, 1460.
Что соответствует наблюдениям психологов и педагогов: это возраст “нравственного сознания” у нормального ребенка.
Святой Симеон Солунский, P.G. 115, 357.
Больная природа излечивается противоядием спасения (Святой Иоанн Дамаскин, P.G. 94, 1332); Ориген первым связывает спасение с притчей о милосердном самарянине (P.G. 13, 1886–88; 14, 656 А).
Androutsos, Dogmatique, pp. 383–384.
См.: P. Evdokimov, Le Mariage, Sacrement de l’Amour, Lion 1944.
Против хулящих монашескую жизнь, III, 14; Беседа на Послание к Евреям, VII, 4.
P.G. 39, 44–45.
Hefele, Histoire des Conciles, v. I, p. 621.
Слова епископа Пафнутия.
Правило 13.
Замечательная диалектика апостола Павла относительно обрезания (Рим.1:26–29) ставит проблему точно такого же духовного плана и намечает идентичную перспективу для диалектики девственности.
Строматы, III, 4, P.G. 8, 1096.
На 2Кор. , XIV.
Толкование на Послание к Ефесянам, 5, 32.
Зогар, I.
La Ville.
Святой Иоанн Златоуст, P.G. 62, 380; Святой Григорий Назианзин, P.G. 37, 373.
P.G. 61, 215; 62, 387.
P.G. 8, 1169.
Святой Иоанн Златоуст, P.G. 62, 387.
P.G. 61, 289.
P.G. 62, 143.
В католическом богословии оно сдерживается приоритетом физической девственности (см. на еще робкие, и уже приостановленные попытки: Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe, Breslau 1935; N. Rocholl, Die Ehe als geweihtes Leben, Dülmen 1936; D. von Hilderbrand, Le Mariage, Ed. du Cerf; A. Fayol, Notes sur l’amour humain, Desclée de Brouwer).
P.G. 61, 273.
P.G. 61, 280.
Авва Фалассий, Беседы, Москва, 1893 (русский перевод), Проп. I, Гл. I.
P. G. 51, 230.
P.G. 3, 1184.
Беседа на 1Кор. . 33, 6.
Там же.
Второе послание к Коринфянам. 12, 2. См.: Resch, Agrapha, 71, p. 93: Климент Александрийский, Строматы, III, 3, 92.
Аграфа из Послания Варнавы.
Климент Александрийский, Строматы, 12, 92.
Tischendorf, Evang. apocryphes, Leipzig 1853, p. 325.
P.G. 12, 418.
P.G. 24, 268.
Tixeront, Histoire du Dogme, t. II, 1909, p. 219.
P.G. 48, 644.
P.G. 68, 472.
Часть пятая. Эсхатон, или последние времена...
Глава I. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ И ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
1. Церковь и мир“Идите, научите все народы”, – говорит Господь (Мф.13:19). Церковь занимается отдельными душами, но она также ответственна за национальные сообщества. В результате переплетения исторических событий Церковь может оказаться в самом сердце бытия народа и выражать его сознание, но она может также быть вытеснена на периферию национальной жизни и стать для нее чужеродным телом. Однако она ни в коем случае не может отказаться от своей теократической миссии, без того, чтобы не изменить своей собственной природе. Будучи солью жизни, она осоливает все явления, открывая их сокровенное значение. “Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день” (Ин.13:48). Это слово пребывает в мире как его непосредственный суд; Церковь непрестанно провозглашает его самим своим существованием.
Каждый народ обладает исторической миссией, созидается вокруг нее, но эта миссия рано или поздно встречается с промыслом Божьим. Притча о талантах (Мф.13) говорит об этом замысле и показывает, что никакое задание, данное Господином, никогда не остается неисполненным в мире; если один из слуг отказывается, задание поручается другому, но тогда происходит существенная задержка, и души мучеников вопиют: “Доколе, Владыка, не судишь?” (Откр.1:10).
Всякая власть исходит от Бога: она может извратиться, но существует лишь в связи с Абсолютом. История ничуть не является автономной, все ее мгновения связаны с Тем, кому дана “всякая власть на небе и на земле”. Эта основополагающая связь сохраняется даже при ее сознательном отрицании, т. к. даже в случае секуляризации она, будучи историческим процессом, уже находится под имманентным судом, что принципиально исключает любое нейтральное положение. Историческому не дано уйти от предпосылок его “предопределения”; метаисторический коэффициент судит его и уже сообщает ему положительный или отрицательный знак. Вот почему даже такие слова, как “Отдавайте кесарево кесарю”, несмотря на их кажущуюся простоту, несут религиозное содержание и требуют акта веры.
Этот религиозный ориентир, как факт зависимости от трансцендентного, не обязывает государство, общество, цивилизацию или культуру стать Церковью, но призывает их достигнуть своей полноты в органическом взаимном соответствии по отношению к Церкви. Лишь в этом софийном лоне они рождают свою собственную истину. Любой манихейский дуализм или несторианское разделение, как и любое монофизитство одного лишь божественного или одного лишь человеческого, ведет к иссушению самих животворящих соков библейской мысли, и мы теряемся в бесплодном песке еретических построений. Евангелие категорично: человеческое существование в своей совокупности подчинено одной-единственной цели – Царствию Божию. Социальная жизнь может строиться лишь на догмате, “христианство есть подражание Божьей природе”.
Обмирщенная эсхатология лишается эсхатона и грезит об общении святых без Святого, о Царстве Божьем без Бога. Интересна не ее концепция, а глубинные причины ее возникновения; важен именно духовный контекст, из которого рождается ее философия. Лишь раз и навсегда осознав правду ее вопиющих притязаний и соблазняющую игру бесовских подмен, христианство может ответить достойным образом. Западный христианский мир отказался от Царствия Божия в пользу града земного, прочно установившегося в истории, – однако всякий исторический град является лишь знамением и пророческой притчей о Царствии Божием. Со своей стороны, восточное православие чересчур забылось в обществе ангелов и в литургическом созерцании неба. Марксистская эсхатология вновь вводит и ставит во всей своей полноте духовную проблему истории и обязывает другую сторону избегать всякого протестантского разрыва в таинственной преемственности между историей и Царством Божьим. Именно этот замкнутый дольний мир, это кажущееся безысходным заточение призвана пробить твердая уверенность веры, чтобы явить незримое, воскресить мертвых и сдвинуть горы, зажечь огонь надежды о спасении других и заполнить пустоту мира сего “Церковью, исполненной Троицы”.
Однако, когда служители Добра ослабевают, за эту задачу берутся силы другой природы, снабженные другим знаком, и происходят взрыв и смешение. Евангельский призыв “ищите Царства Божия” (Мф.1:33) обмирщается и вырождается в утопии земного рая. Грозный тоталитаризм апокалиптического зверя проступает под шевелением скоплений людей.
Сегодня христианство является уже не активной движущей силой истории, а пассивным зрителем процессов, которые ускользают от его влияния и грозят свести Церковь к размерам и значению секты, замкнутой в самой себе, находящейся вне судеб мира. Социальные и экономические реформы, освобождение и эмансипация народов и социальных классов осуществляются силами мира сего, не связанными с Церковью.
В настоящее время почти повсюду христиане живут в условиях законодательно оформленного отделения церкви от государства. Церковь может приспособиться к этой новой ситуации, только сохраняя нетронутым всеобщий и всецелый характер своей миссии, свойственный ее природе. Но ее теократия уходит внутрь. Она присутствует всюду, как совесть, голос которой звучит свободно и обращен к свободе, вне всякого мирского императива. Если она и теряет в непосредственно прикладной области, ввиду отсутствия эмпирических возможностей государства, она выигрывает в нравственной силе, благодаря суверенной независимости, которую приобретает ее слово. В атмосфере безразличия или открытой враждебности, потеряв всякую формальную аудиторию, Церковь может теперь опереться лишь на веру истинного народа Божьего, свободного от всякого компромисса и от всякого конформизма.
В каждый момент истории неотвратимым образом предлагается выбор между властью дьявола и властью Бога, и сегодня – сильнее чем когда-либо, благодаря все более и более четкому вырисовыванию обликов обоих градов. Речь идет не о социологическом прагматизме и конформизме, а о догматическом вопросе, и с этого момента никакое сектантское и развоплощающее богословие не может более ничего изменить в правиле веры. Даже грехопадение ничего не изменило в первоначальном замысле воплощения; лишь чересчур человеческая точка зрения пытается его умалить, свести к минимуму, и смягчить наиболее взрывные тексты Евангелия. В их свете именно эсхатологический максимализм монахов наиболее решительно оправдывает историю. Так тот, кто не согласен с этим ангельским максимализмом, жаждущим немедленного конца, внезапного перехода к будущему эону, принимает на себя всю ответственность за историю и оказывается обязанным строить ее положительным образом, что означает на библейском языке из своих собственных глубин превратить ее в “ступеньку” к Пришествию, т. к. глас все так же вопиет из пустыни: “Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему” (Мф.1:3). Самый глубокий смысл “Искушения святого Антония” состоит в том, что оно выявляет динамизм Святого Духа, который вырывает существование из власти дьявола; победа, одержанная над пустыней, имела более серьезные последствия, чем “триумф” империи Константина. Удаляясь в пустынные места, монахи покидали империю, слишком защищенную под сенью компромиссов. Сегодня пустыня, “обиталище бесов”, перемещается в само сердце народов, которые “не имеют надежды и безбожники в мире (Еф.1:12). Монахам нет больше необходимости покидать мир, и каждый верный может найти свое призвание в совершенно новой форме внутреннего монашества. Проблема человека эсхатологического ставится самой историей.
Существует постоянное напряжение между сущностью и существованием, которое, будучи спасительным, возвышает существо над своим бытием, призывая превзойти себя, чтобы броситься к Богу. “Трансценденции” экзистенциалистов вовсе не выходят за пределы мира сего и теряются в песке человеческой немощи, лицемерия и трагического непонимания. Полнота исходит лишь от Бога, никто не может присвоить ее, руководствуясь лишь своими инстинктами собственника; она во все времена принимается как дар. Вот почему истинная жизнь расцветает лишь в евхаристии, благодарении и литургии. Богословие последних времен предполагает восхождение мысли к ее собственному кресту, оно не имеет непосредственной связи с человеческой философией: “Не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” (1Кор.1:9). Оно объемлет всю совокупность откровения, устанавливает тайну человека эсхатологического – Filius sapientiae (сына мудрости) – и приводит к великолепному определению всякого христианина: “Возлюбившие явление Его” (2Тим.1:8). Для этих любящих Его явление время грядущее является временем настоящим, оно определяет все, что ему предшествует, и все, что за ним следует. При его свете каждый великий грешник, подобно разбойнику, распятому одесную Христа, может мгновенно обратиться к вечному эону. Напротив, беззаконный “князь тьмы” оккультистов распадается и разлагает существование во временное субъективное – в адское. Оба, через их определенный выбор, приближают конец, в то время как все, что находится между ними, попадает в категорию “соломы истории”, в “теплоту”, о которой Апокалипсис говорит: “извергну тебя из уст моих” (Откр.1:16). Святые, герои и гении, когда они, каждый по-своему, прикасаются к правде, в пределе восходят к одной-единственной реальности. Софиология, подлинное искусство, икона, литургия, подлинное творчество во всех его формах являются непосредственно присутствующим раем. Напротив, любой культ извращения приводит к непосредственно присутствующему аду; в этом состоит привилегия апокалиптических времен – делать явным все тайное. Здесь, если зло представляет постоянную статическую величину – дурную бесконечность, – то Царствие Божие являет постоянный рост: актуальную бесконечность.
Евангелие от Иоанна передает нам слова Господа, которые касаются этого непосредственно и которые поэтому являются, может быть, самым важным из того, что обращено к Церкви: “Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает” (Ин.13:20). Если мир, человек, наш ближний принимают члена Церкви, одного из нас, он уже находится в последовательном движении приобщения, он больше не находится вне священного круга троичного Общения, благословения Отца. Судьба мира тесно связана с творческой позицией Церкви, с ее искусством заставлять воспринимать себя. Ад не зависит от гнева Божия, он зависит, может быть, от космического милосердия святых: “Видеть Господа в своем брате”, “постоянно чувствовать себя пригвожденным ко кресту”, “непрестанно до самой смерти добавлять огня к огню”.
В Первом послании апостола Иоанна любовь Божья является началом, она предшествует всему, она превышает любой ответ. В своей глубине любовь предстает бескорыстной, подобно чистой жертве Рабы Господней, подобно радости Друга Жениха, подобно радости, которая существует сама по себе, подобно чистому воздуху и солнечному свету; радость, изначально предназначенная для всех. В Евангелии от Иоанна (Ин.13:8) Иисус призывает своих учеников радоваться этой огромной радостью, причины которой находятся вне человека, в единственном объективном существовании Бога. Именно от этой светлой и чистой радости исходит спасение миру.
2. Святой Дух в последние времена
По толкованию Седьмого Вселенского собора, евангельские слова о смертном грехе означают ужасное сознательное сопротивление освящающему действию Святого Духа, сопротивление, которое сводит премудрость Божию к абсурду. Решающий характер воздействий Святого Духа для судеб мира объясняет, хотя вовсе не оправдывает, мистическое течение, связанное с “Вечным Евангелием” Иоакима Флорского (1202). Позднее Фр. Баадер, Я. Беме и даже Жорж Санд провозглашают, что существует три завета, три исторические эпохи. Однако Святой Дух не обладает способностью к воплощению. “Духоявление” являет Христа, Утешитель-плерома (полнота) осуществляется лишь в соединении со Христом. Время Святого Духа – это вовсе не историческое время, не эпоха, а состояние внутренней углубленности, доходящей до причастия Троице. Путь неразделим и весьма точен: от Deus absconditus (Бога сокровенного) к Святому Духу через Сына, и от Святого Духа через Единородного к непостижимой бездне Отца. История Церкви со дня Пятидесятницы уже является последней эпохой, уже учрежденной эсхатологией, и можно даже говорить об особенном действии Святого Духа в течение этой эпохи (Деян.1:17–21). Призыв Veni Creator Spiritus (Прииди, Душе Зиждитель) становится эсхатологической эпиклезой на протяжении истории. Святой Дух действует и подготавливает пришествие Царствия Божия. Конечно, смертный грех состоит в сопротивлении Царствию Божию. Но здесь требуется величайшая осторожность, чтобы избежать всякого упрощения. Мы живем во времена ужасной смуты. Это вовсе не кристально чистая, прозрачная атмосфера Евангелия; это – предсказанное время лжепророков, ложных слов, фальсифицированных ценностей, перевернутых и извращенных состояний.
Скептицизм крайнего аскетического течения вдохновляется словами “не любите мира, ни того, что в мире” (1Ин.1:15) и утверждает, что рано или поздно все то, что является культурой и человеческим творчеством, должно погибнуть в пламени.
В историческом плане греческая культура была использована для проповеди христианства. Может быть, ее роль уже окончена? Так, с приходом Мессии воспроизведение потомства уступает место девственности. Тревожный факт состоит в том, что культура никогда не принимается безоговорочно, она не входит в христианскую духовность как органический элемент. Она является лишь пришельцем, к которому относятся, самое большее, с почтением, и всегда – с подозрением. Легко можно констатировать некий теократический утилитаризм: культурой широко пользуются лишь для целей апологетики, для привлечения душ. Однако, когда культура начинает чувствовать, что она лишь терпима, что она является чужеродным телом, которое используют лишь по мере надобности, она уходит и становится независимой, секуляризированной, атеистической. Но одновременно на свет является проблема, присущая ее собственной диалектике.
Истоки культуры находятся в греко-римском мире. Ее принцип – это совершенная форма в конечном. Если христианство при своем зарождении победило культуру, то культура, в свою очередь, глубоко пропитала христианство, но остаются непреодолимые элементы. Ибо культура, как в своем классическом, так и в романтическом выражении, противостоит эсхатологии, апокалипсису. Своим отрицанием и неприятием смерти культура противостоит концу, ее принципом является пребывание в истории.
Однако оправдать какую-либо историческую активность человека можно, только ссылаясь на нечто иное, чем чистая непрерывность, только открывая ее значение по отношению к концу. “Проходит образ мира сего” (1Кор.1:31); необходимо услышать в этих словах предупреждение не творить кумиров, не впадать в великую иллюзию земного рая и даже – в утопию Церкви, отождествляемой с Царством Божьим. Образ Церкви воинствующей проходит так же, как образ мира. Конец истории является моральным постулатом самой истории.
С другой стороны, сверхэсхатологизм, который перескакивает через историю в конец мира и соединяется с аскетическим отрицанием, лишает историю всякой ценности, обедняет воплощение, развоплощает историю.
Христианская позиция никогда не является отрицанием – либо эсхатологическим, либо аскетическим. Она состоит в эсхатологическом утверждении, Культура не обладает бесконечным развитием. Она не является целью в себе; ее проблема не разрешима внутри ее собственных пределов. Став объективированной, она переходит в систему противоречий. Став истинной, она является сферой, в которой человек создает ценности и выражает свою “теургическую” истину; но эта истина переходит границы временного настоящего, обличья мира сего, и вот поэтому культура в своей высшей точке превосходит свои пределы и становится по своей сути символом, знаком “совсем иного”. Рано или поздно искусство, мысль, нравственное, общественное сознание останавливаются перед своими собственными границами, и оказываются перед выбором: утвердить себя в дурной бесконечности своей собственной имманентности, опьяниться своей пустотой или преодолеть свои удушающие ограничения и в прозрачности своих чистых вод отразить трансцендентное. Бог пожелал так, чтобы Царство Божие было достижимо лишь через хаос мира сего; оно есть не пересадка чужеродной ткани, а явление тайной ноуменальной глубины самого этого мира.
Сегодня всадники Апокалипсиса шествуют по земле. Всадник белый, победитель, Христос, окружен странными спутниками – всадниками, изображающими войну, голод, смерть. Не объято ли христианство тяжелым, трагическим сном в тот самый момент, когда мир терпит крах, распадается? Мир живет в христианских ересях из-за христиан, которые не способны явить торжествующее присутствие Жизни. Христианский мир потерял тот столь ярко выраженный смысл, который был свойственен Израилю – gens prophetica, “народу-метафоре”, “народу-пророку” – быть богоявляющим народом. Апокалиптический Христос, отличающийся от исторического Христа, приводит все мировое пространство к последнему кризису, суду, освещаемому парадоксальным светом, неожиданным и подобным суду над Иовом и его друзьями.
Мосты рушатся, связи рвутся. Факт, более тревожный, чем первая Вавилонская башня: сегодня мы видим уже не смешение языков, а невозможность условиться говорить на одном языке, смешение умов. Мир замыкается в самом себе и, возможно, больше никогда не услышит голоса Христа: христианство замыкается в самом себе и не имеет более никакого влияния на историю. Оно слишком обосновалось во времени и в ничтожнейших проблемах повседневной жизни и стало настолько близоруко, что теперь другие занимаются перестройкой мира и ищут, уже с новой целью, великого синтеза. Такова беспощадная действительность. “Совсем иное” есть предопределенность, содержащаяся в веяниях Святого Духа. Expectandum nobis etiam et corporis ver est (“Надлежит и нам ожидать весны тела”). Весть о воскресении погружает исторические тела и, следовательно, культуру в это ожидание последней весны.
Как и во времена катакомб (это открывает нам их искусство), нужно выбирать между жизнью для смерти и смертью для жизни. У современного искусства впереди нет никакой возможности развития, т. к. оно является по своей сути очищающим разрушением всех страхов, принадлежащих векам упадка. Абстрактное искусство, в своей самой высшей точке, вновь обретает свободу, лишенную всех заранее предрешенных форм. Внешняя форма повержена, а доступ к внутренней форме загражден ангелом с пламенным мечом. Он откроется лишь через крещение, и это – смерть. Художник вновь обретет свое священство, лишь совершая таинство Богоявления: писать, ваять и петь имя Божие, в котором Бог устроил Свое обиталище.
Потуги переписчиков, окаменелое и мумифицированное искусство – все это, к счастью, преодолено. От копирования через импрессионизм и крайнюю степень расчленения в абстрактном искусстве современный художник призван к творческому построению внутренней формы. Но ее истина может прийти лишь из содержания мистического видения: “Слава очей – это быть очами Голубицы”. Речь идет теперь не о том, чтобы воплотить идею, точку зрения, школу – речь идет о воплощении самих веяний Святого Духа, о софийном искусстве. Из эсхатологического источника исходит совершенно новое: “Мы вспоминаем о том, что грядет”.
Что же касается науки, то она ищет объяснение тому или иному явлению, перемещая подлинную трудность в чуть более отдаленную область. “Самая большая тайна заключается в самой возможности существования хоть какой-то науки”. “Самая непостижимая вещь в мире – это то, что мир постижим”. Сама наука всецело является тайной. Даже агностики могут свидетельствовать о наличии тайны и испытывать в результате этого некоторое религиозное чувство. “Самое прекрасное чувство, которое мы только можем испытать, – это мистическое чувство. Именно в нем заключается зародыш всякой истинной науки”. Святой Дух может вызвать у честного, объективного ученого изумление подобное тому, какое испытывает Платон: Он может научить наиболее подготовленные умы удивлению ангелов и открыть “пламень вещей” в самой материи мира.
В философском плане экзистенциальная философия преодолевает границы всякой объективации и переходит таким образом к своему собственному освобождению, она перестает быть только мыслью, которая мыслит о себе, в этой бесплодной игре она касается предела: “Закрытая ладонь есть смерть”.
Для любого размышления об Абсолютном экзистенциальная феноменология, быть может, наиболее благоприятна. Феноменология наблюдает образ явления вещей и соотносит их условия со структурой человеческой субъективности, через которую они проявляются. После Гуссерля и его школы операция феноменологической редукции стала внутренне необходимой для философского размышления. Она отделяет непосредственное от того, что его скрывает. Раскрытие, таким образом, есть серия последовательных очищений. Эйдетическая редукция отделяет сущности от случайного и от искусственного. Под разнообразием мы обнаруживаем фундаментальную структуру, эйдос. Эмпиризм и психологизм преодолены, устанавливается трансцендентальное. Сущности восходят к трансцендентальному субъекту; именно его чистому взгляду, его аподектической интуиции мир открывается как феномен. Чтобы осознать это чистое “я”, нужно совершить трансцендентальную редукцию. Но нужно идти еще дальше и редуцировать восприимчивость к исходной активности. Трансцендентальное вовсе не переходит в психологическое сознание таким, какое есть, оно в нем осуществляется. Именно через опыт мы познаем ее глубинную интенциальность (мысль всегда является мыслью о чем-то, направленной мыслью), ее плоды выражают вовне то, что находится внутри. Образующая редукция постигает интуицию как созидательницу сущностей. Но трансцендентальное выявляет внутри-субъективную и внутри-объективную множественность, и разделение субъект-объект остается: даже при образовании и создании сущностей оно не является единым. Cogito, таким образом, не является последней реальностью, не является абсолютом.
Редукция направлена на мир в его совокупности, она “подвешивает” или заключает “в скобки” также все, что мне принадлежит, но что не является мною самим, вплоть до моих чувств и моей личной жизни, постольку, поскольку она погружена в исторический процесс. Таким образом, обретенное cogito находится над временем и над эмпирическим субъектом. Это явление моей вневременной сущности, столь волнующий опыт полного освобождения от эмпирического мира. Но если эта свобода, как у Сократа из “Федона”, и несет в себе “огромную надежду”, то она не более уютна, чем разреженный воздух вершин: это открытый момент отрешенности и полной вовлеченности, творческое предвестие духовного свершения, которое призывает к предвосхищению абсолютной ценности... Возможна ли последняя, окончательная редукция? Да, если редуцировать означает не упразднить, а осознать как относительное. Внутри-субъективная множественность ведет к требованию высшего единства. Если мы останавливаемся на предварительных редукциях, мы вынуждены проецировать на них Абсолютное и тогда получаем Deus non est, Deus est (Бога нет, Бог есть): Всемирный Дух Гегеля, мир сущностей Гуссерля, мир идей Платона, абсолютное “я” Фихте, абсолютная природа Спинозы, абсолютная материя материалистов, абсолютное общество Маркса, земной рай утопистов, абсолютная свобода Сартра. Последний пример типичен для всех других. Поскольку человек пользуется абсолютной свободой и поскольку он является источником оценки значения, поскольку он есть единство сущности и существования, то Deus non est, Deus est. Но даже у Сартра человек, не имея возможности осуществить соединение “в себе” и “для себя”, может быть лишь несостоявшимся Богом.
Реальность существования Бога для человека исходит из философии очевидности, но ее еще предстоит полностью создать. Если она будет построена, она, конечно, будет философией откровения. Очевидность, может быть, собственно и есть подлинно апофатическое знание. Она призывает разум к выходу за свои собственные пределы, к самопреодолению в стремлении к сокрытой реальности, которая открывает себя. Очевидность всегда есть откровение, и это, быть может, ее единственное возможное определение. Она возникает и становится необходимой с абсолютной уверенностью, которая принадлежит совсем иному измерению, отличному от интеллектуальной уверенности. Любой вопрос, затрагивающий возможность иллюзии или реальности содержания этого откровения, становится беспредметным. Религиозный опыт как таковой не содержит никакого предварительного, рефлексивного состояния, – как раз напротив, он предполагает обнаженность восприятия, свободное пространство нас самих, целиком открытое благодати. Религиозный опыт есть с самого начала присутствие Божие, которое предшествует всякому вопросу – и через это принципиально его упраздняет.
Очевидность, которая достигается в итоге логического доказательства, не является действительной очевидностью, а калькуляцией, результатом некой операции. Она скорее является противоположностью очевидности. Тем более, что очевидность трансцендентного упраздняет всякое доказательство, всякое опосредование. Она не исходит ни из вероятности, ни из доводов. Она зависит лишь от света, исходящего из самого объекта. Вот почему самое подлинное очевидное всегда есть самое непостижимое, т. к. оно расположено вне всякого доказательства, будучи абсолютно обнаженным и абсолютно необъективируемым. Но непосредственное постижение мистического озарения является чистой благодатью Парусии. Из круга безмолвия, поверх бездны, окружающей Отца, голос изнутри моего разума говорит мне: Я есмь Я. Это вовсе не определение, а апофатическая формула трансцендентности личностного Бога: имя, скрывающее больше, чем являющее, и показывающее, что человек не может истинно назвать Бога, и в то же время оно есть Имя-Место, где Бог присутствует непосредственно: Ты, неприступный и близкий.
Мир сомнителен, Бог абсолютно достоверен, очевиден, и лишь в живом отношении с Богом, как Его икона, я также абсолютно достоверен, очевиден. Воплощение Господа нашего соединило две апофатические очевидности неслиянно и нераздельно: Deus absconditus et homo absconditus (сокровенного Бога и сокровенного человека); “Я есмь Я”, и пред Его лицом этот другой существующий, это бытие и, точнее, это сверхбытие вещает: “Я есмь я”; Тот, кто мыслит себя в себе самом, и Тот, кто мыслит себя в человеке, в Своем собственном человеческом образе, в одновременно тварном и богочеловеческом сознании: несказанное Имя в самом себе, апофатическое Ничто и произнесенное Имя: Се Человек, обитель Троицы.
Человек никогда бы не смог выдумать Бога. Если человек мыслит Бога, если он обладает интуицией в отношении того, что полностью превосходит его воображение, то это потому, что он уже находится внутри божественной мысли, потому что Бог уже мыслится в нем.
Если человек, даже атеист, достаточно честен и искренен сам с собой, если он сохраняет свою способность заглянуть в себя через свою собственную тайну, оставаясь чистым от всякой предвзятой интеллектуальной идеи, чистым от всякого предубеждения и от всякой извращенной “душевности” страстей, он легко может сказать словами Паскаля: “Действительно, человек бесконечно превосходит человека, действительно нужно совершить насилие над собой, чтобы не верить”... Кто-то изваял мое лицо, кто-то вложил в мое сердце бесконечность моих стремлений, способность видеть моего собеседника и говорить ему “ты”, и через эту смиренную любовь видеть абсолютного Собеседника, Иного, “совсем Иного”, и говорить Ему “Ты”, Абсолют.
Всякая рациональная проблематика относительна. Напротив, человек может признать глубинную и врожденную направленность своего разума. Она неоспорима, как пережитая реальность, превосходящая рефлексивный план. Никоим образом нельзя достигнуть Бога в ходе аналитической регрессии, восходя к ряду конечных причин: абсолютное оказывается неизбежно скомпрометированным из-за относительного, овеществленного, падшего в эмпирическом плане и объективированного. Между измерением абсолютного и измерением относительного лежит непреодолимая бездна. Но если и не существует идеи Бога, абстрактного понятия Бога, то, напротив, Бог с самого начала есть тот Некто, кто наиболее близко знаком.
Бог существует для меня в силу того факта, что заставил меня существовать; это – жизненная уверенность, познанная “утробой”. “Образ”, которым человек отмечен, относится не к принципу объяснения, не к гарантии доказательств, но к акту самоутверждения Бога, полностью апофатического в отношении Его сущности, полностью и непосредственно ощущаемого как Существующий.
Образ Божий, вложенный в человека, направляет его к мысли о Боге, но содержание мысли о Боге не является более мыслимым содержанием. Во всякой мысли о Боге именно Бог мыслит себя в человеческом разуме и непосредственно создает религиозный опыт Своего присутствия. Человек не может еще ничего сказать о Боге, но он может сказать “Бог”, он уже знает Его близость, которая всецело окружает его.
Бог всегда тождествен себе, Своей любви. Человек всегда изменчив в своем внимании к своей собственной направленности, которая ведет его к присутствию. Оно вовсе не является неодолимым, вовсе не является принудительным. Это едва ощутимый призыв, приглашение к диалогу, свобода, веяние Святого Духа.
“Откуда приходит человек и куда он уходит”? Этот вопрос Паскаля ясно очерчивает зависимость от источника. Кажется, что Господь услышал этот вопрос и дал на него удивительно точный ответ: “Я исшел от Отца... и иду к Отцу” (Ин.13:28). Свыше всякого бытия и всякой мысли находится абсолютная очевидность истока, довод, приводящий к бездне Отца: я могу исходить только от Него и могу возвращаться лишь к Нему. Через предчувствие Отца, данное каждому человеку, Святой Дух пророчествует: “Авва, Отче”. И это для того, чтобы дать понять, что тот, кто вышел Ему навстречу , не чужд Его тайне, что Он есть Любовь, и чтобы жить в ней, Бог “замыслил” воплощение и предложил человеку, сверх Своего присутствия, благодать Своей смерти, историческую веру и Царство Божие.
Господь сказал: “Вы – боги”, при одном предварительном условии – признать себя “сынами Всевышнего”. Между обоими определениями лежит hiatus irrationalis (иррациональная пропасть), предел апофазы. Последняя редукция открывает ее. Предел сохраняет и очерчивает божественную свободу, т. к. нет никакой внутренней необходимости, которая вынудила бы Бога выйти из Себя. Лишь Его Любовь переходит эту пропасть, – Любовь, никогда не постижимая и единственно желанная человеческому сердцу.
Соловьев, комментируя слова о проповедании Евангелия повсюду как знамении последних времен, видел в них особый смысл: в некоторый момент истории нейтральная, агностическая позиция исчезнет; каждый, встав перед очевидностью, будет вынужден решать, выбирать: или со Христом, или против Христа. Но даже здесь полностью остается тайна извращенной воли. Очевидность вовсе не принуждает волю, как и благодать затрагивает ее только в зависимости от ее свободы. Если бы мы задумались над действием Святого Духа в последние времена, возможно мы бы смогли увидеть в них как раз эту функцию “перста Отца”, Свидетеля: заповедь, решительный призыв, обращенный ко всем формам человеческой культуры: осознать свою первоначальную направленность и достигнуть окончательного выбора Царства Божьего, его проекции за пределами мира сего.
“Вера, которую Я люблю больше всего, – сказал Бог, – это надежда”. У Шарля Пеги, как и у апостола Павла, вера является надеждой на грядущее. Надежда является эсхатологическим аспектом веры, это вера, обращенная к тому, что грядет. Если вера как исповедание истоков является обращением назад, в предание, надежда является обращением вперед, в эсхатологию.
Образный язык Апокалипсиса описывает Новый Иерусалим, в который “народы принесут славу и честь свою” (Откр.13:24), следовательно, они войдут в него не с пустыми руками. Верится, что все, что приближает человеческий дух к истине, все, что он выражает в искусстве, и все, что он видит истинным, – все эти вершины его гения войдут в Царство Божие и совпадут с его истинной реальностью, подобно тому как точный образ совпадает со своим оригиналом.
Даже величественная красота снежных вершин, ласка моря или золото хлебных полей станут тем совершенным языком, о котором нам часто говорит Библия. Солнечные пейзажи Ван Гога или тоска венер и грусть мадонн Ботичелли обретут свое соответствующее выражение, когда жажда обоих миров будет утолена. Платон вновь обретет вечно молодого и прекрасного Сократа, званого на мессианский пир божественного Эроса.
А разве самый чистый и самый таинственный элемент культуры, музыка, уже не переносит нас в преображенную действительность этого мира? В своей высшей точке собственно музыка исчезает и оставляет нас перед Абсолютом. В мессе Моцарта слышен голос Христа, и ее приподнятость достигает литургического значения присутствия.
Когда культура истинна, она, как вышедшая из культа, вновь обретает свои литургические истоки. И когда любая форма становится преисполненной присутствием Божьим, она, совсем как евхаристическое присутствие или свет Фавора, не позволяет устроиться здесь, во времени. “Ищите Царства Божия”, – и культура, в своей сущности, является этим поиском в истории того, чего нет в истории, что ее переполняет и ведет ее за ее пределы. На этом пути культура становится указателем и выражением Царства Божия с помощью мира сего.
Подобно тому, как пришествие исторического Христа призывает пришествие Христа во славе, как евхаристия является одновременно возвещением конца и в этом возвещении уже вызывает вспышку, предвосхищая, то, что пребывает вечно, так культура в своей высшей точке отрекается от себя самой, проходя через тайну пшеничного зерна, принимает облик святого Иоанна Крестителя, провозвестника и предтечи, – и тогда ее звезда тонет в сверкающем свете Полудня. Культура становится знаком, стрелой, обращенной к грядущему. Вместе с Невестой и Духом она говорит: “Гряди, Господи!”
Если каждый человек, образ Божий, является Его живой иконой, то культура есть икона Царствия Небесного. В момент великого перехода Святой Дух Своими легкими перстами коснется этой иконы и что-то из нее пребудет навсегда.
В вечной литургии будущего века человек всеми элементами культуры, прошедшими сквозь огонь последнего очищения, воспоет славу своего Господа. Но уже здесь, в этом мире, человек, принадлежащий христианской общине, ученый, художник, все священники всеобщего священства, служат свою собственную литургию, в которой присутствие Христа осуществляется в меру чистоты Его пристанища. Подобно иконописцам, они пишут с помощью материи и с помощью света мира сего знаки, через которые постепенно вырисовывается таинственный облик Царствия Божия.
3. Богословие истории
Что означает время, заключенное между вознесением и Вторым пришествием? Дар Царствия Божия таинственнейшим образом связан с человеческим усилием. Действительно, человек должен совершать свое спасение с трепетом, он призван найти в истории единое на потребу, а также “желать пришествия дня Божия” (2Пет.1:12). Но эта синергия между действием Бога и действием человека не поддается никакой дозировке. Кенозис скрывает присутствие Божие, и Его вторжения исключают всякое упрощенное видение. Современный спор между “инкарнационистами” и “эсхатологистами” как раз помещает богословие истории не в рамки разума, а в рамки веры.
Историческая материя оказывается весьма сложной. Уже невозможно более применять к ней категории сакрального и профанного, наподобие града Божия блаженного Августина, или упрощенные трехсоставные схемы по типу Боссюэ: творение, грехопадение, спасение. Не существует прямолинейного поступательного движения. Так например, научный прогресс на уровне обобщений распадается, и после работ Эдуарда Мейера, Шпенглера, Тойнби ясно доказано наличие разрыва между цивилизациями. Даже между близкими эпохами ритм резко нарушается; историки наряду с постепенным развитием открывают прогресс в регрессе. Однако объективность каждого историка всегда относительна, и мы оказываемся перед выбором между многочисленными возможными прочтениями.
Секуляризованное видение отрицает начальный момент творения и делает ударение на заключительном моменте – на человечестве, воссозданном в его самой совершенной форме. Этот конец истории, и только он один, чудесным образом обеспечивает неумолимое движение истории к своему завершающему, абсолютно разумному аккорду. Движущая сила материи вырабатывает человеческое сознание, как печень вырабатывает желчь, и под конец расцветает в Логос. Человек разрывает цепь отчуждений и становится строителем своей собственной судьбы. Как правило более не существует историков чистого абсурда, однако наивный финализм может принять неожиданный оборот: это сомнительный рай марксистов или напряжение экзистенциалистов, которое никуда не ведет.
Слова Паскаля “человек бесконечно превосходит человека” становятся необходимостью для Ницше и приводят его к утверждению двух единственно возможных безумий. Нужно в равной степени стать безумным, чтобы принять вечные возвращения Ницше и чтобы принять “безумие креста” апостола Павла: демонизм или святость – единственные трансценденции, стремящиеся к “иному”. Дилемма остается фундаментальной: это дольний мир, замкнутый на единственную реальность, или открытый горнему.
Какая точка зрения верна? Ибо существует множество точек зрения и существует отверстое око, о котором говорит Евангелие (Лк.13:34). Речь идет не об угле зрения, а о свете, направленном на целое. Библия дает нам это видение, но по-своему: она углубляет знания, но особенно учит почитать тайну в безмолвии. Вот почему терпит крах всякая человеческая попытка исторически истолковать Апокалипсис, “датировать события”. Мы держим в руках оба конца цепи, провиденциальный и прогрессистский, иначе говоря – метаисторию и историю, – и разумеется, мы выигрываем в глубине, оставляя большое место тайне и невыразимому.
Философия истории, весьма популярная в XIX веке, сдает свои позиции богословию истории. На месте нравственных принципов добра и зла открываются Бог и Сатана. Мысль о Боге ведет к Его живому присутствию: Бог истории открывается как Бог в истории.
Для греков божественное было неподвижным. Мир человеческих существ есть подвижный образ неподвижности богов. Его движение периодически воспроизводит все те же события. Однако словам пессимиста Екклезиаста “нет ничего нового под солнцем” (Еккл.1:9) отвечает сверкающий динамизм утверждения апостола Павла “древнее прошло, теперь все новое” (2Кор.1:17).
Для восточной мысли грехопадение, воплощение, Второе пришествие являются не только вторжениями небесного, но внутренними событиями, которые знаменуют переход (Пасху) в состояние, отличное от человеческой природы, и которые таинственным образом присутствуют и действуют в истории. С другой стороны, Христос интересует святоотеческую мысль не только в одном Его аспекте Иисуса из Назарета с Его человеческими деяниями, но и в онтологическом изменении, которое Его пришествие производит в земном существовании. Историческая, феноменологическая сетка скрывает Его ноуменальную реальность. Второе пришествие уже осуществилось, оно присутствует и направляет ход истории, и оно одно делает возможным ее истинное прочтение.
῞Απαξ (Евр.1:26), “однажды за всех”, устанавливает единственное, бесповоротное и необратимое значение события воплощения. Вознесение вводит человеческое в вечность бездны Отца и ставит окончательную печать на спасении. Осью истории является единственность Христа. То, что происходит до, является лишь “прообразом”, типологией. В Рим.1:14 Адам есть τύπος, образ Христа, и святые отцы разгадывают смысл исторических событий в свете того же типологического метода. То, что происходит после, является продолжением воплощения; эпоха Церкви есть эпоха субъективного приобретения всеми и каждым объективного спасения. Вот почему Церковь раскрывается как новое измерение жизни и новая оценка истории, т. к. ее осью является то, что единственно и открыто эсхатону. Это великое открытие эсхатологии наших дней, столь забытое в истории и, однако, внутренне свойственное святоотеческой мысли. Типологическое понимание Ветхого Завета у святых отцов являет его прообразом грядущего во Христе эона и поэтому дает возможность прочтения истории в его свете. Эон, который есть Христос, есть одновременно эсхатон: во Христе история завершается. Ничего нового в истории не может произойти. Нельзя превзойти Христа. Откровение знаменует здесь свой конец, т. к. воскресение уже устанавливает Второе пришествие. Это последнее неизбежно, но его час неизвестен и поэтому, по словам святого Григория Нисского, история “идет от начала к началу через начала, которые не имеют конца”; но в своей совокупности она стремится к своему концу. Если ожидание его выражается всегда по-новому, конец определяет свое содержание и творит из него священную историю. Обычный порядок изменен на обратный. Именно священная история является всемирной историей, и светская история расположена внутри нее, являясь только ее частной феноменологией. Христос в Своем Втором пришествии, ничего не добавляя, доводит историю до ее полноты, в смысле конца всякого кенозиса и всемирного явления Своей славы. Она тайно уже наполняет собой настоящее (Свят, Свят, Свят из Ис.1:3) и в устремлении взоров вперед так же властно обязывает принять на себя настоящее, в котором со всей реальностью совершается спасение. Это собственно и есть дело Святого Духа, осуществляемое с помощью проповеди и таинств, которые продолжают и являют историческое видимое присутствие Христа в каждом мгновении времени.
Надо сказать, что с этой точки зрения история, не будучи определенной, тем не менее обусловливается элементами, не являющимися историческими. Действительно, история не является независимой, она обладает своей эдемской предысторией и будет иметь свою постисторию в Царствии Божием. Первая, проходя через историю, завершается во второй. Эти метаисторические силы живут в истории, действуют и обусловливают ее задачу. Таким образом, ясно видно, что если эсхатология и обладает доводом от человеческой истории, то она также включает совершенно особое участие небесных, ангельских и демонических сил.
История не может ни длиться неопределенно долго, ни произвольно остановиться. Решение о ее конце включает как трансцендентный элемент волю Отца и как имманентный элемент – внутреннюю зрелость самой истории. В имманентном плане человеку не дано изменить идею своего существования, избежать своей судьбы; он может только изменить знак исторической композиции на положительный или отрицательный. Она становится понятной после того, как осознано, что во Христе история уже “совершилась”. Мессианское царство, день всеобщего воскресения и окончательное завершение Второго пришествия находят свое высшее разрешение в единой и единственной личности Христа. Он есть Мессия и Он есть Яхве, Христос и Господь, Бог и Человек, начало и конец, и конец есть вовсе не завершение эволюции, а полнота. Цель предвечного Божьего совета уже достигнута, и нет ничего за пределами ипостасного единства божественного и человеческого во Христе. По словам святых отцов, Христос являет Собой “начаток” обоженного человечества, “и все тесто освящено этой закваской”. “Он взял на себя человеческую природу в ее совокупности”, “чтобы исцелить ее всю целиком”. Он – Первенец нового творения. Мы действительно видим, до какой степени мировая история находится внутри истории спасения, истории Церкви. В таинствах все события эсхатона уже присутствуют и находятся в действии. ῟Ακολουθία (регрессирующей последовательности) грехопадения Бог противопоставил ἀκολουθία (упорядоченную последовательность; порядок, прогрессирующий вследствие внутреннего динамизма) спасения. Таким образом, история является диалектикой начальных действий Бога и ответов человека, взаимодействия двух Адамов, диалог двух “да будет”. Последний синтез восходящих и нисходящих движений уже дан во Христе, и единственно Христос владеет ключом к смыслу истории. Разрыв между нормой и экзистенцией, между падшей природой и ее обоженным состоянием будет предметом суда, откровения последнего дня. Христос есть абсолютная мера всеобщего богочеловечества. Догмат Халкидона является светом для всякого богословия истории: абсолютный субъект истории есть Христос, и только находясь с Ним в связи, только во Христе, будучи охристовленным, человечество тоже является субъектом истории. Христос вмещает в Себя все изменения, и если нет ни иудея, ни эллина, то это означает, что всякий народ и всякая культура обретают в Нем свое собственное лицо. Истина обладает всеми образами выражения, и она говорит на всех языках (Откр.1:9). Это Церковь, облеченная в “одежду разноцветную” (Быт.13:23; 1Пет.1:10).
Христос также является местом встречи между Западом и Востоком, библейских и внебиблейских религий. Если сближение подлинных мистиков всех религий и является симптоматичным, то оно не менее волнующе. Чтобы оценить его в его подлинном значении, нужно отбросить прежде всего агностический релятивизм, так же как и синкретизм оккультных учений, “традиционализм”, подобный учению Генона. Остается великий факт внутреннего развития духовной жизни во внебиблейских религиях (индуизме, буддизме) и фундаментальное утверждение трансцендентного и личностного Бога в библейских религиях (иудаизме, исламе, христианстве). Однако универсализм христианского откровения, само его чудо, провозглашенное святыми отцами, включает все предания, вовсе не искажая их, но возвышая их подлинную сущность до их собственной истины. Так поступает апостол Павел в Афинах перед жертвенником неведомому богу. Подлинная диалектика религий показывает, что внутренняя духовная жизнь рано или поздно ведет к трансцендентному, и именно поэтому отец Анри де Любак задается вопросом по поводу амидистской или буддистской веры, не является ли Амида отдаленным заменителем Спасителя; также и Рамануджа, индуистский мистик XI века, приходит к убеждению, что всякое буддистское отождествление человека с божественным делает невозможной “встречу” между человеком и Богом и, следовательно, невозможной любовь, и поэтому Рамануджа утверждает и исповедует личностного Бога. Более близкий нам опыт отца Моншанена повествует в весьма волнующей манере об ожидании Индией отсроченного откровения тайны Троицы; это, наконец, совершенно потрясающее послание Аль-Галладжа, мусульманского мистика, распятого в Багдаде в 922 г., до сих пор почитаемого, который молился, как настоящий христианин: “Да хвалится Бог, Который открыл в Своем человечестве (Христе) тайну Своего сияющего божества”. Распятый за исповедание воплощения, он вонзил эту истину в само сердце ислама.
У иудеев есть Бог, но нет воскресения; греки знали идею воскресения, но не имели Бога; в христианстве Бог умирает и воскресает. Между фанатизмом, который разделяет, и синкретизмом, который смешивает, располагается тайна Христа, который различает нераздельно и соединяет неслиянно. Одна лишь внутренняя жизнь, разумеется, не дает благодати, но она подготавливает к встрече с нею. Библейский монотеизм содержит в себе инициативу Бога, Его сошествие к твари и “выход к Иному”, восхождение со стороны человека. Энстаз максимально благоприятствует и предполагает любящую открытость к Богу, так как “невидимое Его, вечная сила Его и Божество... чрез рассматривание творений видимы” и история предстает полной “чудес Божьих”. И Христос как раз является центром, в который сходятся и наиболее осуществившаяся внутренняя жизнь, и абсолютная трансцендентность. От теоцентрической направленности Ветхого Завета Святой Дух ведет к христоцентрическому откровению: “Бог спас нас и призвал званием святым... по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе” (2Тим.1:9).
Лишь Христос, содержащий все человеческое в Своем ипостасном единстве, спасает все творение от гибели, помещает его в лучезарной близости Бога и являет во внутренней жизни трансцендентное присутствие троичной Единицы.
Является ли Христос Царем истории? Да, но в кенотическом духе Своего входа в Иерусалим, неуловимом для историков; более чем видимым и абсолютно очевидным для веры. История по образу притчи о пшенице и плевелах являет смешение видимости и тайной глубины (Мф.13:24–30).
Противоречие, которое разделяет мир надвое, состоит не между духом и материей, а между духами различной природы (Откр.13:9). 13-я глава Апокалипсиса повествует о двух дьявольских атрибутах, обладающих огромной разрушительной силой: о неограниченной власти, которая похожа на власть тоталитарного государства над людьми, и о ложных пророчествах. Являются “знаки” анти-Церкви, – лицемерие, паразитический и пародийный характер. Зло обкрадывает бытие, живет паразитически в нем и перестраивает его элементы в дьявольской манере подражания Богу, но с обратным, отрицательным знаком, что существенно для всякой пародии. Напротив, догматическое утверждение Халкидона указывает на положительную цель: собрать человечество в царственной полноте Христа. Исключительное противостояние двух царств объясняет наличие катастрофического конца. Речь идет не о прямолинейной эволюции, но о “катастрофическом прогрессе”, движении инволюции к эоническому итогу.
Не уточняя дат, имен и эпох, можно выделить в истории этот двойной процесс: все более и более расширяющуюся дегуманизацию и, с другой стороны, проповедование Евангелия по всему миру, кристаллизацию эонов, которая сделает выбор неизбежным, святость в ее новых формах свидетеля-мученика и обращение Израиля. Есть основания верить, что одно из этих двух течений будет увенчано Христом в Его пришествии, а второе обретет свое завершение в Антихристе.
4. Церковь – эсхатологическое общество
В своей основной части Библия излагает хронику народа Божия, соединенного в церковное общество. Характерный факт: единственный раз, когда термин “общество” употреблен в Ветхом Завете, он относится к закланию пасхального агнца (Исх.13:6–11). “Все общество сынов Израилевых” получает четкий приказ, который определяет его поведение: “Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня”. Объединенное вокруг мессианской трапезы, обращенное к грядущему Мессии, это – сообщество неустанно шествующих паломников. Пришло “время отдохновения”, но позиция общества Нового Израиля остается все той же: “Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего” (Евр.13:14). Царь пришел, но Его Царство еще должно прийти.
Во Христе вся протяженность истории обращена к Его Царству. Христианская цивилизация замыкает цикл культур, являясь последней из них. Ее характер антиномичен. Она действительно является местом воплощений Премудрости Божьей и в то же время, достигнув своей вершины культуры-культа, она вырывает из всякой укорененности в истории и ведет через последовательные преодоления к освобождению от плена истории. “Обладать, не обладая”, “предоставить мертвым погребать своих мертвецов”. Это – радостная отрешенность того, кто восходит на Святую гору. В этом – первоначальный смысл христианских бдений: надо было бодрствовать, чтобы встретить Господа. Homo viator (человек странник) – это путник, который питается евхаристическим хлебом.
Часто встречающееся непонимание отождествляет мир – шалом, который возвещает Библия, с мирной жизнью; Утешителя, Comforter, – с комфортабельной жизнью. Однако, согласно Евангелию, верные будут гонимы, и Церковь утвердится на крови мучеников. “Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч” (Мф.13:34). “Огонь пришел Я низвести на землю” (Лк.13:49), – возвещает Господь мира, шалома. “Мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам” (Ин.13:27). Мессианский мир взрывает границы истории и ведет ее за пределы ее очертаний. Здесь он словно точка перспективы в картинах Эль Греко, которая управляет композицией, но находится вне картины. Мессианский мир властно ставит фундаментальный для каждой Церкви вопрос: устанавливается ли она в истории или она воплощает этот мир, который потрясает основы истории и завершает земное существование? Из этого критерия вытекают два метода определения Церкви и ее роли в истории: первый исходит из нее самой, только из ее членов, – и это статическое, историческое понимание Церкви, “сидящей за столом”, наслаждающейся всеми радостями мистического пира, но при этом утерявшей свойство являться закваской и вместе с ним – влияние на судьбу мира; напротив, Церковь, искушаемая притязанием на светскую власть, овладевает миром, но не обладает более “осоливающим огнем”. Эсхатология без истории (восточное искушение) или история без эсхатологии (западное искушение) порождают из-за безнадежности сверхэсхатологию (протестантское искушение), которая перепрыгивает через историю в завершающий момент. Во всех этих случаях именно история и мир оказываются лишенными своего собственного смысла: быть объектом божественной Любви, местом воплощения Царства Божия. Другой метод исходит из Христа и Его первосвященнической молитвы: Господь пришел в мир сей лишь ради Своей апостольской миссии, “да уверует мир” (Ин.13:21). Только Церковь, которая живет в свете Второго пришествия (и это последнее есть не столько конец мира, сколько его спасение), реально существует в истории, т. к. День Господень – это вовсе не последний день, а плерома. Это показывает, что Церковь живет при двойном строе: историческом строе воплощения и эсхатологическом строе Второго пришествия. “Вся Церковь есть Церковь кающихся, вся Церковь погибающих”, и в то же время, как об этом говорит Николай Кавасила, “нельзя идти далее, нечего прибавить... после евхаристии не к чему более стремиться, нужно остановиться здесь”. И, однако, после причастия священник произносит: “О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего”. Именно в сердце истории со всем реализмом, который заключен в воплощении, и, разумеется, с помощью космической материи Церковь служит евхаристию, претворяет эту материю в Хлеб Царства Божия, и именно эта мессианская Трапеза дает Церкви возможность осознать себя как утвержденную эсхатологию и стремление ко Второму пришествию.
Если за пределами секуляризованного христианского града возникает монашество, то его роль как раз заключается в том, чтобы быть максимальной мерой, солью Царства Божия, чтобы явить в его свете метаисторическое значение исторического существования. В древние времена народ приходил на миг взглянуть на столпников и уносил в своей душе это грандиозное видение, чтобы мерить его высотой свое собственное существование. Те, кто уходит из мира, вновь оказываются в нем в другом облике, и необходимо услышать их весть, найти в ней духовную меру всей жизни.
Аскетическая наука пользуется различием, согласно апостолу Павлу, между сома, телесностью, невинной самой по себе, поскольку она естественна, и саркс, греховной плотью, которая от нормального пользования земными благами увлекает к противоестественному наслаждению ими. Важность аскетического наставления заключается в подчеркивании целостности человеческого существа, участвующего в своем одухотворении. Преображение тела, его соматического элемента, начавшееся у святых, открывается через хорошо известные явления левитации, свечения и чудотворные способности. В течение земной жизни не только одна душа, но также и тело, омытое слезами покаяния и ставшее воздушным, легким, оказывается погруженным в “пламень божественности”.
Монашеская аскеза, когда она хорошо очищена и сосредоточена единственно на любви, выводит правило поведения, равного для монахов и для жизни мира и в миру; будучи углубленной, она открывает свою самую драгоценную тайну. “Те, кто живет в миру, хотя бы и в браке, должны во всем остальном походить на монахов”. Корнем всякого существования является любовь к Богу, “Которого нужно любить, как любят свою невесту”. Превосходство умного созерцания или любви – такой вопрос не ставится на Востоке. Невозможно ни познать Бога, не любя Его, ни любить Его, не зная Его. Всякое знание является любящим, сокровенная интуиция обладает свойствами познания, харизмами Святого Духа. Мыслить Бога и любить Его – это один и тот же акт мистического соединения. Состояние супружеской пары в раю, соединенной с Богом через присущую ей благодать, остается нормой. Через владение-участие человеческая любовь “помнит” о божественном человеколюбии и успокаивается только в Боге. Это – восходящий эрос, притягиваемый Эросом, распятым и закланным. Филтрон, чарующее имя, которое дает любви Николай Кавасила, выражает стремление за пределы самого себя через эпектаз (святой Григорий Нисский). Будучи всецело приношением и жертвой, эта человеческая любовь к Богу является ответом на призыв, восхождением к Возлюбленному.
Именно перед этой тайной, целиком озаренной светом Христовым, понимается столь глубокое высказывание Ш. Пеги: “Нужно совершить над собой насилие, чтобы не верить”.
Глава II. ЭСХАТОЛОГИЯ
К счастью, педагогическая мудрость Церкви никогда не вдохновляла на какой-либо исчерпывающий догматический синтез эсхатологических данных. За исключением членов Никейского Символа веры, которые говорят о Втором пришествии, суде и воскресении, православие не обладает догматическими формулировками. Сталкиваясь с утверждениями о последовательности событий, с библейскими ссылками, ее богословское истолкование и само предание не являются достаточно ясными и единообразными. Существуют вопросы, которые с почтением обходят даже богословы... Однако, “если мудрости и свойственно знание действительности, никто не может считаться мудрым, если он не объемлет в своем гнозисе (познании) также и то, что грядет”.Дело в том, что эсхатологический итог является итогом не только истории, но и Премудрости Божьей. Однако уже апостол Павел утверждает несоизмеримость мудрости Божьей и мудрости человеческой. В некотором смысле только человеческое безумие может предчувствовать неисповедимые пути Божьи. Мы стоим перед основной тайной божественного домостроительства, но как осуществляется согласие Божьей любви и Его правосудия, для нас непостижимо. Итог предполагает антиномическое мышление; однако схема школьных учебников весьма рационалистична и антропоморфна. Отец Сергий Булгаков называет “покаянным богословием” такое упрощенное решение, которое, забывая о тайне Божьей создает юридический кодекс. Так мы выигрываем в ясности, но она является сомнительной. Уместно вспомнить слова апостола Павла: “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!” (Рим.13:33).
“Проходит образ мира сего” (1Кор.1:31), “и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек” (1Ин.1:17). Что-то исчезает, а что-то остается. Мы стоим перед преображением элементов мира. Мифология и наука равным образом знают это. Образ огня используется чаще всего: огонь переплавляет материю, очищая ее, но этот переход к новому состоянию вовсе не совершается в результате эволюции. Существует пропасть. Последний день является совершенно особенным: он не становится вчерашним, т. к. завтрашнего не будет, и он не войдет в число других дней. В результате восхождения бытие отрывается от своей прежней меры. Как говорит об этом святой Григорий Нисский, “десница Божия берет замкнутый круг эмпирического времени и возвышает его до высшей горизонтали”. Этот день замыкает историческое время, но сам этому времени не принадлежит; его нельзя найти на наших календарях и поэтому нельзя предсказать. Это как смерть человека, которая имеет дату лишь для окружающих; но в конце времен окружающих, которые остались бы во времени, больше не будет, поскольку не будет самого исторического времени. Чтобы изобразить пустоту, часто приводят образ пустой бутылки, но забывают, что в этом случае сама бутылка не будет существовать, пустота ее упраздняет. Когда мы читаем, что “у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день”, это вовсе не пропорции 1 к 1000, а образ несопоставимых мер, или эонов. Этот трансцендентный характер конца может быть лишь предметом веры и откровения, и поэтому скептицизм по-своему логичен: “Наглые ругатели... говорящие: «где обетование пришествия Его?"” (2Пет.1:3–4).
Для таких мыслителей, как Огюст Конт, мир наполнен больше мертвецами, чем живыми. Молчание этой огромной и немой толпы тяжелым грузом давит на живущих. Государство “организует” смерть, приукрашивает ее или игнорирует; его гуманное государство стремится уничтожить волнующее осознание смерти. Но сама смерть запрещает любому сознанию организоваться и закрыться в конечном и потому искусственном мире. Парадоксальнейшим образом можно сказать, что смерть – это самая большая скорбь нашего существования, но в то же время именно смерть спасает человека от заурядности, в которой он всегда подвержен опасности потерять свое лицо. После Христа смерть становится христианской, она уже более не захватчица, но великая просветительница. Именно она привносит смысл тайны и измерение глубины в жизнь. Атеизм проповедует двойной абсурд: он выводит жизнь из небытия, из несуществующего, и он уничтожает живое в момент смерти. Не жизнь является элементом небытия, но смерть является элементом жизни. Понять проблему смерти возможно лишь в контексте жизни. Небытие, смерть не могут существовать сами по себе, они являются лишь аспектом жизни, бытия, лишь вторичным явлением – как отрицание, следующее за утверждением, – и в некотором смысле паразитируют на нем.
Нельзя рассматривать смерть как неудачу Бога, т. к. она не разрушает жизнь. Нарушено именно равновесие, и с этого времени судьба смертных является логическим следствием этого. Смерть становится естественной, оставаясь при этом направленной против естества, что объясняет страх умирающих. Смерть – это заноза в сердце существования. Рана так глубока, что требует смерти Бога и как ее следствия нашего собственного перехода через катарсис смерти. Так как христианская athanasia (бессмертие) – это не загробная жизнь души, и Библия нигде не учит о ее естественном бессмертии. Нужно различать между некоторой загробной жизнью, которая является не возвращением в небытие, но неким сокращенным образом существования, поскольку она происходит вне Бога и под властью танатоса-смерти, и, с другой стороны, вечной жизнью, при которой все человеческое существо, тело и душа будут отданы под власть Божественного Духа, pneuma. Евхаристия есть потребление Плоти и Крови Господа, субстанции небесной, но обладающей всей полнотой. Никейский Символ веры ясно исповедует: “Чаю воскресения мертвых”. Но до пришествия Христа состояние смерти, не будучи исчезновением, является распадом, т. к. в нем мы отделены от Бога: “После распада смерти они остались пребывать в смерти и тлении”, – учит святой Афанасий Александрийский. Это состояние, расположенное на границах небытия и бытия.
Слово соединяется с “мертвой” природой, чтобы оживотворить ее искуплением. Воплощение уже есть искупление. Это последнее является только высшей точкой соединения Бога в момент Его смерти с состоянием максимальной степени распада; состояние трупа и сошествие в ад образуют завершение дела спасения. “Он принял тело, способное умереть, чтобы, страдая Сам за всех в этом теле, в которое Он вошел, Он обратил бы в ничто владыку смерти”. “Он приблизился к смерти до такой степени, что соединился с состоянием трупа и даровал природе исходную точку воскресения”. “Он разрушил власть смерти и преобразил тело для нетления”. “Христос преобразил закат в Восток”.
Святоотеческая мысль предельно ясна: бессмертие человеческого существа в его совокупности есть благодать Божия, воскресение, которое является проникновением в человеческое бытие животворящих энергий Божественного Духа, pneuma. Уже для святого Игнатия евхаристия – это φάρμακον ἀθανασίας, лекарство бессмертия, и противоядие от смерти – ἀντίδοτος μὴ ἀποθανει ν (Еф.13:2).
Святые переживают смерть с радостью, ликуя, что они избавляются от груза земной жизни. Смерть есть рождение к истинной жизни и условие воскресения. С этой точки зрения, для святого Григория Нисского смерть есть добрая вещь, ἀγαθὸν ἂν εἶν ὁ Θάνατος. Она больше не страшна. Для мученика она становится даже пламенно желаемой: “В себе я ношу воду живую, которая журчит и говорит изнутри меня: Иди к Отцу”. Нужно прочесть целиком все замечательное повествование о смерти Макрины, написанное ее братом, святым Григорием Нисским:
Прошла уже большая часть дня, и солнце склонялось к закату, но Макрина продолжала оставаться столь же исполненной жизни. И по мере того, как она приближалась к своему отшествию, как если бы заранее видела красоту Жениха, она со все большим пылом стремилась к своему Возлюбленному. И действительно, ее ложе было обращено к Востоку. Когда “сердце уязвлено величием Божьим”, “любовь преодолевает любой страх”. “Яко рая краснейший... показался светлейший, Христе, гроб Твой”, – поет Церковь.
Литургически смерть называется “успением”: часть человеческого существа спит, а часть сохраняет сознание; существо теряет некоторые психические способности, связанные с телом, весь свойственный ему аппарат чувств, так же как и временную и пространственную активность. Это разделение духа и тела. Душа не выполняет более функцию оживотворения тела, но как орган сознания, она остается в духе. Суть здесь заключается в самом категорическом отрицании всякого развоплощения; отделение от тела вовсе не означает его потерю, т. к. воскресение совершает восстановление, воссоединение в плероме (полноте).
Согласно православному учению, если существование между смертью и страшным судом и может быть названо чистилищем, то оно является не местом, а промежуточным состоянием очищения. Это различие весьма характерно для обоих видов духовности. Юридический смысл удовлетворения в богословии искупления (святой Ансельм) остался навсегда чуждым Востоку, так же как и аспект наказания и удовлетворения в состоянии покаяния (в этом мире – в таинстве исповеди или после смерти) и почитание Сердца Иисусова (основанного на том же искупительном аспекте). Это совершенно другое понимание сотериологии. Это хорошо видно в том, как понимается общение святых. Если на Западе оно связано с Церковью и приводит к учению о заслугах – заслуги одних способствуют прощению других, и добрые дела одних благоприятны для других, – то на Востоке оно связано со Святым Духом и является расширением евхаристического общения, в котором Святому Духу предназначено совершенно особое действие – соединять и творить из этого единства не благо чистого сверхдолжного, но внутреннюю потребность Тела – “естественно сверхъестественное” выражение взаимного и космического милосердия, святость. Мы являемся общниками (собратьями, попутчиками) святых, sanctorum socios, потому что мы находимся в сообществе Пресвятой Троицы. Христос есть Посредник, святые – ходатаи, а верные – соработники, synergon и сослужащие литургию, соединенные со всеми в служении спасению. На небесах милосердие сильнее, – и святые души усопших являются, чтобы присоединиться к литургическим собраниям. Святые на небесах участвуют вместе с ангелами в спасении живых, поскольку восточная аскеза – не искупление, а обоживающее одухотворение, и если греки и говорят об очистительных страданиях, то они никогда не говорят о карающем удовлетворении; для них абсолютно невозможно употребить сам термин “очистительное искупление”. Если они и говорят о муках, то считают неуместным отчетливый аспект “удовлетворения” и отвергают любые огненные муки до суда и, следовательно, самым категорическим образом отрицают всякий ignis purgatorius (очищающий огонь) и все римско-католическое учение о чистилище в его юридическом аспекте. Восток, отвергая карательное удовлетворение, учит об очищении после смерти не как о муках, которые очищают, но как о продолжении судьбы, последовательном очищении и освобождении, исцелении. Ожидание между смертью и Судом является творческим: молитва живых, приношения, которые они делают ради усопших, таинства Церкви вторгаются в него и продолжают Господне дело спасения. Настойчиво подчеркивается коллективный, соборный характер ожидания. Это общение в одной и той же эсхатологической судьбе. Здесь исправляется отнюдь не вина, но природа. Это объясняет часто встречающийся образ прохождения через “мытарства” – телонии, в которых бесам отдается то, что им принадлежит и от которых освобождаются, сохраняя лишь то, что принадлежит Господу. Эсхатологическое чувство восточных мыслителей исходит из домостроительства тайны Божьей. Не будучи связанным с эсхатологической метафизикой или физиологией и тем более с физикой душ после смерти, чистилище как участь человека между смертью и Судом есть вовсе не место (души освобождены от своих тел, следовательно, ни пространство, ни астрономическое время к ним не приложимы), но положение, состояние. Речь идет не о мучениях и не о пламени, но о достижении зрелости через освобождение от всякой нечистоты, которая давит на дух.
Слово “вечность” на древнееврейском языке происходит от корня alam, что означает “скрывать ”. Бог облек мраком загробную участь, и не следует нарушать божественную тайну. Однако святоотеческая мысль четко утверждает, что время “между тем и другим” не является пустым: как говорит святой Ириней, души “созревают”.
Литургическая молитва за умерших является очень древним и устойчивым преданием. Повествование о преображении, являющее нам Моисея и Илию, притча о Лазаре и богаче убедительно доказывают, что мертвые обладают совершенным сознанием. Жизнь, проходя через смерть, продолжается (вопрос о судьбе мертворожденных детей, о судьбе язычников находит свой ответ в “проповеди в аду”), и, согласно глубочайшей мысли апостола Павла (1Кор.1:22), даже смерть – это дар Божий, предоставленный в распоряжение человека.
1. Небесное ожидание святых
По поводу состояния между двумя эонами мысль святых отцов хранит глубокое молчание, свойственное немому созерцанию. Святой Амвросий говорит о locus caelestis (небесном месте), где пребывают души. Согласно преданию, это есть третье небо апостола Павла, небо arcana verba (неизреченных слов). Однако подходы к Царствию Божию являются в гораздо большей степени эоническим состоянием, чем топографическим местом. По словам святого Григория Нисского, души вступают в умопостигаемый мир, в град небесных иерархий, за пределы неба эфира и светил. Это Эдем, ставший притвором Царствия Божия, называющийся также “лоном Авраамовым”: “в месте светле, в месте злачне, в месте покойне” (молитва за усопших).
Это существование является анагогической (возводящей) дорогой совершенствования и очищения, переходом сквозь пламень мечей херувимов, попаляющих только злых. Очистившиеся души восходят от одного места пребывания к другому (обиталища – mansiones Амвросия), последовательно переходят через посвящение в небесную тайну и приближаются ко Храму, к Агнцу. Святые отцы называют также Царствие Божие Духом Святым. В Нем ангелы и люди вступают в предварительное взаимообщение и под пение Свят, Свят, Свят вместе восходят через притвор “Дома Предвечного”. Это святилище, куда входит Господь (Евр.1:24) и где “раненые друзья Жениха” соединены в Communio sanctorum (общении святых), вокруг кровоточащего сердца Theos-Anthropos (Бого-Человека).
Это еще развоплощенная жизнь, облеченная в присутствие Христово, прославленная плоть Которого восполняет обнаженность душ. Внутренние чувства духа постигают незримое. Молитвенное общение с земной Церковью предполагает активную память в лоне предварительного “субботнего покоя”: “мертвые, умирающие в Господе... успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними” (Откр.13:13). Это активное ожидание, пока Церковь облекается в виссон чистый: праведность святых (Откр.13:8). Слова “я сплю, а сердце мое бодрствует” (Песн.1:2) говорят о бодрствующем сне “малого воскресения”. Души проходят ступени, но находятся в ожидании Дня Господня, “т. к. лишь единое тело ожидает... совершенной красоты”. Тайна тесного единства Христа и Его Церкви есть тайна всего Тела, “связанных снопов сжатых хлебов” (святой Кирилл Александрийский), и лишь в этой полноте открывается бездна Отца; взгляд всех существ направлен на этот последний момент. Евхаристия уже готовит нас к этому, и само имя Церкви обретет все свое значение лишь в момент всеобщего воскресения, через созидание Totus Christus (всецелого Христа). Молитва живых за умерших и молитва умерших за живых наполняет ожидание и обусловливает Communio sanctorum (общение святых). Это история в качестве эсхатологического Кануна, который является не проекцией в будущее, но освящением настоящего через деятельное участие всех – живых, мертвых и ангелов – в единственной судьбе человека во Христе. Это не эволюция (внешнее развитие), но инволюция (внутреннее развитие), стремящаяся к своей плероме. Высшая цель святых – не только соединиться с Пресвятой Троицей, но и “выразить само единство Пресвятой Троицы”.
2. Второе пришествие
Вознесение предполагает Второе пришествие. Христос все тот же, но уже больше нет кенозиса: это ослепительное явление Христа во славе, очевидное для всех. Невозможно будет не знать Его. Его пришествие уже несет непосредственный суд над всеми теми, кто сомневается; но Его видение предполагает изменение природы человека. Последние события, катаклизмы еще принадлежат истории. Однако увидит Второе пришествие уже не исторический мир. Пришествие совпадает с изменением мира: “все мы изменимся” (1Кор.13:51), “мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе” (1Сол.1:17).
Воскресение является всеобщим и касается “всех, находящихся в гробах” (Ин.1:28). Одни ожидают его с радостью, другие боятся и почти сопротивляются. По словам апостола Павла, в зародыше семени заключена энергия, которую Бог пробуждает: “Сеется тело душевное, восстает духовное” – “облеченное в бессмертное” и “образ небесного” (1Кор.13:44). Душа вновь обретает свое тело; облик, конкретное состояние воскресшего тела, возраст являются вопросами без ответов, поскольку они касаются трансцендентного опыта и призывают нас “почтить это в безмолвии”. Воскресение – это высшее сверхоткровением ὑπερύψωσις, которое вырывает существо из его собственной меры. Десница Божия берет свою добычу и возносит ее в неизвестное измерение. Более того, можно сказать, что воскресшее тело расцветет в присущей ему полноте, оставаясь при этом совершенно тождественным самому себе. Святой Григорий Нисский говорит о печати, о чеканке, которая соответствует облику тела и которая позволит узнать знакомое лицо. Тело будет подобным телу воскресшего Христа, лишенному тяжести и непроницаемости. Аскеза уже в этой жизни постепенно переводит в состояние предвоскресения (2Кор.1:18). Апостол Павел говорит об искусстве видеть себя “открытым лицом”, и суд состоит во всецелом видении всего, что есть в человеке. Святой Исаак говорит также о суде попаляющей любви: та же любовь “становится страданием осужденных и радостью блаженных”. “Грешники в аду не лишены божественной любви”, но удаление от источника, скудость, пустота сердца делают их неспособными ответить на любовь Божию, порождают страдания, т. к. после откровения Божьего уже невозможно не любить Христа.
Евангелие использует образ отделения овец от козлов (Мф.13:32). Не существует совершенных святых – равно как и во всяком грешнике есть хоть какие-то крохи добра, что, по словам отца Сергия Булгакова, позволяет рассматривать перенесение понятия суда внутрь: разделение происходит не между людьми, но внутри каждого человека. Точно так же, с этой точки зрения, слова о разрушениях, уничтожении, второй смерти, относятся не к человеческим существам, а к бесовским элементам, которые они несут в себе. В этом состоит смысл огня, который скорее очищение и исцеление, чем мука и наказание. Отсечение члена – это не исчезновение человека, но страдание вследствие его умаления. По справедливости, все должны идти в ад, но в каждом есть частицы рая и ада.
Божественный меч проникает в человеческие глубины и совершает разделение, которое открывает, что данное Богом как дар не было принято и осуществлено, и именно эта пустота составляет сущность адских мук, как и неосуществленная любовь и трагическое несоответствие между заданным образом Божьим и неосуществленным подобием Ему. Сложность переплетения добра и зла во время земной жизни делает всякое юридическое понятие неприменимым и ставит нас перед величайшей тайной божественной Премудрости.
Вечен ли ад? Прежде всего, вечность не является мерой времени, и тем более не является дурной бесконечностью, отсутствием конца. Бесконечность – это божественное время; она является качественной определенностью, и можно сказать, что вечности рая и ада различны, т. к. невозможно понимать бесконечность как пустую форму, независимую от своего содержания (Мф.13:34–41). Согласно еврейскому менталитету, не существует независимой природы, она создана на пользу человека и она является элементом его истории. Не существует никакого чисто космического эволюционизма, а имеется экзистенциальная инволюция, сосредоточенная на человеке и открытая очеловечиванию. Библейское время не является объективным, временность есть одна из структур человеческой судьбы, принцип ее направленности. Человек не подчиняется ему, но управляет им своей определяющей интенциональностью. Мессианизм, помещенный как ось истории, подчиняет время пророческому и священническому действию. Человек творит историю, осуществляя ценности, которые переходят границы времени. Все достигает высшей точки в мессианском присутствии Христа, в котором время соединяется по вертикали с вечностью и, следовательно, меняет этим свое собственное качество.
Распространенная концепция вечных мук является лишь школьной точкой зрения, упрощенным богословием (карательного толка), которое не принимает во внимание глубину таких текстов как Ин.1и Ин.13:47. Можно ли представить, что рядом с вечностью Царствия Божия Бог готовит вечность ада, что в некотором смысле было бы крушением божественного предначертания, победой, хотя бы и частичной, зла? Однако апостол Павел утверждает обратное (1Кор.13:55). Если блаженный Августин и отвергал “любителей милосердия”, то делалось это для того, чтобы избежать вольности и сентиментальности! С другой стороны, педагогический аргумент страха теперь более не действует, но таит опасность приблизить христианство к исламу. Трепет перед святыми вещами спасает мир от его пошлости, совершенная любовь изгоняет страх (1Ин.1:18).
Возможно следовало бы сказать, что ад находится не в вечности и даже не во времени как в объективном измерении, но в своей собственной субъективности, которая лишает его основания и делает его призрачным, творит из него форму субъективного несуществования.
Пятый Вселенский собор не рассматривал вопрос продолжительности адских мук. Император Юстиниан (который в этой ситуации подобен “праведнику” из истории Ионы, разочарованному тем, что кара не поразила виновных) представил патриарху Мине в 543 г. свое собственное учение. Патриарх воспользовался им, чтобы разработать тезисы против неооригенизма. Папа Вигилий утвердил их. По ошибке их приписали Пятому Вселенскому собору. Это учение является лишь частным мнением, и учение святого Григория Нисского, которое ему противоположно, никогда не было осуждено. Вопрос остается открытым, возможно предоставленный человеческому милосердию. Святой Антоний дает одну из самых глубоких формул: апокатастасис – это не учение, а молитва о спасении всех кроме меня, единственно для которого существует ад.
Сатана в конце оказывается одновременно лишенным мира, объекта его вожделения, и ограниченным в своем собственном бытии. Впрочем оно не является неограниченным. Чистый сатанизм иссякает, когда субъект оказывается без объекта. Сердце же Церкви, ее материнское заступничество, напротив, не имеет границ. Святой Исаак говорит о сердце, горящем любовью к гадам, даже к бесам. Искупление простирается на весь замысел божественного творения. Если смерть вторая и относится к принципам зла, разворачивающимся в пространстве и времени, то в конце их срока эти последние свертываются и исчезают навсегда. Если свобода и допустила временное повреждение, то итог находится в руках Божьих. Иисус-Спаситель на древнееврейском языке означает Освободитель и, как замечательно говорит об этом Климент Александрийский, “так же как воля Божия есть деяние и зовется “мир”, так же и Его промысел есть спасение и зовется “Церковь””.
3. Mysterium crucis
Мир спасается лишь во Христе, “единственном желанном сердцу Имени”; “нет ни в ком ином спасения... нет другого имени, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись” (Деян.1:12). Поэтому “тот, кто познал тайну креста и гроба, знает основополагающую суть всех вещей... и тот, кто посвящен в тайну воскресения, знает о конце...”
Но “смерть Христа на кресте есть суд судов”. Необходимо потерять себя, чтобы обрести себя, и окончательное спасение заключается в общем поклонении.
О Ты, Единственный из единственных и Все во всех!.. Незримый разделился, чтобы все спаслись, и даже преисподняя не была лишена пришествия Божия... Молим Тебя... простри Свои могучие длани над Твоею святою Церковью и над Твоим святым народом, Тебе всегда принадлежащим. Простирая Свои святые руки на древе, Христос раскрыл два крыла, правое и левое, привлекая к Себе всех верующих и покрывая их, как мать защищает своих детей. Так пожелало божественное человеколюбие. “Бог долготерпит” и дает таинственную отсрочку, т. к. именно человеку подобает “желать пришествия Дня Господня”, очутиться уже внутри Второго пришествия, как ангелы спасения, о которых говорится в Херувимской на литургии. Речь идет о “силе нашей милосердной любви”, об этих “рождениях” через веру, которые нам принадлежат целиком и которые направляют мир к пришествию Господню. Тайные всходы подготавливают “весну Святого Духа”, ликование святых. Пасхальная радость изливается в “новых созвучиях”, и в ответ усталому пессимизму провозглашает и будет провозглашать крылатые слова Оригена: “Церковь исполнена Святой Троицы...”
Братья, я знал человека, плачущего об одном ближнем, стенающего по поводу другого до такой степени, что он в некотором смысле облекся в них и вменил себе самому прегрешения, которые они совершили... Я знал человека, который с таким пылом желал спасения своих братьев, что часто со жгучими слезами от всего сердца и с избытком усердия, достойным Моисея, молил Бога, чтобы либо братья его были спасены вместе с ним, либо он был осужден вместе с ними. Ибо он был связан с ними во Святом Духе такими узами любви, что не хотел даже войти в Царство Небесное, если бы для этого надо было разделиться с ними. Это чудо деятельной надежды на спасение других. Наша вера во Христа соединяется с Его верой в Его Отца; слова πρὸς τὸν Θεός из пролога апостола Иоанна являют нам Слово “к Богу, пред Богом, со взором, устремленным на Его лик, говорящее Ему: вот, Я и дети, которых дал Мне Бог”. И теперь все новое, т. к. наша вера стала Его верой и “поэтому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам” (Мк.13:24).
Подобная вера выходит за пределы истории; руки Божьи, Сын и Святой Дух, несут судьбу всех к порогу бездны Отца, безмолвие которой звучит из ее поглощающей близости. Апостол Петр говорит об этом: “Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб... Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия” (2Пет.1:9–12). Так как сей День есть не только цель или конец – сей День есть Плерома.
Глава III. ПРАВОСЛАВИЕ И ИНОСЛАВИЕ
До великого разделения между христианскими Западом и Востоком множественное число – “Церкви” – относилось ко многочисленным поместным проявлениям одной и той же единственной Божьей Церкви, единой, святой, соборной и апостольской. После отделения от православного Востока Римская Церковь делится на католичество и протестантизм.Если в начале конфликта богословские и не богословские факторы переплетаются между собой, то позднее, в результате изоляции и удаления во времени, неизбежно возникает определенное напряжение по поводу дискутируемых пунктов, и теперь вопрос разделения является прежде всего догматическим.
Амстердамская ассамблея (Первая Ассамблея Всемирного Совета Церквей) выявила сосуществование внутри экуменизма двух традиций – “кафолической” и “протестантской”. Для всего течения протестантской мысли разделение христианского мира ставит этическую проблему: грех непослушания и отсутствие братства взывают к усилению милосердной любви. Слово осуждает нарушение единства и мира и призывает Церкви открыть себя и таким образом очутиться за одним столом. Однако протестантская Тайная вечеря, “открытая” всем, вовсе не является решением проблемы экуменизма, она касается лишь различных фракций протестантизма. Необходимо понять, что речь здесь не идет лишь об одних канонических запретах или об отсутствии желания единства. Речь идет о том факте, что “кафолик” не находит в протестантской Тайной вечере составляющих элементов “кафолической” евхаристии. Один из этих элементов – апостольское преемство и епископство – свидетель апостольской евхаристии. Она, как таинство Церкви, подразумевает предварительное всецелое согласие в полноте веры. Уже для святого Игнатия Антиохийского согласие в правилах веры является условием для того, чтобы приобщиться Богу; существует внутренняя потребность полностью быть в согласии с учением своего епископа; только это согласие в вере обеспечивает единство и открывает доступ к евхаристии.
Для “кафоликов” этическое зло является лишь выражением зла, которое находится на ином, более глубоком, уровне. Именно это измерение приводит к порогу Церкви и, таким образом, впервые ставит догматическую проблему во всей полноте апостольского предания, т. к. речь идет не о том, чтобы быть только объединенными, но чтобы быть едиными.
Неверно высказывание о том, что единство дано, и нужно его открыть. Мы хорошо знаем, что оно дано во Христе; но оно лишь предложено как задача, оно лишь возможно в христианском мире, который еще по-настоящему не охристовлен. Невозможно явить то, чего не существует в действительности. Нынешнее единство очень далеко от того, чтобы быть достаточным, т. к. оно является следствием догматического минимализма (формальный текст Библии, Символа веры, крещение, ожидание Царства Божьего). Если политические блоки находят согласие на основе минимума, то всемирная, кафолическая вера требует, исходя из своей природы, единодушно исповедуемой полноты. Сакраментальное и иерархическое устройство Церкви, основополагающее значение соборов и содержание их определений догматически обусловливают единство, sine qua non (без которого нельзя).
По своей природе Церковь не может быть разделена. Христианский же мир, напротив, глубоко разделен и раздроблен. Перед лицом одного и того же Бога мы являемся различными христианами, и различие касается даже самого опыта веры, церковного опыта познания Бога-Слова. “Познайте истину, и истина сделает вас свободными” подразумевает “познайте истину, и она научит вас истинной любви” – как раз той, к которой призывает дьякон перед исповеданием Символа веры: “Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы”. Истинная любовь исключает всякий компромисс и направляет всех к полноте веры.
1. Исторический план
Каноническое сознание ограничивает и очерчивает пределы видимого тела Церкви. В этом историческом плане, где царит домостроительство воплощения, некоторый фанатизм вполне уместен; если он лишен всякой враждебности, он является безраздельной верностью своему собственному преданию, вере своих отцов: “Ревность по доме Твоем снедает меня” (Пс.13:10). Самое четкое разграничение между православием и инославием обретает здесь все свое спасительное значение. Напротив, знаменитая “теория ветвей” (каждое вероисповедание обладает только частной истиной, и лишь их сумма составляет истинную Церковь) оправдывает и благоприятствует бесконечному дроблению “Церквей” и в конце концов ведет к христианству без Церкви.
Всякое вероисповедание в своем ярко выраженном типе представляет индивидуализацию единого откровения сообразно духу, свойственному каждому из них. Так например, у римо-католиков сыновняя любовь, направленная на ипостасированное начало отеческой власти, – это Церковь, которая учит и которая повинуется; сакраментальное поклонение Слову у реформатов – это Церковь, которая внимает и реформирует себя; приверженность православных свободе детей Божьих, расцветающей в литургическом общении, – это Церковь, которая воспевает Божие человеколюбие. Но еще до всякого разделения, уже в эпоху Соборов, на Востоке интерес оказывается направленным на тайны Божьи и догматические определения, на Западе – на отношение между благодатью и свободой; там – созерцательная и мистическая позиция, здесь – социальная и активная. Блаженный Августин закладывает основы антропологии, святой Ансельм – сотериологии, а святой Фома – гносеологии, которые весьма отличны от основ тех же наук на Востоке (святой Афанасий, каппадокийцы, Климент Александрийский). “В доме Отца Моего обителей много” (Ин.13:2). Различия являют лишь разные аспекты одного и того же богатства, тогда как Дом Божий, Церковь, – един. Грех заключается не в разнообразии, но в противоестественном факте, когда единой Церкви противостоят “многие”, когда в какой-то момент иссякла любовь к единству, пропало само желание быть едиными. По-человечески Восток является виновным в той же степени, что и Запад, и эта общая виновность властно требует самого глубокого покаяния. Окончательно убеждает только Истина, но ее свидетель должен возвыситься до уровня того, что он удостоверяет.
Убежденность внутри каждой Церкви в том, что она содержит всю полноту откровения, доступного человеку – именно этот парадокс лежит в основе истинного экуменизма. Он принципиально отвергает всякий намек на “теорию ветвей”. Действительно, лишь в сознании “абсолютности” своей Церкви, в кафолической вере, что она является единственной истинной Церковью Божьей, проявляется соблазн разделения и впервые по-настоящему ставится истинный вопрос единства. Напротив, для всякого релятивизма и догматического минимализма умножение и раздробление сект является нормальным, и сама проблема органического единства оказывается упраздненной! Федерация Церквей, свободных в своих структурах и исповеданиях веры предстает как единственное возможное решение, при этом подлинное единство переносится на невидимую Una Sancta (Единую Святую). Здесь коренная разница: с одной стороны – живые побеги жизни единого ствола, из которого они исходят, и с другой стороны – ветви, отсеченные и собранные в кучу у подножья дерева; все это являет онтологически различные реальности (образ принадлежит блаженному Августину). Лишь тот, кто осознает полноту своей Церкви, способен по-настоящему страдать, т. к. не уныние из-за недостаточности, но именно боль самой истины вдохновляет на поиски истинного единства без всяких компромиссов. Истина не принадлежит нам на правах собственности; людям не дано построить истину – истина сама порождает своих собственных детей, она предшествует единству и обусловливает его. Вот почему всякая экуменическая встреча требует максимальной зрелости духа и всецелой сознательной чистоты конфессионального типа, абсолютной верности своей Церкви. Но экуменический опыт постоянно соприкасается с тайной Церкви, которая превосходит пределы чисто исторических, логических, формальных менталитетов. Римско-католическая позиция является единственно логичной, если мы целиком находимся в исторической плоскости: она требует безусловного самоотречения и безоговорочного подчинения своему историческому учреждению. Но чистое и простое обращение и безусловное подчинение юрисдикционной власти связаны лишь с вероисповедной миссией и историческим прозелитизмом, служениями, находящимися несомненно вне рамок экуменизма. С другой стороны, часто встречающееся смешение экуменизма со встречами внутри одного и того же вероисповедного направления (например, между лютеранами и реформатами) должно быть отвергнуто, ибо необходим “критерий ереси”, догматической невозможности взаимного причащения, что предполагает непременное наличие трех партнеров для полного экуменического собрания: католиков, православных, протестантов.
Не скудость, которая искала бы восполнения веры, но изобилие нашей Церкви, излияния православия властно толкают нас, православных, “выйти из града” и вступить в возможное общение с инославными. Этот порыв лишен всякого прозелитического рвения, всякого тотального обращения. Мы полностью используем нашу свободу, чтобы свидетельствовать о нашей апостольской вере, и ее любовь внушает нам самое искреннее уважение к свободе каждого.
Однако в историческом плане наряду с сокровищницей веры и ее полнотой существует вся неполнота истины, обусловленная человеческим началом Церкви. Экуменическое общение эффективно помогает нам вновь обретать смирение и становиться более подлинными православными.
2. Эсхатологический план
Православная Церковь, не поступаясь ничем в своей вере, не отступаясь от своих древних канонов, которые запрещают всякое общение (даже молитвенное) с неправославными, вступает в общение, молится с неправославными, участвует в развитии богословской мысли, сотрудничает в социальной деятельности. Подобная позиция, в отличие от римско-католической, буквально следующей исторической традиции, возможна лишь в том случае, если находиться в точке, где пересекаются история и то, что ее превосходит. Только признание этих обоих измерений, исторического и эсхатологического, позволяет лучше постичь природу экуменической надежды и одновременно устранить всякое противоречие с канонами и всякий упрощенный прозелитизм.
Тот же принцип, который утверждает, что “вне Церкви нет спасения”, и отвергает всякий сентиментальный минимализм, как раз в силу своей собственной внутренней диалектики делает непереносимым всякое самолюбование из-за своей собственной полноты. “Кафолическая” направленность способствует и будет способствовать взрыву изнутри всякой ограниченности и прежде всего – что наиболее страшно в духовном отношении – святые отцы называют “авторитмией”, самодовольством. Беспокойство о судьбе мира не находит успокоения в чисто историческом, оно нарастает при приближении “дней отмщения, да исполнится все написанное” (Лк.13:22). Эсхатологическая эпиклеза, маранафа, взывает к особым дарам последних дней: прииди, Дух Зиждитель. И Господь говорит: “Да будет Он с вами вовек”; однако “еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить” (Ин.13:12). С тех пор многие вещи оказались как раз на той высоте, где те же истины начинают лучиться невиданным доселе светом.
Православие несет в себе непоколебимое сознание, что оно является Una Sancta (Единой Святой). Всегда открыта возможность для всех присоединиться к ее благодатному организму. Однако экуменическая проблема заключена в другом. Каждое из трех вероисповеданий утверждает смысл своего бытия в своей вере в собственную уникальность, и абсолютный характер своего собственного Символа веры. Но весь свет полностью принадлежит только великому дню Яхве: “Итак, выйдем к Нему за стан, неся Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего”. Апостольский призыв выйти “за стан” зовет выйти за пределы истории, ее чисто исторических категорий, чтобы вновь обрести “эоническое мышление” и тем самым постигнуть высший смысл первосвященнической молитвы Христа. Правильное ожидание эсхатона не отрицает исторической реальности Церкви, т. к. именно от ее свершившейся полноты мы ожидаем “воскресения мертвых и жизни будущего века” (Символ веры), но как раз эта предельная точка показывает, что надежда состоит вовсе не в том, чтобы утвердиться в течении времени, но в том, чтобы из него выйти.
Может быть, в некотором смысле экуменизм виновен в том, что он нетерпелив, что он заранее предрешает свою цель и помещает ее в истории: единство всех в одной лишь исторической Церкви. “Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные”... В то время как разделение произошло быстро, объединение длится долго и упирается в non possumus (не можем) догматического сознания. Первосвященническая молитва Христа несет в себе основополагающую определенность: “Да будут все едино... да уверует мир” (Ин.13:21). Высшее единство, по самому образу Отца и Сына, подчинено апостольской цели спасения мира. Именно даром, через чистую благодать, Бог по Своему благоволению может сотворить чудо единства. Но высшее свидетельство, без которого Церковь теряет свое призвание быть солью земли и его светом, – это свидетельство, порождающее в мире жажду спасения и Спасителя, которое становится гласом вопиющего в пустыне: “Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему” (Мф.1:3).
Молитва Господня говорит о конечном согласии воли Божьей и человеческой. Таким образом, человеколюбие Отца может рассматриваться как богословская категория экуменизма, а сама молитва как экуменическая эпиклеза. Но не является ли молитва Господня эсхатологической в самой своей сущности?
3. Современное значение
Уже существует практический экуменизм богословов; без этого взаимного обогащения богословской мысли угрожает опасность погрязнуть в безжизненном провинциализме. С другой стороны, экуменизм, вследствие глубокой обеспокоенности за судьбы мира, становится живым вопросом, обращенным к каждой Церкви и требующим ответа, какова ее деятельность в истории, предстает как зеркало ее исторического сознания. Именно здесь общее свидетельство существования Бога и открытое внимание к Его Слову может предоставить исключительные условия, когда Бог обращается не только к Своей Церкви, но к христианскому миру в его целостности, и делает его местом Своей последней вести. Наряду с тайной единения существует, может быть, тайна разъединения, и первая существует лишь в связи со второй.
4. Насущная задача
Все мы объединены вокруг одной и той же закрытой Библии. Как только мы ее открываем, мы следуем нашим собственным преданиям и приходим к различным прочтениям. Экуменизм, исходя из первоначального смысла термина οἰκουμένη (населенные земли христианской империи), организует встречи в пространстве, преодолевая расстояния в рассеянии по горизонтали. Проблема, которая становится насущной сегодня, – это встреча во времени. Время означает предание, и его внимательное изучение является, может быть, наиболее непосредственным методом для того, чтобы приступить к самой тайне Церкви. Первостепенное значение экуменизма заключается в том, что он поставил целый ряд истинных вопросов перед сознанием всей Церкви и потребовал от нее ответа на них. Можно сформулировать некоторые из них следующим образом, чтобы это позволило приступить к истинному экуменическому диалогу.
I. Решающая проблема для всего богословия – это связь между фактом откровения, бывшего в прошлом и его осуществлением hic et nanc (здесь и сейчас). Как сохранить специфику и Священного Писания, и обращенной к современности проповеди, которая никогда не является простым повторением священных текстов? Каково значение и, особенно, обоснование проповеди, богословия и догматов, исходящее из Священного Писания? Чистый историзм либерального богословия и актуалистский монизм так называемого “диалектического” богословия, как кажется, зашел в тупик – может быть, из-за отсутствия истинной диалектики богочеловечества, диалектики “данного” и “совершенного”, содержащейся в догмате Халкидона. Действительно, “Христос обладает двумя природами. Как это касается меня?” – вопрошал Лютер. “Для Лютера тайна воплощения заключена не столько в том, что Бог стал участником человеческой природы, но в том, что Он стал участником человеческого греха”. Карл Барт считает, что христология Лютера, доведенная до своего предела, движется скорее в сторону монофизитства, в то время как христология Кальвина двигалась бы скорее в сторону несторианства. Реформация, как кажется, не придает должного значения троичному равновесию. Именно богословие Святого Духа способно пролить здесь свет. Святой Дух участвует в уникальном богоявлении Слова и возвещает Его, непрестанно актуализируя. Единство источника объединяет акт и актуализацию, traditum (передачу) и actus tradendi (передаваемое действие), сокровищницу и ее всегда современную передачу. Бог говорил во Христе и продолжал во Святом Духе истолковывать Свое собственное Слово, делая Его современным в каждую эпоху с помощью предания. Проповедь Церкви на протяжении истории создает из этого непрерывное предание, просвещаемое Святым Духом в каждый момент исторического существования. Таинства заменяют евангельские “чудеса” и продолжают историческое видимое присутствие Христа, литургическое поминание переживает это присутствие, слово его возвещает. Они вместе создают из этого вечную, непрерывную актуализацию во времени Церкви, которая есть время предания. Внутренняя тождественность всех этих элементов является самой сутью и фактом кафоличности Церкви. Эфесский собор (431 г.) говорит по поводу Никейского собора, что “Святые Отцы были собраны на нем Святым Духом”. Святой Кирилл Александрийский заявляет, что Христос незримо возглавляет и просвещает соборы.
II. Карл Барт обращает внимание на большую двусмысленность в употреблении термина “Слово”, которое может означать вторую ипостась Троицы, трансцендентный акт Бога, который обращается к человеку, Писание и проповедь-толкование.
Внутреннее свидетельство Святого Духа удостоверяет богодухновенный характер Библии, который ни в коем случае нельзя путать с толкованием. Это последнее подразумевает эпиклезу и действие Святого Духа, божественного Истолкователя внутри установленного Тела, Церкви. Дух Истины, таким образом, приносит Свое собственное слово, точнее, “Дух Слова”. Он не добавляет ничего нового к Слову Господню, Он также и не дублирует Его, но истолковывает, через букву сообщает нам его дух. Вот почему Апостольский собор в Иерусалиме употребил формулу “изволися Духу Святому и нам”. Движимые Святым Духом, апостолы создают “апостольское предание” и, таким образом, вводят принцип передачи. Какова же связь между апостольским преданием и преданием Церкви, и где конкретно располагается предание Церкви и предание реформатов? Каков всеобщий критерий соответствия каждой Церкви апостольскому преданию, и кто может это определить? Иерусалимский собор являет апостольское собрание осуществляющим свою власть решать или, к примеру, признать полномочия апостола Павла, “самочинного апостола”, и в этом – власть Церкви. Как она учреждена? Реформация подвергает “исповедание веры” критике, основывающейся на Писании и это – руководство к действию для богословов. Они определяют, например, что средоточие Писания – это оправдание через веру (хотя святоотеческое предание не знает такого церковного положения и находит, что главное – это восстановление всего во Христе) и этим “реформируют” апостольское и святоотеческое наследие. Кто может это обосновать? Оправдание, освящение, sola fide (только верой) и sola Scriptura (только Писанием), semper justus et peccator (всегда праведный и грешный), грех и благодать, – все эти доктринальные понятия являются плодами человеческой работы над священным текстом: его объективная истинность предполагает объективный, церковный критерий. Правило веры, Апостольский символ веры имеет нормативное значение для всех, но он не восходит к апостолам. Каково значение деяний Святого Духа, который говорит в послеапостольской Церкви?
III. “Церковь судится Словом”. Этот тезис ставит альтернативу: или богословы судят епископов, или Святой Дух судит Церковь через Церковь, то есть с помощью Духа Слова. Возвышая Библию над Церковью, мы рискуем не читать ее более в Церкви, в контексте молитвы и литургического поклонения, где “Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” (Рим.1:26).
IV. Sola fide – sola Scriptura (только верой – только Писанием) – и то и другое означает благодать, дар Божий, который предлагается человеку. Человек все свое упование возлагает на Слово, принимает Его, воспринимает Его в своем существе, сам соединяется со Словом. Но может ли восприятие такой всецелой глубины быть пассивным? На действие Бога отвечает человеческая реакция. Сведение всей тайны только к действию Бога, который говорит, слушает Себя и сам Себе отвечает в человеке, как нам кажется, может привести к устранению человека, устранению диалога, – однако Бог обращается к человеку на “ты”.
V. Сводимо ли присутствие Божье лишь к форме Слова? Действительно ли таинства добавляются к Слову для Его более полного подтверждения (“Ларошельское исповедание”, ст. 34)? Однако литургия в своей самой древней апостольской форме, настойчиво подчеркивает исполнение Слова в евхаристии. Господь изъясняет Писания эммаусским ученикам, но только в момент преломления хлеба их глаза открываются. Евхаристия изъясняет Христа, оказываясь в сердце новозаветной вести: Христос не только проповедует, Он отдает Себя на заклание, и именно великое безмолвие Субботы вводит в эон воскресения. Не берет ли свое начало Communio sanctorum (общение святых) в Communio sacramentorum (в общении в таинствах)? Не актуализируют ли таинства дело Христа, подобно тому, как предание актуализирует откровение, приспосабливая его к историческому телу Церкви?
VI. “Все исходит от Бога”. Но после воплощения есть то, что исходит от Бога, и то, что исходит от человечества Христа, и является “нашим” (единосущным нам). Хотя Лютер и заявил, что вопрос о двух природах во Христе его не интересует, однако, с того времени богословская мысль значительно продвинулась, и не выдвигается ли для нашей эпохи во всей своей полноте принцип “богочеловечества”, четко выраженный Халкидонским собором?
VII. Для экуменического диалога небесполезно выяснить оттенки тех же самых терминов на Востоке и на Западе. Так например, “благодать” на латинском языке передает идею прощения и безвозмездности, на греческом (особенно на языке Нового Завета) означает дар и его принятие; “Истина” (veritas) – слово этико-юридического происхождения – для нашего разума есть несомненность, а для греков – это незыблемый принцип сам по себе; “таинство” (sacramentum) на Западе связано со священным и священством; на Востоке “таинство” – это то, что исходит свыше, от Святого Духа; слово “соборность” в русской экклезиологии происходит от “соборный”, “собор”, но означает, в смысле более глубоком, чем какая-либо идея “власти”, принцип единства, который осуществляет “единое” во Христе. В одних и тех же терминах подчеркивается юридическая или онтологическая сторона, что объясняет, почему категории обвинения, показаний и суда, с одной стороны, и категории удовлетворения и заслуги – с другой, совершенно чужды православию. Центральными же являются, напротив, более библейские категории участия и подобия.
VIII. Не является ли характерным для православия то, что вершина его духовности есть исихия, безмолвие духа, которое вводит в обжигающую близость Бога, и что “молитва Иисусова” учит единственному слову, Имени, и в нем – божественному присутствию? После слов и речей апофаза призывает почтить Слово без слов и перейти к другому образу знания через просветляющее причастие.
5. Харизматическое измерение Церкви
Согласно учению святого Киприана, таинства значимы и действенны лишь внутри Церкви: вне Церкви нет никаких таинств. Однако Церковь никогда не разделяла этого учения, и в своей практике она признает, по крайней мере, крещение неправославных, а у раскольников она может признать также миропомазание и священство. Следовательно, существует промежуточное благодатное пространство вне Церкви, где таинство или даже все таинства действительны, и ограничивающий канонический предел не совпадает с харизматическим пределом действия Святого Духа. Если мы утверждаем, что таинства значимы и действенны лишь внутри Церкви, то именно это внутри становится в высшей степени таинственным, т. к. оно превосходит видимые границы канонов. Никакая пастырская икономия никоим образом не может придать внецерковному действию силу таинства, Церковь может признать то, что существует в действительности, или не признать его, но она не может изменить природу действия. Точно так же является очевидным, что обряд принятия неправославного в Церковь тоже не может задним числом дополнить и сделать значимыми прежние неполные действия.
Блаженный Августин считает, что таинства раскольников являются значимыми в силу единства Святого Духа, но они не действенны из-за нарушения мира (т. к. Церковь есть “единство духа в союзе мира” (Еф.1:3), что являет концепцию ex opere operato. К счастью, никакая Церковь никогда не доводила эту концепцию до ее логического предела, который являлся бы взамоотрицанием всякой освящающей благодати, отрицанием единого христианского мира.
Неправославные, по их наименованию, не находятся более в Православной Церкви, но сама Церковь, вне зависимости от их отделения, продолжает присутствовать и действовать при наличии веры и правильного стремления к спасению. Мы знаем, где Церковь есть, но нам не дано выносить суд и заявлять, где Церкви нет.
6. Православное присутствие
Поскольку Римско-католическая Церковь не участвует в экуменизме, только православие обусловливает само его существование и спасает экуменизм от сползания к панпротестантизму. Основное заявление Торонто – “вступление Церкви во Всемирный Совет не влечет за собой того, что она будет отныне считать свою концепцию Церкви относительной” – вполне удовлетворяет православие. Будучи безгрешной в своей божественной части, непогрешимой в чистоте своей веры и своей экклезиологии, Православная Церковь считает всякое инославие явлением своей собственной жизни, происходящим внутри ее исторической реальности. Каждый крещеный христианин, исповедующий троичную веру, является членом, более или менее оторванным от православия, более или менее отдаленным от его евхаристического сердца. Именно в силу любви исключается всякое рвение индивидуального прозелитизма; никакого отречения от начал своей веры, но опирающийся на предание отказ от некоторых методов свидетельства – от тоталитарного униформизма, преждевременного унионизма и обскурантистского интегризма.
Экуменические усилия, обращенные к преданию, могли бы быть в значительной степени облегчены, если бы Реформация обратила внимание на фундаментальное значение священства, установленного божественным актом в качестве свидетеля, действующего прежде всего в евхаристическом собрании и как правила веры, и если бы Рим обратил внимание на основную ценность церковной жизни великой эпохи до разделения, а именно – высший авторитет соборов, общение Тела. Непогрешимость папы может стать в этом случае местным преданием. Наследие святых отцов открыто еще не в должной мере. Надо, чтобы это открытие стало источником самой силы святых отцов, творческого продолжения предания. Но прежде мы должны все вместе обратиться к источникам Священного Писания и святоотеческого предания соборов, к духовности, вновь питаемой из прежнего источника, т. е. вновь сосредоточенной и направленной на основную тайну Пасхи и Второго пришествия, к подлинной встрече в общем сокровище самой жизни. Подобное возвращение к источнику становится единственно эффективным для великого дела христианского единства.
Неоднократно было особо подчеркнуто привилегированное место православия. Безысходный конфликт между протестантскими и католическими богословами часто происходит от употребления одних и тех же категорий мышления. Православие предлагает отличную от этого святоотеческую область, где те же самые проблемы могут ставиться по-иному и получать иначе непостижимые решения. Такова, например, проблема веры и дел, свободы и благодати, авторитета и пророчества, безбрачия и брака. И, наконец, оно не требует никакого подчинения власти исторического учреждения, но призывает принять истину (например, Никейский символ веры и определения семи Вселенских соборов). Здесь не богословы предъявляют свои требования, а сама Истина приемлет и вводит в согласие с православием. Оно никоим образом не мешает сохранять свое собственное историческое лицо и приемлемые традиции своих отцов.
7. Святость
Согласно Священному Писанию, в последние времена действие Святого Духа проявляется в весьма особой манере, что предполагает усиленную молитву и призывание – “экуменическую эпиклезу”, обращенную к Отцу, дабы Он ниспослал Святого Духа на разобщенный христианский мир. Более чем когда-либо мы находимся перед Его тайной: “Твое Имя столь желанно и непрестанно провозглашаемо, и никто не может сказать, что же Оно есть”. Нам, православным, католикам, протестантам, не дано обратить догматические истины в относительные. Лишь Святой Дух может перейти границы, ничего не делая относительным, но все дополняя через соединение всех аспектов христианской веры в своей обладающей бесконечными оттенками полноте.
В день Богоявления Голубь передавал движение, которое несет Отца к Его Сыну. Тот же самый Голубь равным образом поддерживает движение, которое несет нас всех к Слову; поскольку, как об этом говорит Послание к Евреям (Евр.13:14), мы должны “Стараться иметь святость, без которой никто не увидит Господа”. “Тварь не обладает никаким даром, который не исходил бы от Святого Духа, Он есть Освящающий, который соединяет нас с Богом”, – замечает святой Василий. Святой Григорий Нисский и Евагрий непрестанно напоминают нам: “Богослов – это тот, кто умеет молиться”. Возможно, экуменизм страдает от избытка словесного богословия и от недостатка литургического элемента, т. к. споры значительно преобладают над молитвой. Однако “не прейдет род сей, как все сие будет”, “гряду скоро”, “время близко”, – не перестает повторять Евангелие. Более чем когда-либо экзистенциальное, харизматическое преимущество принадлежит святости: именно через своих святых Церковь лучше всего и говорит, и проповедует, и адекватно выражает себя. “Вы имеете помазание от Святого и знаете все” (1Ин.1:20). Помазание, χρι σμα Царства Божьего отмечает святых последнего часа. Принятие Святого Духа и Его даров, наполнение всего существа харизмами, “доколе не изобразится в нас Христос”, становится сущностью христианской жизни более чем когда-либо. “Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия” (2Пет.1:11–12). Именно в этой “событийной” области экуменическое собрание может обрести глубину такую, что станет осуществлением лучезарной любви, “миром в союзе с Духом”, могучим пророчеством Царствия Божия. Именно здесь монашество становится нормативным в своем эсхатологическом максимализме, в своем нетерпеливом ожидании Второго пришествия. Такое состояние духа, которое говорит, что печать помазания дана всем, может возникнуть в любом вероисповедании и более глубоким образом объединить в литургии ожидания и деятельного приготовления, в горячем призывании завершающей эпиклезы. Как замечательно говорит об этом святой Григорий Нисский, названный Вторым Вселенским собором “Отцом Отцов”, “могущество Божие способно создать надежду там, где более нет надежды, и путь в невозможное”. Каждый предел заключает в своем существе запредельное, свое преодоление. “Есть только один способ познать... Это неустанно стремиться за пределы познанного”.
Не следует забывать столь глубокое предостережение святого Максима Исповедника о том, что мы подвергаемся наказанию “не только за совершенное зло, но также и за упущенное добро и за то, что мы нелюбим ближнего своего”.
Может быть, следует предоставить место образу, который может сказать больше, чем слова. Православные Церкви являют внутри себя иконостас, стену, отделяющую алтарь от центрального нефа, Царствие Божие от мира. Вначале это была невысокая преграда, отделявшая народ от алтаря, чтобы поддерживать необходимый порядок во время служб. Со временем литургический гений украсил эту разграничительную линию некоторым количеством икон, расположенных в свойственном им порядке и покрывающих все пространство иконостаса. Христос Деисуса восседает в сияющем центре, и все пространство вокруг занимают святые, в которых поет и отражается Его свет. Весь этот ансамбль заставляет нас внезапно увидеть чудесное превращение: то, что вначале было разделяющей стеной, становится мостом, Христом, состоящим из Его святых, переходом – Пасхой – всех нас и каждого к Царству Божьему.
Таким образом, все и всякий призваны углубить огненное присутствие Христа, Его рождение-пришествие через веяние Святого Духа. И именно на уровне чуда этого духоносного рождества – суть Царства Божьего – разделение может превратиться в связь и единство. Православные, католики и протестанты, шествуя по пути святости до конца, которым является Христос, могут обрести друг друга, подобно живым иконам, соединенным на иконостасе храма Божия, Царские врата которого открыты бездне Отца.
Святой Григорий Нисский, Что значит имя и название христианина, P.G. 46, 244 С.
Ориген, Избранные толкования на Псалмы, 23, 1, P.G. 12, 1265.
Слова преподобного Симеона и святого Иоанна Лествичника, в: Добротолюбие, London, 1951, р. 111, 127, 229.
Современным представителем этой теории является Д. Мережковский (см.: Тайна Трех, 1925).
“Ecclesia et nunc et regnum Christi, regnumque cœlorum” (“Нынешняя Церковь есть Царство Христово и Царство Небесное”) (Блаженный Августин, О граде Божьем, I, 29, гл. 9, н. 1).
Можно процитировать слова Луази: “Ждали Царства Божия, а явилась Церковь” (Loisy, L’Evangile et l’Eglise, 1902, p. 111).
Этот термин был переиначен Соловьевым в смысле действия на Бога; в действительности, речь идет о синергии божественных энергий и творческого духа человека, стремящегося к Царствию Божию.
Минуций Феликс, Октавий, 34.
Святой Григорий Нисский, На Песнь Песней, Слово 4, P.G. 44, 835 CD.
Эйнштейн, цитируемый Ф. Франком (Ph. Franck, Einstein, sa vie et son temps, эпиграф).
L. de Broglie, Continu et Discontinu, p. 98.
Там же.
В философии Рене Ле Сенн (René Le Senne, Obstacle et valeur: Le Devoir), перспектива “богочеловеческого отношения” возвышается до метафизики, где философская речь и медитация преобразуются в молитву. Это также и “всецелое присутствие” Лавелля, которое пробуждает молитвенное состояние (См.: P. Evdokimov, “L’adoration liturgique dans l’Eglise d’Orient”, in Verbum Caro, № 3536, 1955).
Léon Bloy, La Femme pauvre, Paris 1951, p. 279.
Ch. Péguy, Le Porche du Mystère de la deuxième Vertu, Paris 1929, p. 15.
См.: Н. Marrou, De la connaissance historique, Paris 1954; R. Niebuhr, The Nature and Destiny of Man, Scribner’s New York 1943; O. Cullmann, Christ et le temps, Neuchâtel 1947; K. Lowith, Meaning in History, Chicago Press, 1949; L. Bouyer, “Christianisme et Eschatologie”, in: Vie Intellectuelle, 1948; G.Thils, Théologie des Réalités terrestres, Paris 1949; J. Picper, La Fin des Temps, Paris 1953; H. v. Balthasar, Théologie de l’Histoire, Paris 1955; J. Daniélou, Essai sur le Mystère de l’Histoire, Paris 1953; J. Daniélou, “Christianisme et Eschatologie”, in Das Konzil von Chalkedon, Würzbourg 1954; J. de Senarclens, Le Mystère de l’Histoire, Genève 1949; статьи I. Malevez, in: Nouvelle Revue théologique, LIX, LXXI (1937, 1949); R. Mehl, “Temps, Histoire, Théologie”, in: Verbum Caro № 6, 1948; Em. Brunner, “La Conception chrétienne du temps”, in: Dieu Vivant, 1949; P. Ricœur, “Le christianisme et le sens de l’Histoire”, in: Histoire et Verité, 1955; о. С. Булгаков, Невеста Агнца, YMCA-Press, 1945.
Ницше подписывает свои письма “Распятый” (см. К. Jaspers, Nietzsche et le christianisme, Paris 1949, p. 102).
См.: Dom Célestin Charlier, Typologie ou Evolution, Ed. Maredsous; La lecture chrétienne de la Bible, Bruxelles.
Проповедь на Песнь Песней, P.G. 44, 1043 В.
Святой Григорий Нисский, Против Апполинария, P.G. 44, 1152 С.
Феодорит, Против ересей, т. 11, P.G. 83, 492 А-В, 429 D.
H. de Lubac, Amida, Paris 1955, p. 306.
Ср.: A. Cuttat, La Rencontre des Religions, Paris 1957; Louis Massignons, “Hallaj, matyr mystique de l’Islam”, in: Dieu Vivant, № 4.
Ср.: Еп. Кассиан, Царство Кесаря перед лицом суда Нового Завета, Париж, 1949; М., 2000.
Выражение принадлежит В. Эрну, русскому философу, который создал целую теорию катастрофического прогресса, тему, весьма характерную для русской мысли (см.: P. Evdokimov, “Les courants apocalyptiques dans le pensée religieuse russe”, in Foi et Vie, № 4, 1954; также В. Zenkovsky, “L’eschatologie dans la pensée russe”, in La Table ronde, № 110, 1957).
Святой Ефрем Сирин, цит. о. Георгием Флоровским, Восточные Отцы IV века, Париж, 1931 [репринтное издание: Москва, 1992], с. 232.
Николай Кавасила, О жизни во Христе, фр. пер. Broussaleux, Amay, pp. 97–98.
Святой Симеон, Гимны божественной любви.
Святой Иоанн Златоуст, Проповедь на Послание к Евреям, 7, 41.
“Совершенна та душа, чья сила полностью обращена к Богу” (Святой Максим, Сотницы о любви, 3, 98, P.G. 90, 1048 А).
Ch. Péguy, Porche du Mystère de la deuxième vertu, (Euvres complètes, p. 175.
Святой Григорий Нисский, Против Евномия, P.G. 45, 580 С.
Святой Григорий Нисский, На Псалмы, P.G. 44, 504 CD.
Слово о воплощении Слова, 5.
Слово о воплощении Слова, 20.
Святой Григорий Нисский, Катехизис, 32, 3.
Святой Кирилл Александрийский, На Евангелие от Луки, 5, 19; Пасхальная беседа, XVII.
Климент Александрийский, Протрептик, гл. 114.
Беседа о совершенстве, P.G. 46, 877 А.
Святой Игнатий, Послание к Римлянам, 7, 3.
P.G. 46, 984 В.
Преподобный Макарий, Беседы, т. 6.
Преподобный Антоний Великий, Добротолюбие, т. 1, с. 131. О любви и страхе см.: Oscar Pfister, Das Christentum und die Angst, Zürich 1944; Paul–Lowis Landsberg, Essai sur l’expérience de la mort, а также Problème moral du suicide, Paris 1951.
Амвросий, P.L. 15, 1723; 16, 511; Блаженный Августин, P.L. 33, 87; 38, 1044.
Святой Василий, О Духе Святом, гл. 2, 6, н. 61.
Ориген, О молитве, P.G. 11, 553.
Против ересей, P.G. 7, 806.
Учение, разделяемое почти всеми восточными отцами: Ориген, Против Цельса, II, 43; Святой Ириней, Против ересей, V, 31, 2; IV, 27, 2; Климент Александрийский Строматы, VI, 6; также говорит об апостольской проповеди в аду; Святой Иоанн Дамаскин, "Точное изложение православной веры", III, 29; также и оба Григория, святой Максим и т.д.
Ср. Jean Daniélou, Platonisme et Théologie mystique, Paris 1944; ch. III, “Le Paradis retrouvé”.
Ориген, Беседа на книгу Левит, Проповеди, 7, 2.
Святой Максим, Толкования к трудным местам (Ambigua), P.G. 91, 1196 В.
Святой Григорий Нисский, Против Евномия, P.G. 45, 697 С.
Об устроении человека, гл. 25, 27.
Энергия отталкивания, которая делает все плотным, непроницаемым, уступает место энергии одного притяжения и взаимопроникновения всех и каждого (см: Н. Лосский, “Телесное воскресение”, в: Путь, 1931; на англ. яз. в: Anglican Theological Review, 1949.
Wensinck, XXVII, p. 136.
Невеста Агнца, Париж: YMCA-Press, 1945 (глава III об эсхатологии).
Святой Григорий говорит об искуплении даже демонов (Беседа на Воскресение Христово, P.G. 46, 609 С–610 А). Святой Григорий Назианзин упоминает апокатастасис в Беседах, Слово 40, 36, P.G. 36, 412 Редакция «Азбуки Веры» Святой Максим Исповедник призывает “почтить это в безмолвии”, т. к. разум толпы не способен постичь глубины слов (Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, 43, P.G. 90, 412 А); неблагоразумно открывать невеждам суждения о бездне милосердия (Сотницы гностические, 2, 99, P.G. 90, 1172 D).
Педагог, 1, 6.
Святой Максим, Сотницы глав гностических, 1, 66, P.G. 90, 1108 Редакция «Азбуки Веры»
Святой Максим, Недоуменные вопросы к Фалассию о Святом Писании, P.G. 90, 408 D.
Святой Иоанн Златоуст, 6-я беседа на Пасху (вероятно принадлежащая святому Ипполиту и ошибочно приписываемая святому Иоанну Златоусту), P.G. 59, 743–746.
Святой Ипполит, Об Антихристе, гл. 61.
Святой Григорий Назианзин, Беседы, P.G. 36, 620 D.
Святой Климент Александрийский, Протрептик, гл. 1.
Избранные толкования к Псалмам, 23, 1, P.G. 12, 1265.
Преподобный Симеон Новый Богослов, Беседы, 22, P.G. 120, 423–425.
Святой Кирилл Иерусалимский, 1-е Слово огласительное, н. 6.
Ср.: Еп. Кассиан, “Тайна веры”, в: Церковный вестник, № 66.
Послание к Ефесянам, III, IV.
Беседы, 46, гл. 8. н. 18, P.L. 38, 280–281.
Апостольские правила, 10, 11 и 45; 33-е правило Лаодикийского собора.
Исповедание бездны Отца; “освящение Имени” было уже для евреев внутренним деянием мученика; Царствие, отождествляемое со Святым Духом; окончательное согласие воль, завершающее историю; сверхсущностный, высший Хлеб, последняя Трапеза, без которой последнее время было бы нежизнеспособным; искушение времени антихриста; троичное славословие Царствию Божию.
Творения, Изд. Erlangen, 35, 207.
Maurer, Von der Freiheit eines Christenmenschen, Gœttingen 1949, p. 39.
Kirchl. Dogm., 1, 2, p. 27.
Denzinger, 125.
Послание 55 о Символах, P.G. 77, 293.
Святой Ириней энергично предостерегал от интегризма, который мог привести к отрицанию пророчества в Церкви под предлогом ложного предостережения (Против ересей, III, 11. 9).
Mansi, 13, 293.
Об устроении человека, P.G. 44, 128 В.
О жизни Моисея, P.G. 44, 401 В.
Беседа на Песнь Песней, Проповедь 12, P.G. 44, 1024 ВС.
Подвижническое слово, Книги Аскетические, P.G. 90, 932 С.
Информация о первоисточнике
При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:
"Православная энциклопедия «Азбука веры»." (http://azbyka.ru/).
Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).